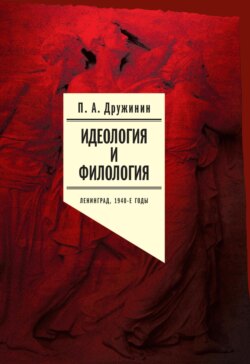Читать книгу Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы. Документальное исследование. Том 2 - Петр Дружинин - Страница 8
Глава 5
1948 Год: Критика уступает место политическим обвинениям
«Специалисты» по низкопоклонству: М. К. Азадовский, В. Я. Пропп, Б. М. Эйхенбаум…
Оглавление10 января «Литературная газета» опубликовала статью литературоведа В. И. Бутусова «“Специалисты” по низкопоклонству», посвященную ученым-фольклористам. Этот ныне забытый автор – характерный представитель мощного пласта советского послевоенного литературоведения, был тесно связан с Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и, как было принято в таких случаях, одновременно трудился на переднем крае советской литературной науки – в ИМЛИ имени Горького[88].
Начинает автор генеалогию «низкопоклонства» от профессора М. К. Азадовского:
«Характер и своеобразие русской литературы нельзя понять, не учитывая ее взаимодействия с устной народной поэзией. Великие русские писатели высоко ценили поэзию народа и пользовались ее сокровищами. Между тем, некоторые ученые “специалисты” рассматривают связь художественной литературы и устной поэзии с ошибочных, ложных позиций.
Известно утверждение М. Азадовского о том, что интерес Пушкина к творчеству русского народа был вызван… влиянием идей, проникающих в Россию с Запада.
Азадовский не один в своих заблуждениях. В сборнике “Песни русских поэтов” (редакция, статьи и комментарии И. Розанова) проф[ессор] Розанов утверждает: “Если сравнить количество песен (Пушкина. – В. Б.), являвшихся подражанием русскому фольклору, с количеством песен, навеянных чужим фольклором, то окажется, что вторых значительно больше”. Следовательно, “русской песенной лирике Пушкин уделял сравнительно мало внимания”.
Путем внешнего арифметического подсчета тем и сюжетов исследователь искажает творческий облик Пушкина, умаляет значение русской народной поэзии для его творчества.
Проф[ессор] В. Пропп в пространной статье “Специфика фольклора” фактически утверждает невозможность изучения народного творчества. Народная поэзия, говорит он, “акт малоизученных форм сознания“. В этой поэзии “поступают так, а не иначе, не потому, что так было в действительности, а потому, что это так представлялось по законам первобытного мышления”. “Это мышление и вся система первобытного мировоззрения должны быть изучены. Иначе ни композиция, ни сюжеты, ни отдельные мотивы не смогут быть поняты”. Так как первобытное мышление, очевидно, кажется профессору непостижимым, то и народное творчество переходит в разряд непознаваемого.
Художественную литературу проф[ессор] Пропп объявляет продуктом “иного”, “высшего сознания”. Таким образом, проф[ессор] Пропп отгораживает ее от народного творчества непреодолимой стеной. Для народной поэзии оказываются неприменимыми методы исследования, принятые для изучения литературы. Художественный опыт поэтического творчества народа изымается из сферы литературоведения»[89].
Затем автор еще раз возвращается к М. К. Азадовскому:
«Возьмем, к примеру, сборник “Фронтовой фольклор”, составленный в 1944 г. В. Крупянской под редакцией и с предисловием М. Азадовского.
В “исследовании”, предпосланном этому сборнику, составитель исходит из тех же антинаучных теорий, по которым поэтическое творчество народа объявляется “переделкой” или “переосмыслением” старого.
В качестве примеров фронтовой песенной лирики составительница сборника приводит образцы “популярнейших песен фронтовой молодежи”, вроде: “За три года в армии вся любовь забудется”, или преподносит “творческую историю” песни о молодом парне, позабытом девушкой.
В качестве “мудрых” народных выражений публикуются: машина системы Рено имеет две скорости: “тпру” и “но” (лошадь); ласкательное прозвище советского ястребка – “Яшка-приписник”. Или: “На бой идти нужно, как к невесте”. Нет нужды приводить все перлы этого сборника, выдаваемые за “фронтовой фольклор”»[90].
21 января 1948 г. большой «поклонник» Б. М. Эйхенбаума – сотрудник аппарата ЦК ВКП(б) Б. С. Рюриков выступил в партийной газете «Культура и жизнь» со статьей «О творчестве Л. Толстого и некоторых его истолкователях». Посвящена она, казалось бы, грядущему юбилею писателя:
«В 1948 году исполняется 120 лет со дня рождения Л. Н. Толстого В связи с этой годовщиной еще более усиливается интерес нашего народа к творчеству великого писателя, возрастает стремление советских людей глубже уяснить историческое место Толстого в развитии русской и мировой литературы. За последние годы появился ряд книг и статей о Толстом, и законен вопрос, насколько отвечают эти работы высоким требованиям, предъявляемым к ним»[91].
Как выясняется из текста статьи, работы этим требованиям не отвечают:
«Некоторые литературоведы в своих характеристиках произведений Толстого отходят от тех гениальных по своей глубине и всесторонности оценок, которые даны творчеству Толстого В. И. Лениным. Работа некоторых литературоведов о Толстом по существу есть не что иное, как попытка смягчить критику реакционных сторон творчества Толстого, уклониться от разоблачения ложных и вредных идей в его мировоззрении»[92].
Таковыми оказываются работы В. С. Спиридонова, Н. К. Гудзия, Н. Н. Гусева и Б. М. Эйхенбаума. Относительно последнего автор пишет:
«Советский литературовед – не летописец, спокойно и равнодушно рассказывающий о писателях прошлого, он сам – носитель и выразитель той высокой идейности, которая всегда отличала передовую русскую литературу. Ленинский принцип партийности литературы требует отчетливого отношения к явлениям прошлого, разъяснения значения передового, идейного творчества, глубокого и боевого раскрытия вредности отсталых, реакционных теорий.
Между тем до сих пор не преодолен ложный академический “объективизм”, и некоторые авторы в “нейтральных” тонах говорят о явлениях, требующих ясной и четкой оценки.
Автор статьи о Толстом в 54‐м томе Большой советской энциклопедии Б. Эйхенбаум, говоря о религиозных исканиях Толстого, ограничивается такой характеристикой:
“В своих религиозно-философских сочинениях Толстой разоблачал церковь, стремясь восстановить чистое (?) христианство с его учением о любви и о ‘непротивлении злу насилием’ ”.
Автор забыл сказать, что в религиозно-философских сочинениях Толстого проповедуется мистицизм, отрицается общественный прогресс, ниспровергается наука, религиозное “очищение” противопоставляется революционной деятельности. Он оперирует словечками о “чистом христианстве”, как будто правомерно само деление религии на чистую и нечистую.
Автор не раскрывает, в чем же вредность толстовского “непротивления злу”. Он забывает слова Ленина, писавшего, что в произведениях Толстого содержится “проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины”.
Так дурной “объективизм” оказывается очень удобной формой умолчания о реакционной сущности толстовщины.
Кому не известно, что представляла собой в истории русской общественной мысли толстовщина? “Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, – и поэтому совсем мизерны заграничные и русские ‘толстовцы’, пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения”, – писал Ленин»[93].
Если указанные статьи В. Бутусова и Б. Рюрикова представляют собой варианты прежних обвинений и даже кажутся сдержанными, то программная статья Ан. Тарасенкова «Космополиты от литературоведения», напечатанная в февральской книжке «Нового мира», выводит обвинения на более серьезный уровень.
Критик Анатолий Кузьмич Тарасенков (1909–1957), ныне известный лишь в качестве выдающегося собирателя русской поэзии ХХ в., в то время занимал входящий в номенклатуру ЦК ВКП(б) пост заместителя главного редактора журнала ССП СССР «Знамя», а все его критические статьи писались исключительно «в духе текущих директив»[94].
Такова и указанная статья, причем термин «космополитизм» вошел в заголовок уже на последнем этапе (номер был подписан к печати 6 февраля), это произошло уже после «публичных чтений» будущей статьи – ее основные положения были обкатаны Анатолием Кузьмичом на партийном собрании московских писателей, посвященном борьбе с низкопоклонством в литературоведении:
«Заслушав и обсудив доклад тов. Тарасенкова “О явлениях низкопоклонства перед Западом в советском литературоведении”, общее партийное собрание московской организации Союза советских писателей отмечает, что в ряде литературоведческих книг и научных трудов, появившихся в последние годы, сказалось влияние враждебных марксизму-ленинизму теорий, сущность которых сводится к преклонению перед западной буржуазной культурой. Это влияние сказалось в книге члена партийной организации Союза советских писателей тов. Нусинова “Пушкин и мировая литература”, в статьях и книгах ленинградских литературоведов тт. Эйхенбаума, Проппа (“Исторические корни волшебной сказки”)…»[95]
Эта значительная по объему (почти полтора печатных листа) статья представляет собой отредактированную стенограмму того самого доклада. Тяжесть политических обвинений этой «критической» стати, неприкрытое заушательство, зубодробительный «дискурс» – даже для того времени такой поток брани еще казался чрезмерным. И хотя главным объектом для избиения, взяв пример с А. А. Фадеева, автор избрал И. М. Нусинова (который, конечно же, не мог оставаться долго на свободе после такого камнепада – 12 января 1949 г. он все-таки был арестован и умер во время следствия), однако досталось и другим историкам литературы, в том числе ленинградским:
«Презрение по отношению к России, ее культуре, ее великим идеям было характерно и для иезуита Бухарина, и для бандитского “космополита” Троцкого. Это грозные напоминания. Они показывают нам, с чем роднится в современных политических условиях дух преклонения перед западной буржуазной культурой и цивилизацией, кому он служит. Под флагом космополитизма действуют сейчас темные дельцы из черчиллевско-трумэновской шайки, всячески стремящиеся ущемить суверенитет малых и больших народов, попрать их национальную самобытность, стереть их национальную культуру, принеся ее в жертву господину доллару.
Нельзя пройти мимо тех тенденций, которые проявились в книге профессора Нусинова “Пушкин и мировая литература”. Эта книга вышла в свет в начале войны, во второй половине 1941 года. В те дни мы воевали, нам было попросту некогда заниматься исследованием пухлых академических литературоведческих трудов. Но пришло время, когда все эти вопросы нужно рассмотреть подробно и обстоятельно. ‹…›
К сожалению, профессор Нусинов не одинок в своих заблуждениях, в своем низкопоклонстве перед Западом, в неумении увидеть и проанализировать самобытный характер нашего искусства, нашей русской культуры, нашей философии, наконец, нашего патриотизма. ‹…›
Какое убожество сводить всю литературу нашего великого народа к перечню бесконечных влияний! Как мало у всех этих “маститых ученых” научной добросовестности, как раболепно они следуют за буржуазной историографией и литературоведением!
Вспомним хотя бы о статье профессора Эйхенбаума, посвященной Толстому. Эйхенбаум – в прошлом один из столпов формализма – в извращенном свете рисует работу Льва Николаевича Толстого над “Анной Карениной”. Широко известны сотни высказываний западноевропейских и американских ученых о том, какое громадное влияние оказал могучий художественный талант Толстого на все развитие мировой литературы. Вместо того, чтобы раскрыть великое значение Толстого для мировой культуры, признаваемое даже нашими врагами, профессор Эйхенбаум ищет литературные источники гениального романа Толстого во французской адюльтерной литературе. Какое убожество мысли, какая псевдонаучная, крохоборческая эмпирика!
“Толстой пишет семейный роман с любовным содержанием, явно следуя западным образцам, – говорит Эйхенбаум. – Толстой в своем романе пошел по пути линии сочетания традиции французского ‘адюльтерного’ романа с английским семейным – в противовес русской прозе 70‐х гг.”
Главным философским учителем Толстого, определившим идейный замысел Анны Карениной, Эйхенбаум считает реакционного мракобеса Шопенгауэра, его мрачную книгу “Мир как воля и представление”.
Даже Дюма-Фис входит в число источников образов Толстого. В одном из писем Толстой пишет, что его “любимица Варя выходит замуж за отрицательного типа, и это вызывает в нем чувство, будто совершается заклание на алтаре”. По этому поводу Эйхенбаум замечает “с ученым видом”: “Эти строки написаны до чтения книги Дюма, а между тем они выглядят отголосками этого чтения, вплоть до слов о человеческом жертвоприношении”.
Как старается Эйхенбаум! Написаны эти строки, как он сам устанавливает, до чтения соответственного места из Дюма, и тем не менее являются его отголосками. Какой вздор!
В этой статье приведена только незначительная часть высказываний наших академических ученых на интересующую нас тему. Их можно было бы увеличить. Позорная, нестерпимая для русского советского человека картина! Какое раболепное ползанье на брюхе перед западной культурой!»[96]
Вскользь разобравшись с лично ему знакомым Б. М. Эйхенбаумом, А. К. Тарасенков целый раздел своей многостраничной филиппики посвящает космополиту В. Я. Проппу:
«А. Фадеев в своем докладе на XI пленуме правления ССП в июне 1947 года говорил об ошибках и заблуждениях академика Шишмарева, который всячески превозносил Веселовского и его школу. Но примеры из Шишмарева бледнеют и отступают перед тем, что написал профессор В. Я. Пропп в своей книге “Исторические корни волшебной сказки”. Книга эта вышла в издании Ленинградского государственного университета тиражом в 10.000 экземпляров (редактор профессор И. М. Тронский). В первой же главе своей книги Пропп приводит многочисленные цитаты из Маркса и Энгельса, объявляя себя их последователем. Но это – лишь внешняя, крайне незатейливая маскировка. На самом деле Пропп продолжает не марксизм, а учение А. Веселовского.
Зависимость Проппа от Веселовского очевидна. В пространной дружески-рекламной рецензии на книгу Проппа, которую поместил в журнале “Советская книга” профессор В. М. Жирмунский, он хвалит “Исторические корни волшебной сказки” именно за то, что автор этой книги следует методологии Веселовского.
“В своей ‘Поэтике сюжетов’, – пишет Жирмунский, – академик А. Н. Веселовский, опираясь на результаты работы этнологов, пытался наметить общую перспективу стадиального развития фольклорных и литературных мотивов и сюжетов, обусловленного закономерным развитием человеческого общества… Эта проблема сохраняет значение и для советской этнографии и фольклористики” (“Советская книга”, 1947, № 5).
Что же представляет собой на самом деле работа профессора Проппа?
Чрезвычайно детально, на протяжении трехсот с лишним страниц своей книги, он исследует мотивы так называемой волшебной сказки. Не думайте, однако, что Проппа интересует русская или, скажем, грузинская, украинская или, наконец, французская сказка. Нет, его интересует сказка вообще. По Проппу получается, будто был когда-то в незапамятные времена некий единый “пра-народ”. От него осталось много сказок, мифов, легенд. Всячески тасуя по методу Веселовского сотни этих сказок и мифов, Пропп устраивает фантастические комбинации. Разные народы, разные исторические эпохи мелькают в его книге, как в калейдоскопе.
Натяжки и вздорные сопоставления несопоставимого не смущают нашего исследователя. Вот Пропп цитирует одну из сказок Афанасьева: “Жена при отправке дает герою цветок. ‘Заткни, – говорит, – этим цветком уши и ничего не бойся!’ – Дурак так и сделал. Стал мастер в гусли играть, а дурак сидит, его и сон не берет”.
Немедленно Пропп комментирует эту русскую сказку: “Здесь поневоле (?! – Ан. Т.) вспоминается Одиссей, так же затыкающий себе уши от сирен. Возможно, что эта аналогия бросает свет на образ сирен, заманивающих героев пением и убивающих его” (стр. 66).
Трудно понять, что общего нашел Пропп между русской сказкой и древнегреческим мифом. Но и этого нелепого сопоставления Проппу мало. От Древней Греции он легко перескакивает к легендам североамериканских индейцев, а от них – к Гильгамешу (вавилонскому эпосу). Что общего между всеми этими совершенно разнородными явлениями – неведомо. Но Проппу нет дела до исторических обстоятельств, породивших тот или иной мотив или сюжет. Его не интересует национальная определенность русской сказки или вавилонского мифа. Убежденный космополит, он тасует эпохи и народы, как колоду карт, не обращая внимания на их самобытность и неповторимость. Ему важно одно – доказать общность всех сказок и мифов мира. “…Ягу ослепляют. “Как она уснула, девка залила ей глаза смолой, заткнула хлопком; взяла свою дитятю, побежала с ним” (Худяков, 52). Точно так же и Полифем (родство которого с Ягой очень близко) ослепляется Одиссеем; в русских версиях этого сюжета (“лихо одноглазое”) глаз не выкалывается, а заливается. Одноглазость подобных существ может рассматриваться как разновидность слепоты. В немецких сказках у ведьмы воспаленные веки и красные глаза, т. е. у нее собственно нет глазных яблок, а есть красные орбиты без глаз” (стр. 59).
Или вот, например, Проппа заинтересовал мотив клеймения героя посредством отрезания пряди волос, который он нашел в одной из русских сказок, записанных Афанасьевым. Тотчас от русской сказки он переходит к лопарскому мифу, в котором рассказывается о смешении крови жениха и невесты перед браком. По Проппу – это одно и то же. От лопарского мифа он легко перескакивает к австралийскому дикарскому обряду, по которому, принимая в родовой союз нового члена, люди пьют кровь друг друга. Тут же ссылка на Швейнфурта, немецкого ученого, исследователя Африки, который отметил обряд смешения и питья крови у негров ньям-ньям, а Велльгаузен (немецкий богослов и ориенталист) у арабов.
Цепь у нашего исследователя замкнута. Родство приемов и мотивов сказки русского народа с каннибальскими обычаями ньям-ньямов, подтвержденное авторитетом Швейнфурта, “доказано”.
Неужели Пропп не понимает, что он лжет здесь на русский народ, на наш прекрасный поэтический эпос, в котором никогда не было ничего общего с каннибализмом?
До чего опускается в своих сопоставлениях Пропп, можно увидеть еще из одного примера. Пропп нашел у Афанасьева русскую сказку, в которой рассказано о том, как живущие в лесной избушке слепые богатыри берут к себе купеческую дочку: “Будь нам заместо родной сестры, живи у нас, хозяйничай… Осталась с ними купеческая дочь, богатыри ее любили, за родную сестру почитали, сами они то и дело на охоте, а названная сестра завсегда дома, всем хозяйством заправляет, обед готовит, белье моет”.
Это – из сказок Афанасьева. В образе “сестрицы”, которая ухаживает за слепыми богатырями, много прелести наивной чистоты русских родовых общественных отношений.
Но что делает с этим мотивом профессор Пропп?
Он тут же сопоставляет образ героини русской сказки с женщинами немецких сказок, которых брали в “мужской дом” в качестве наложниц, проституток. Тут же ссылки на бесчисленные иностранные авторитеты: “У Барро, говорит Щурц, – цитирует Пропп, – половые потребности юношей удовлетворяются тем, что отдельных девушек насильно уводят в мужской дом, где они одновременно служат возлюбленным и получают от них подарки”.
От немецких сказок Пропп опять переходит к русским. На этот раз пермским. А затем к… фольклору Пелейских островов, записанному Фрезером (известный буржуазный ученый-идеалист современной Англии, прославившийся своими антисоветскими выступлениями).
Все эти примеры взяты со страниц 106–107 книги профессора Проппа. Все здесь смешано в одну кучу и объявлено родственным.
И снова русский народный эпос с его мотивами дружбы и товарищества приравнен к воспеванию наложничества и первобытной полигамии.
Книга Проппа – это Веселовский, доведенный до абсурда и мракобесия. ‹…›
Незатейливо прихорашиваясь под марксиста, Пропп пытается возродить в нашей науке худшие черты историко-сравнительного метода Веселовского. Его книга – вредна и ошибочна от первой до последней своей строки. Советские ученые-фольклористы должны сказать о книге профессора Проппа свое резкое и правдивое слово»[97].
Завершает А. К. Тарасенков свою отповедь следующими словами:
«В этой статье приведены лишь некоторые из фактов, говорящих о том, что низкопоклонство перед буржуазным Западом, некритическое восхищение буржуазной культурой, безразличный космополитизм, сведение русской литературы и даже творений ее величайших представителей – Пушкина, Горького, Толстого – к заимствованию у европейцев отмечают многие работы наших литературоведов. Книги профессоров Нусинова и Проппа – далеко не единичное явление. Это говорит о том, что целые участки нашего литературоведения, а вовсе не только отдельные авторы заражены низкопоклонством, связанным с потерей национальной гордости, с потерей чувства советского патриотизма.
Как могло получиться, что Академия наук и Институт мировой литературы, носящий священное для нас имя Горького, успели выпустить огромные тома, посвященные американской и английской литературе, и провалили всю работу по советской литературе? Почему до сих пор не сделано ничего для того, чтобы советская литература стала предметом действительно научного, действительно марксистского исследования? Почему написать хотя бы краткий очерк развития советской литературы и дать монографии о советских художниках слова труднее, чем заниматься кропотливым анализом творчества никому не ведомых третьестепенных деятелей буржуазной литературы XVII или XVIII веков, живших в Англии или во Франции? Почему до сих пор в “академических кругах” считается зазорным и ненаучным, когда авторы диссертаций пытаются избрать темами своих работ явления советской культуры?
Товарищ Молотов в своем докладе, посвященном 30‐летию Октября, говорил: “Нельзя считать случайностью, что ныне лучшие произведения литературы принадлежат перу писателей, которые чувствуют свою неразрывную идейную связь с коммунизмом”. В общем ходе истории культуры творения Горького и Маяковского, Алексея Толстого, Шолохова, Фадеева значат больше, гораздо больше, чем разные американские Мельвили и Ирвинги, Симсы и Эмерсоны, которым посвящено столько внимания в том же выпуске “Истории американской литературы”. Пора это понять и утвердить. Пора влить в наше литературоведение живой огонь современности.
Мы не собираемся охаивать всю нашу советскую науку о литературе. За годы советской власти общими усилиями наших передовых ученых сделано очень много для того, чтобы правильно донести до народа творения русских классиков, дать им обстоятельный классовый и эстетический анализ, очистить их творения от лжи и фальши, которыми их обволакивала буржуазная наука. Наше литературоведение разрабатывает теорию социалистического реализма. Наша живая, активно действующая критика есть инструмент политики партии в области литературы. Но с теми недостатками литературоведения, о которых я говорил выше, дальше мириться нельзя.
Пора покончить в нашей литературной науке с ползаньем на брюхе перед западными образцами. Пора научиться по-настоящему гордиться великими ценностями нашей русской классической культуры, литературы, а также культуры братских народов СССР и родственных нам славянских народов, литература которых, к стыду нашей науки, даже еще не начала как следует изучаться. Пора нашим литературоведам распроститься с ошибками прошлого.
Пора понять, что нет писателей всечеловеческих, без классовых и национальных корней. Пора раз и навсегда расстаться с пережитками сравнительной, историко-культурной школы. Пора понять, что не пресловутые литературные “влияния”, а живая историческая практика классовой борьбы определяла и определяет историю литературы»[98].
Приведенные выдержки из статьи А. К. Тарасенкова даже сегодня производят серьезное впечатление; для современников оно было еще более тяжким. Эта статья, по сути, разверзла шлюзы «критики», и все события в ленинградской науке о литературе с весны 1948 г. представляли собой настоящий погром, закончившийся к маю 1949 г. пепелищем.
Надо ли говорить, что главный читатель страны остался доволен такой статьей? Об этом свидетельствует сам автор: «После того как я сделал в конце 1947 года на партсобрании ССП доклад о низкопоклонстве в литературоведении, Фадеев советовал печатать его. Сначала я сомневался, потом напечатал статью в “Новом мире”. Сталин похвалил мою статью»[99].
А сам А. А. Фадеев написал по этому поводу А. К. Тарасенкову следующую записку: «Толя! Если бы не я, ты просто положил бы свою статью в стол. Я тебя буквально вытащил “из грязи в князи”. То-то![100].
В 1949 г. эта статья в несколько измененном виде вошла в сборник работ А. К. Тарасенкова «Идеи и образы советской литературы», выпущенный в свет издательством «Советский писатель»[101].
А. К. Тарасенков, творчески ретранслируя текущие настроения руководства страны, не был одинок – он был представителем целого отряда пропагандистов. Применительно к работе высших учебных заведений таким программным выступлением явилась статья заместителя министра высшего образования СССР А. М. Самарина «Высшая школа и борьба за приоритет советской науки» в мартовском номере «Вестника высшей школы».
Повышение идеологического градуса было очевидным:
«Растленная буржуазная наука стремится распространить свое тлетворное влияние не только на народы своих стран, она протягивает свои грязные щупальцы к нашей передовой советской науке. Буржуазные ученые приходят в бешенство от одного упоминания, что принцип партийности является основой развития не только науки социалистического государства, но всякой науки вообще. Воплями и лживыми утверждениями о беспартийности, о надклассовости науки ученые капиталистических стран, эти верные прислужники империализма, стремятся внести разброд в ряды прогрессивных ученых. ‹…›
Нашей науке, литературе чужды аполитичность и безыдейность. Изложение любой дисциплины должно быть построено на основе марксистско-ленинской теории, в каждой дисциплине должно быть подчеркнуто преимущество советского строя, обеспечившего невиданный расцвет науки и техники нашей родины.
Не нам преклоняться перед Западом! Не нам, представителям великой страны, где сбылись пророческие слова В. И. Ленина, сказанные на VIII Всероссийском съезде Советов: “Если Россия покроется густой сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии”.
Советские ученые, вооруженные великим учением Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина, гордые за успехи нашей Родины во всех областях хозяйственного и литературного строительства, вдохновляемые и руководимые гением Сталина, в непримиримой борьбе с тлетворной буржуазной идеологией обеспечат дальнейшее мощное развитие нашей социалистической культуры.
Советские ученые – воспитатели народной интеллигенции – еще выше поднимут знамя передовой советской науки, с честью понесут его по пути к коммунизму»[102].
88
Бутусов Виктор Иванович (1913–?) – литературовед и журналист, окончил Литературный институт имени А. М. Горького, получив специальность учителя русского языка и литературы средней школы. С сентября 1939 г. – оперативный сотрудник НКВД в Москве, затем в Белостоке; в 1941–1945 гг. – в действующей армии в качестве оперативного сотрудника НКВД – НКГБ; в мае 1942 г. вступил в ряды ВКП(б); в 1944 г. был ранен, награжден орденом Боевого Красного Знамени. Демобилизован в 1945 г. по ранению в звании майора (Личное дело – АРАН. Ф. 411 (Управление кадров АН СССР). Оп. 39. Д. 227. Л. 1–5). С декабря 1945 г. по декабрь 1948 г. – аспирант филологического факультета МГУ, 19 октября 1949 г. защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Народное творчество в художественной практике А. С. Пушкина: (Опыт исследования)». Однако его пушкиноведческие работы не находили должного признания: рецензия В. Бутусова на прекращенное в 1949 г. собрание сочинений А. С. Пушкина (Бутусов В. Академическое собрание сочинений Пушкина // Октябрь. М., 1950. № 3. С. 180–184) уже в 1966 г. получает характеристику «легковесной и некомпетентной» (Измайлов Н. В. Текстология // Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 589). Впоследствии занимался проблемами советской литературы.
Бутусова-рецензента лета 1952 г. характеризует в своих воспоминаниях Генрих Натанович Эльштейн-Горчаков: «…Я переписал свою тетрадь и, приложив небольшое жизнеописание, отправил заказным письмом в ЦК ВКП(б). Ученый муж из института Мировой литературы, некий Бутусов, в своем отзыве и в заметках на полях одарил меня целым букетом: “откровенный формализм”, “этак рассуждает буржуазный либерал”, “безбожно путает и прикрывается марксистскими фразами”, “сознательно проводит идеи субъективного идеализма”, не понимает этот “ман”, и, наконец, необходимая точка – “космополитизм”» (цит. по кн.: Горчаков Г. Н. Л-1–105: Воспоминания. Иерусалим, 1995. С. 309).
89
Бутусов В. «Специалисты» по низкопоклонству // Литературная газета. М., 1948. № 3. 10 января. С. 3.
90
Там же.
91
Рюриков Б. О творчестве Л. Толстого и некоторых его истолкователях // Культура и жизнь. М., 1948. № 2 (57). 21 января. С. 3.
92
Там же. С. 4.
93
Там же.
94
Такова характеристика, данная ему в кн.: Тименчик Р. Д. Анна Ахматова в 1960-е годы. С. 450.
95
Против низкопоклонства в литературоведении: Резолюция собрания партийной организации московских писателей // Литературная газета. М., 1948. № 7. 24 января. С. 4.
96
Тарасенков Ан. Космополиты от литературоведения. С. 127, 131, 133.
97
Тарасенков Ан. Указ. соч. С. 135–136.
98
Там же. С. 136–137.
99
Громова Н. А. Распад. С. 203.
100
Там же.
101
Тарасенков А. К. Идеи и образы советской литературы. М., 1949. С. 42–65. Под статьей (с. 65) стоит дата «1947–1948».
Что касается внесенных изменений, то из статьи оказались изъятыми многочисленные филиппики в адрес И. М. Нусинова, зримо уменьшив объем этой печатной работы; причем датировать такую правку можно достаточно точно – 1949 г., когда сборник давно находился в издательстве (книга сдана в набор 19 сентября 1948 г., подписана в печать 3 февраля 1949 г.); вызвана такая правка арестом И. М. Нусинова 12 января 1949 г. по «делу ЕАК».
102
Самарин А. М. Высшая школа и борьба за приоритет советской науки // Вестник высшей школы. М., 1948. № 3. Март. С. 7–8.