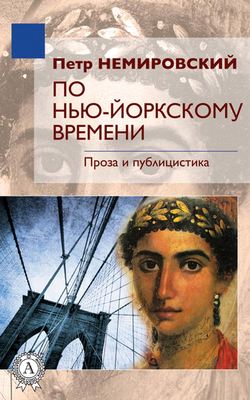Читать книгу По нью-йоркскому времени - Петр Немировский - Страница 4
По нью-йоркскому времени
Глава третья
Оглавление1
Офис, где нищим оформляют государственное пособие.
Получив номерок, Михаил отошел и сел в ожидании. Низкие потолки давили, придавая небольшому залу подобие тюремной камеры. Негры и латиноамериканцы в кожаных куртках, обвешанные золотыми цепями, в ожидании вызова втихаря курили какую-то дрянь и клацали кнопками магнитофонов; детишки кувыркались на заплеванном полу; несколько негритянок кормили грудью младенцев.
Михаил смотрел на них и завидовал… их свободе: чувствуют себя вольготно, курят, болтают. Все им здесь понятно, как дома.
Неподалеку от Михаила, в уголке, вжавшись в стулья, сидела пара белых. Что-то до боли узнаваемое было в выражении их лиц. Затравленность. Отчаяние… Наши.
Вдруг раздался звон разбитого стекла. Какой-то негр, обкуренный марихуаной, врезал кулаком в оконное стекло. Брызнули осколки. Вбежавшие полицейские сбили дебошира с ног, предварительно пару раз огрев его дубинками. Надели наручники и поволокли. Пришла уборщица, лениво собрав битое стекло, стала мыть пол вонючим раствором. Поигрывая дубинками, копы сделали несколько грозных кругов по залу. Воцарилась мертвая тишина. Сигареты были погашены, магнитофоны выключены, дети усажены на стулья. Полицейские, однако, скоро ушли, и притихшая публика опять ожила. Снова загремел рэп, поднялся галдеж, – наверное, так галдят в негритянских деревнях.
Михаил ждал приглашения. Но вызывали только черных. Наверное, потому что клерками тоже были негры. Им было приятно лишний раз унизить белого. Пусть подождет.
– Майкл Тчузин, – услышал наконец Михаил. «Чужин» пропал. Появился «Тчузин». Черт-те что.
Михаил заполнял какие-то анкеты, отвечал на вопросы. А толстый клерк ухмылялся. Его явно забавлял этот долговязый олух, который по десять раз переспрашивает: «А?»
– Америка – карашо. Нет коммунизм, – сказал вдруг клерк, выучивший потехи ради парочку русских слов. И снова перешел на английский.
Плохо, когда над тобою насмехаются. Понимаешь это не по словам (слов-то еще не понимаешь). Чувствуешь нутром. Еще хуже, когда не можешь достойно ответить, осадить, поставить на место. По-русски – не поймут, по-английски – еще не можешь. Приходится заглядывать в рот этому развеселому негру, пытаясь разгадать смысл слова еще до того, как это слово будет им произнесено. Совсем плохо, что некого винить. Только себя. Почему так плохо учил английский? Зачем валял дурака в институте? И вообще – зачем уехал?!
– Америка – карашо. Нет коммунизм, – повторил клерк, отдавая Михаилу какую-то бумажку. Улыбнулся, обнажив крупные белые зубы.
Лицо Михаила посветлело. Он вышел, вернее, вылетел, окрыленный. Первая маленькая победа! Он справился. Даже показалось, что выглядел не таким уж идиотом. Посмотрел на бумажку, которую ему выдал клерк: «Майкл Чужин направлен на отработку вэлфера в Бруклинский суд». Работать прокурором, что ли? Михаил усмехнулся, сунув бумажку в карман, зашагал к подземке.
2
Песок, прогретый за день, медленно остывал, но был еще ласково теплым. Чайки находили в песке небольшие углубления и, поджав лапки, садились погреться. Волны выбрасывали на песок водоросли и прозрачных медуз.
Михаил брел вдоль берега. Остановился возле огромного камня, разделся и побежал в воду.
Океан! Прохладная, покалывающая тысячами мелких иголочек вода. Соль во рту. Мышцы рук наливаются силой. Кажется, плыл бы и плыл. Туда, где носятся моторные лодки и белеют паруса яхт…
Потом он сидел на камне, курил. Бухта, чайки, бархат солнечных лучей – все это так напоминало Крым, где он еще совсем недавно отдыхал с Олей. Не будь той проклятой поездки, может, все в его судьбе сложилось иначе. По крайней мере, он и сейчас жил бы в Киеве. Это уж точно. Разрешение на въезд в Америку лежало в ящике письменного стола, а уезжать он не собирался.
…Они познакомились на даче у Витьки, ее привела подруга. Шашлыки, коньяк, костерок, стреляющий искрами. Гитара – «трень-трень».
Потом все разбрелись парами, и Михаил остался с Олей у костра. О чем-то болтали. Доели печеную картошку. У нее были красивые руки и невинные глаза. Она была одна в эту ночь. И он был один. На чердаке на полу лежала какая-то шкура, а на стене висела голова оленя с ветвистыми рогами. Оля отдалась ему там, и утром, натягивая джинсы, пошутила, что, наверное, теперь пахнет каким-то зверем.
Оба подразумевали, что на этом их знакомство закончится. Но зачем-то она дала ему свой телефон, он зачем-то позвонил…
Ее муж уехал на заработки в Россию. Михаил предложил ей смотаться в Крым на недельку. Когда? Да хоть сегодня. Деньги есть, его «жигуленок» ждет за углом. Трасса была свободна, добрались за семь часов.
«Мой муж – интеллектуал. Но он мальчик, безнадежный мальчик. Ты тоже башковитый, но ты – мужик», – говорила Оля, заводя руки за спину, чтобы расстегнуть лифчик. Михаил гладил ее по загоревшей спине и улыбался. Им обоим нравилось участвовать в этом заговоре, наставлять рога «безнадежному мальчику-интеллектуалу». За три года супружества Оля изменяла мужу впервые, причем так откровенно, и испытывала особое удовольствие от новизны чувств.
В последний день, когда Оля спросила: «Мы ведь будем встречаться и после Крыма, правда?» – и в ее голосе прозвучали жалостливые нотки, Михаил ответил: «Да, конечно», – решив по приезде ее забыть.
…Эх, дела сердечные. Спелый миндаль, красное закатное солнце…
Утром они распили бутылку вина. Хохотали, потому что их маленькая авантюра удалась. Оля распушила волосы, и Михаил, заводя машину, ненароком подумал, что сразу рвать отношения с Олей вовсе не обязательно.
Рулевое управление заклинило, когда «жигуленок» мчался по шоссе. Машина врезалась в дерево. Основной удар пришелся по переднему бамперу со стороны пассажира. Михаил отделался несколькими царапинами. Олю увезла «скорая». Она вышла из комы на третий день. Когда Михаил переступил порог палаты, забинтованная девушка с разбитым лицом велела ему убираться. К чертовой матери! Жалко, что калекой останется она. Лучше бы он.
Вернулся ее муж, мальчик-интеллектуал. И сразу потребовал денег. Потому что водитель «жигуленка» вел машину пьяным, имеются подтверждающие это документы. В случае отказа угрожал судом. Михаил продал свою квартиру. Муж взял деньги и потребовал еще…
Михаил – без квартиры, без машины, в долгах. А в ящике стола валялось разрешение на въезд в Америку, и срок его действия скоро истекал…
За неделю до отъезда в Нью-Йорк Михаил подкараулил мужа Оли у подъезда. Бросил его на землю и швырнул ему в лицо скомканный доллар. Сорвал накипевшее зло и отомстил этому торговцу несчастьем.
Оля уже была дома. Она ходила. Пока на костылях, но врачи обнадеживали.
3
– Завтра иду в Бруклинский суд.
– В Бьюклинский суд? Что, уже вызывают? – мрачно пошутил дядя Гриша.
Он сидел напротив Михаила в расстегнутой рубашке, изредка почесывая грудь. Морщинок на его лице – тьма. Непонятно, откуда у этого маленького человека берутся силы вкалывать по десять часов в день, обустраивать дом дочки в Нью-Джерси и удовлетворять во всех отношениях необъятную Еву. Железный.
– Сейчас новые правила. Вэлфер нужно отрабатывать, – пояснил Михаил.
– А ты закоси. Скажи им, что страдаешь хроническими мигренями. Чуть что – пойдешь к врачу, заплатишь ему сто долларов, он тебе выпишет любую справку.
– Здесь такое проходит?
– Почему нет? Это же Амейика, свободная страна… Ну что, племяш, давай еще по рюмочке. Завтра Йом-Кипур. Весь Нью-Йорк – выходной. На улицах не увидишь ни души, все – в синагогах, – сказал дядя Гриша, любивший преувеличения.
Выпили. Закусили.
– Ты ешь, Михась, бо завтра будем голодать. До звезды.
…Йом-Кипур для Михаила был связан с дедом. С дедом Самуилом, который погиб в лагере. За что его посадили? Кто знает? В справке о реабилитации сказано: «Постановлением Тройки УНКВД от 9 декабря 1938 г. Чужин С. С. осужден на 10 лет лишения свободы за антисоветскую агитацию». Непонятно, зачем деда отвезли из Биробиджана в Кемерово? Ведь и возле Хабаровска было полно зон. И против чего дед Самойло агитировал?
Он приехал вместе с семьей из Бершади на Дальний Восток. Семейное предание хранит историю о каком-то родном брате деда Самуила – тот якобы уехал в Америку после революции, стал там фермером. Писал на родину письма, звал к себе. Но дед Самуил был помоложе и понаивней. Как всякий образованный человек, он слишком серьезно относился к идеям. Поверил, что сможет стать фермером в биробиджанском колхозе.
В итоге – батрачил на холодной земле Дальнего Востока, искал правду на колхозных собраниях. Родил еще одного сына. Попал в лагерь. Погиб.
– Ты знаешь, я пытался здесь разыскать наших дальних родственников, отправлял запросы, – рассказывал дядя Гриша. Он окосел как-то сразу, после второй рюмки, но остановился на определенной точке. Морщинки его разгладились, глаза заблестели. – Но Чужиных в Америке – полмиллиона! Оказывается, Чужины могут быть и Чазанами, и Казанами, и Каганами. Очень древняя фамилия, библейская…
От деда Самуила не осталось ни единого фотоснимка. Только рисунок, который спустя годы нарисовал отец Михаила простым карандашом.
Дед сидел на стуле вполоборота. Ничего героического. Никакого величия. Ничего библейского. Угловатая фигура, угловатое лицо со впавшими щеками, съехавшая набок кепка. Отец запомнил деда таким. Таким, быть может, он сидел и на допросе. Таким, наверное, его видели в последний раз в бараке, перед тем, как всех зэков-евреев этого барака повели убивать за отказ работать в Йом-Кипур. Их убили возле скалы, размозжив им головы кирками. Живых и мертвых сбросили в траншею и присыпали землей.
В соседней траншее лежали православные, убитые за отказ работать на Пасху.
Все эти подробности рассказал лагерник, вернувшийся в 1954-м в Бершадь из Кемеровской зоны.
Дед Самуил и Судный день для Михаила были связаны в единое целое. Потому что в этот день все мужчины в семье Чужиных постились в память об умерших и погибших, и дед Самуил в семейном мартирологе значился отдельно и чтился особо. Высоколобый идеалист. Мученик. С дедом как-то соединялось несоединимое: теплое местечко на юге червонной Украйны – и мерзлая земля Дальнего Востока; телега с развеселым балагулой – и вагоны с вохрой и зэками. Дед – это Пост. Стакан воды и баланда. Пение шофара – и лай овчарок. Дед – это лагерь и синагога. Дорога за счастливой долей. И дорога в зону. И на Тот свет. И с Того света…
Отец в Йом-Кипур постился тайно, никому не говорил об этом. Он не любил все эти «синагогальные штучки», но в Судный день постом отдавал дань памяти ушедших. Дядя Гриша постился открыто, демонстративно, вплетая в Йом-Кипур и некоторый политический мотив. Для него еврей, идущий в синагогу, – это еврей, выступающий против советской власти.
А для Михаила Йом-Кипур – это страшный день. В кровавом закате. В стонах на пепелище. В звоне последней трубы.
Он помнит, как дядя Гриша, приехав из Бершади в Киев к ним в гости, взял двенадцатилетнего племянника с собой в синагогу. В единственную тогда ветхую синагогу на Подоле.
…Талесы, ермолки, кивот со свитками. Гул, как в улье. Происходит что-то непонятное, все чего-то ждут.
А на улице стоят женщины и мужчины. Негромко переговариваются. Достают конверты. Читают письма о какой-то Валечке, что устроилась клерком в тель-авивском банке, о каком-то Диме в Чикаго. Всех что-то объединяет. Полушепот. Акцент идиш. Страх. Кровь. Что-то сильнее, чем кровь.
Михаил слушал обрывки разговоров, снова возвращался в синагогу. Протискивался между пиджаками и талесами. Вот раввин развернул свиток, читает громко, и голос его дрожит: «Шма, Исраэль!» И оживают, нарисованные на колоннах, львы и орлы. «Шма, Исраэль!» – раввин кашляет, задыхается, читает из последних сил.
Михаэль снова выходил на улицу. Разговоры о какой-то звезде, о Книге, в которую страшный и грозный Бог сейчас впишет судьбу каждого еврея на грядущий год. И поставит Свою печать.
«Шма, Исраэль!» – прокричал раввин, воздев руки над свитком. Затем поднес к губам позолоченный рог. Мертвая тишина. «У-у-у!..» – протрубил рог…
4
Показались два зеленых светящихся шара у входа в подземку. Через турникеты Михаил прошел более уверенно, чем в первый раз. Уже знал, что пули в метро не свистят.
Выйдя на улицу, долго спрашивал, как попасть в Бруклинский суд. Спешащие прохожие улыбались, но пожимали плечами. Михаил не уставал повторять «волшебные» слова: sorry, please. Без толку.
– …ь! – выругался он в сердцах.
Идущая мимо женщина остановилась:
– Какие-то проблемы? – спросила она по-русски. – А-а… Вам нужно проехать еще две остановки.
Через час он вошел в здание суда. Достал из кармана бумажку, где было указано, к кому он должен обратиться. Мистер Джек Уайт.
Наверное, мистер Уайт – важный судебный клерк, и Михаил должен будет ему помогать. Что ж, научится работать с деловыми бумагами, подтянет английский. Неплохо для начала. Сразу получил чистую работу. Босс уважает. «Мистер Майкл Тчузин?» – «Да, мистер Уайт». – «Бросайте работать. Время ленча».
…В подвале воняло хлоркой. Три негра, сидя на корточках возле урны, курили. Мистер Уайт, черный, как антрацит, вручил Михаилу швабру. Указал на пластиковую посудину на колесиках, с ручкой сбоку и валиками для отжимания воды. Мистер Уайт с плохо скрываемым наслаждением в голосе произнес: «Сэр, ваши туалеты – на первом этаже. За два часа сегодняшнего опоздания с вас вычтут десять долларов». Негры умолкли, с любопытством смотрели, как поведет себя этот белый.
Михаил глуповато улыбнулся. В армии салагу отправляли мыть парашу в первую же ночь, а за отказ избивали. Главное было – сразу не сломаться. Пусть бьют – говори «нет». А здесь – не Советская армия. Здесь – Бруклинский суд. Все вежливо. Без рукоприкладства. Светлую сторону при желании можно найти во всем.
– Sorry, – Михаил отдал швабру, развернулся и ушел.
Судя по всему, вэлфер ему теперь не дадут.
В сквере он сел на скамейку, закурил. Чего же он хотел? Приехал в Америку – без полезной специальности, без денег, с плохим английским. И сразу все получить? Слава Богу, есть дядя Гриша, который согласился устроить в бригаду маляров. Хорошо, что отец когда-то научил малярничать. Он здоров, молод, полон сил. Не ной! И забудь. Забудь про дачи, про костерки, про туманы над старым Днепром…
Михаил выпустил пару дымных колечек. Сигареты, кстати, стоят дорого, курить придется поменьше. И квартиру нужно найти поскромнее. От покупки машины тоже придется отказаться. Аскетизм. Воздержание. Готовься, Михась, проливать трудовой пот. Он хмыкнул. Обозленный и в то же время жалкий зашагал к метро.
* * *
Вскоре он снял крохотную квартирку на первом этаже ветхого двухэтажного дома. В коридоре в бойлерной гудел мотор, оттуда крепко тянуло мазутом. В комнате по стенам ползла плесень, линолеум на полу был разорван.
Мебель подбирал на улице. Вечером брел вдоль тротуаров, где рядом с мусорными мешками валялись разбитые стулья и диваны. Нашел почти новый матрас. Втащил матрас в квартиру, бросил на пол и прикрыл шерстяным одеялом. Завтра его ждал первый рабочий день в бригаде маляров.
Лежал и курил. Раскаивался в том, что приехал в Америку. Обвинял Олю, ее мужа, всех. Плакал. И презирал себя за эти слезы.