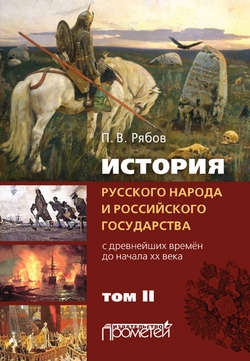Читать книгу История русского народа и российского государства. С древнейших времен до начала ХХ века. Том II - Петр Рябов - Страница 7
VI
Петербургская Россия (1689–1917)
6.1 Рождение петербургской империи (1689–1725)
6.1.4. Индустриализация по-петровски
ОглавлениеС эпохи Петра I начинается систематическое и широкомасштабное вмешательство государства в хозяйственную жизнь. Первая в русской истории «индустриализация», проведённая в эти годы, диктовалась и обусловливалась, как и другие преобразования, логикой войны, милитаризации и чрезвычайщины. «Деньги суть артерия войны», – любил говорить Пётр I, а этих денег катастрофически не хватало.
По приказу императора были за четверть века построены более 200 мануфактур, обеспеченных трудом крепостных, работавших на государственный заказ, производивших обмундирование и вооружение для армии. Мощный экономический рывок позволил петербургской России одержать победу над шведами, но в перспективе вёл в тупик, поскольку рабский труд является малоэффективным и неквалифицированным, а военное производство, основанное на государственных заказах, было паразитическим наростом на общественном организме. Затраты на ведение непрерывных захватнических войн и на создание военной индустрии ложились непосильным бременем на плечи крестьянства, которое обеспечивало налоговые поступления в казну.
Пётр I указывал, что и где строить, что производить, с кем торговать и по какой цене. Так, запрещалось торговать с заграницей через Архангельск (можно было только через Петербург), строить каменные здания в старой столице Москве (возводить их можно было опять же лишь в Петербурге). Купцов Пётр приказал объединять в «кумпанства» – товарищества, действовавшие под полным контролем государства и осуществлявшие его цели.
Тенденция к созданию под эгидой государства промышленности, основанной на подневольном труде и ориентированной на военные нужды, появившаяся в XVII веке, при Петре I получила огромное развитие и была возведена в громадную и всеобъемлющую систему. По словам С.Т. Жуковского и И.Г. Жуковской: «Правительство оберегало мануфактуры от иностранной конкуренции, питало их казёнными заказами и не отягощало налогами, зато диктовало цены и щедро снабжало инструкциями и указаниями. Выращенные таким образом «капиталисты поневоле», пользовавшиеся крепостным трудом, могли обеспечить военные нужды государства, но не были способны обеспечить расцвет российской экономики».
Общими чертами «индустриализации по-петровски» было размещение новых мануфактур или возле источников сырья или рядом с театром военных действий, использование в качестве рабочей силы местных жителей, насильно прикреплённых к предприятиям, а в качестве мастеров – иностранных специалистов, закупка части нужной техники за границей (на деньги, вырученные за вывезенное из страны зерно). В ходе петровской индустриализации возникли новые отрасли промышленности: судостроение, производство шёлка, рафинада, цветная металлургия. Возникли несколько металлургических заводов на Урале, оружейные завода в Туле и Сестрорецке. На огромном Хамовном дворе в Подмосковье на реке Яузе – предприятии по производству парусины для кораблей, крупнейшем заводе России, – в 1719 году трудилось уже 1200 человек! В Москве были созданы Суконный двор и Канатный Двор. Выплавка чугуна выросла за 20 лет в пять раз (со 150 тысяч до 800 тысяч пудов в год) и почти достигла уровня Англии. Россия даже начала экспортировать металлы, парусину и полотно, хотя основными вывозимыми из неё на Запад товарами оставались древесина, лён, конопля, пенька и зерно.
Приглашаемым в Россию иноземным мастерам гарантировалось покровительство царя, высокое жалованье, свобода вероисповедания, освобождение от уплаты податей на десять лет. По приказу Петра было начато строительство нескольких каналов: Ладожского, Волго-Донского (который был завершён уже при большевиках – и также подневольным трудом заключённых лагерей).
По словам В.Я. Хуторского: «Движущей силой индустриализации явилась не предпринимательская инициатива, а государственное принуждение. Рабочая сила формировалась путём приписки к казённым и частным мануфактурам государственных, дворцовых и монастырских крестьян. Частные заводы должны были выполнять заказ правительства, купцов в принудительном порядке объединяли в компании, обременяли тяжёлыми налогами, заставляли переселяться в Петербург и вести через него торговлю. Продажа соли и табака, экспорт самых выгодных товаров – пеньки, дёгтя, смолы, поташа, конопляного семени, юфти, (дублёной кожи) – стали государственной монополией. Такие меры разорили половину богатейших купцов».
Впрочем, в конце своего правления Пётр I начал передавать кое-какие государственные заводы в частные руки, освобождать уцелевших купцов от ряда повинностей и давать им ссуды и сократил число государственных монополий. Частным лицам было дозволено отыскивать руды и строить предприятия по их добыче. В январе 1721 года особым указом дворянам и купцам было разрешено прикупать к своим предприятиям деревни, крестьян которых стали именовать «посессионными» (владельческими), Такие предприятия, впрочем, по-прежнему полностью контролировались государством, которое устанавливало им план производства и цены на продукцию. А для посессионных крестьян работа на заводах заменяла барщину и была столь же обязательной, что делало ненужным и маловероятным внедрение изобретений, заменяющих живой ручной труд механическим. Так называемые «частные» предприниматели, фактически, являлись лишь правительственными агентами, а работники промышленности оставались крепостными людьми.
Хотя тотальный государственный контроль был установлен в петровскую эпоху в основном над промышленностью и торговлей, это не означает, что сельское население полностью избежало отеческой опеки государства: рекрутские наборы, постойная повинность и втрое возросшие за двадцать лет налоги дополнялись для него многочисленными трудовыми повинностями – государственной барщиной: строительством Петербурга и различных крепостей, рытьём каналов, сооружением кораблей. Мобилизованные трудовые армии крестьян отрывались от своих хозяйств, и десятки тысяч людей погибали от кошмарных условий труда и болезней.
Петровские реформы выстроили в экономике колоссальную централизованную систему государственных монополий, повинностей, предписаний, откупов, заказов, принудительных мобилизаций. Административный диктат и насилие, милитаризация труда, коррупция, рабство и чисто экстенсивный путь развития – на этих основах создавалась российская промышленность. Естественно, что технические новшества в ней слабо развивались, а качество изделий российских мануфактур было намного ниже, чем у зарубежных. Продукция промышленности была рассчитана, в основном, не на потребление населением, а на военные нужды.
По указу Петра, было запрещено ввозить в Россию те виды товаров, которые производились в стране (на них были введены пошлины в 75 процентов, делающие такой ввоз невозможным). Благодаря введению государственной монополии на продажу соли, государство смогло увеличить цены на неё вдвое (получив сто процентов прибыли), а благодаря монополии на продажу табака – 800 процентов прибыли.
Сращивание государства с промышленностью и торговлей носило двухсторонний характер, идя «сверху» (через назначение государством своих агентов – откупщиков, введение монополий, раздачу предпринимателям крестьян, кредитов, заказов, сырья) и идя «снизу» – через подкуп чиновников купцами и промышленниками, их тесное переплетение. Созданную в России усилиями Петра I промышленность хорошо охарактеризовал Б. Кагарлицкий: «Правительство оказалось не только, по выражению Пушкина, единственным европейцем в России, но и её первым капиталистом. Двор управлял не только политической, но и деловой жизнью страны. Государственный грабёж – внутри и вне собственной страны – оказывался наиболее эффективной формой первоначального накопления капитала. Одновременно происходило и постоянное перераспределение средств с их частичной приватизацией в пользу петербургской элиты. Формы приватизации были самые разнообразные – от раздачи имений и крестьян, предоставления государственных контрактов до разворовывания казённых денег. Там, где государство грабит, – подданные воруют». Поэтому воровство стало не каким-то злоупотреблением в формирующейся экономике петербургской империи, а одной из форм её обычного повседневного существования.
Высокие налоги на купечество и принудительное сколачивание по приказу царя «кумпанств» (компаний), установление заниженных закупочных цен на товары, поставляемые купцами и промышленниками в казну (потом государство перепродавало их по сильно завышенным ценам), привело к тотальному разорению купечества в годы петровских реформ. Принудительно заставляя купцов переселяться в непригодный для жизни и торговли Санкт-Петербург (где отсутствовало жильё, торговые помещения, рабочие руки, инфраструктура) и запрещая торговлю через Архангельск, император нанёс смертельный удар по благосостоянию русского купечества и по всему населению русского Севера, подорвал традиционные источники их дохода. Купеческие капиталы нещадно высасывались бюрократическим государством посредством непрерывных монополий, налогов, переселений, искусственных ограничений торговли. В годы правления Петра из 226 богатейших купцов России в этом сословии остались лишь 104 человека; прочие разорились и были вынуждены сменить сословную принадлежность. Разорение городов, упадок купеческих родов, гибель остатков частной торговли и свободного предпринимательства – та часть цены, заплаченной за победу в Северной войне, которую купцы и ремесленники разделили с разорённым и порабощённым крестьянством.
Но и победа в войне со шведами ничего принципиально не изменила в экономической политике государства. Как подчёркивает Е.В. Анисимов, ранее (до конца Северной войны) «Россия не знала органов управления торговлей и промышленностью. Как раз создание и начало деятельности Берг-, Мануфактур-, Коммерц- коллегий и Главного магистрата составляло суть происшедших перемен. Эти бюрократические учреждения явились институтами государственного регулирования национальной экономики, органами осуществления торгово-промышленной политики самодержавия на основе меркантилизма», которая отличалась «необыкновенной интенсивностью промышленного строительства силами государства и на его средства, но прежде всего особенной жёсткостью регламентаций, разветвлённой системой ограничений, безмерной опекой над торгово-промышленной деятельностью подданных». А указ о посессионных крестьянах от 18 января 1721 года, по Е.В. Анисимову, «знаменовал собой решительный шаг к превращению промышленных предприятий, на которых зарождался капиталистический уклад, в предприятия крепостнические, в разновидность феодальной собственности…» Таким образом, заключает историк, «промышленность России была поставлена в такие условия, что она фактически не могла развиваться по иному, чем крепостнический, пути. Доля вольнонаёмного труда в промышленности после этих указов стала резко падать… Победа подневольного труда в промышленности определила нараставшее с начала XIX в. экономическое отставание России… В то время как в развитых странах Западной Европы буржуазия уже громко заявляла о своих претензиях к монархии и дворянству, в России шло попятное движение: став, душевладельцами, мануфактуристы стремились повысить свой социальный статус путём получения дворянства, жаждали слиться с могущественным привилегированным сословием, разделить его судьбу. Процесс превращения наиболее состоятельных предпринимателей – Строгановых и Демидовых – в аристократов – наиболее яркий из типичных примеров».