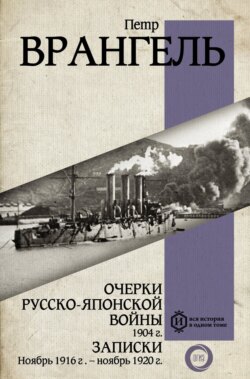Читать книгу Очерки Русско-японской войны, 1904 г. Записки: Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г. - Петр Николаевич Врангель, Петр Врангель - Страница 3
Очерки Русско-японской войны. 1904 г.
В тылу у японцев во время боя при Шахэ
ОглавлениеI
В середине сентября 1904 года решен был переход нашей армии в наступление, к этому времени численность наших сил достигла 181 400 штыков, 12–14 тысяч шашек и до 600 орудий. Мы занимали фронт в 50 верст от Импань до Пхудзыян, и армия по фронту делилась на две группы – западную (генерал Бильдерлинг) и восточную (генерал барон Штакельберг). Общий резерв составляли два корпуса под начальством генерала барона Мейендорфа. Для охраны флангов назначались: правого – отряд генерала Коссаловского, левого – генерала Ренненкампфа. Силы японских трех армий исчислялись нашей главной квартирой в 170 000 штыков, 6 ½ тысяч сабель и 648 орудий. Фронт неприятельских армий тянулся на 60 верст от Далинского перевала до Чесантунь.
Целью наступления ставилось разбить японцев в районе между реками Шахэ и Тайдзихэ и отрезать их сообщения на востоке и юге; во исполнение означенной цели восточный отряд должен был оттеснить правый фланг противника у деревни Бензиху и, наступая долиной реки Тайдзихэ, действовать в тыл неприятельских позиций у Янтая; западный же, двигаясь вдоль железнодорожного пути и Мандаринской дороги, наступать на город Лаоян.
К означенному времени наш отряд генерала Ренненкампфа, в составе 13 батальонов, 26 орудий, 16 сотен, 4 конно-горных орудий и саперной роты, располагался в районе деревень: Мадзядань – Убеньянуза – Сантунью. После памятных дней Лаояна мы продолжительное время стояли в бездействии, лишь изредка предпринимая усиленные рекогносцировки. Для нас, казаков, испытавших первый период лихорадочной деятельности передового летучего отряда генерала Ренненкампфа, особенно монотонно и скучно тянулось время нашего продолжительного стояния. Хотя и носились слухи о скором переходе наших в наступление, но этим слухам не придавалось особого значения; наше непрерывное отступление, отход назад даже после одержанного на всем фронте при Лаояне успеха невольно зарождали сомнения в намерении командующего в ближайшем будущем перейти к активному образу действий.
21 сентября все части отряда получили приказание к 6 часам вечера строиться у выхода дер. Убеньянуза для присутствия на имеющем быть отслуженным молебствии. Одновременно разнесся слух, что получен приказ командующего армией о нашем предстоящем наступлении; слух этот с быстротою молнии облетел отряд, вызвав всеобщее ликование… То, о чем мечтал с самого начала войны каждый из нас, то, чего ждал и что ежечасно призывал всем сердцем, наконец наступило, и возмездие за все тяжелое и унизительное, пережитое нами за последние восемь месяцев, казалось близким. Несмотря на ряд пережитых невзгод и неудач, вера в свои силы, вера в непобедимость нашей армии не была поколеблена, и каждый из нас смело смотрел вперед, твердо веря, что ему удастся отомстить за ряд пережитых унижений врагу. Собирались оживленные группы, известие обсуждалось на все лады, составлялись всевозможные планы и предположения…
К назначенному времени части отряда построились в долине у выхода из деревни на скошенном гаоляновом поле. Длинный ряд серых солдатских рубах как нельзя более гармонировал с серым тоном вспаханной земли, едва выделяясь на фоне серого камня, тянувшегося вдоль скалистого хребта. Заходящее солнце озаряло розовым светом скалистые гребни гор, играя последними косыми лучами на оружии, бляхах амуниции, на парчовом покрове поставленного среди поля аналоя. Под одиноко видневшимся среди поля скорченным дубом стоял генерал Ренненкампф со штабом; его плотная крупная фигура в красной шведской куртке, с Георгием на шее и в петлице, с серебряной кавказской шашкой через плечо, резко выделялась среди прочих лиц штаба. Начальник штаба внятным мягким голосом читал приказ:
– Более семи месяцев тому назад враг вероломно напал на нас в Порт-Артуре ранее объявления войны. С тех пор много подвигов содеяно русскими войсками на суше и на море, которыми справедливо может гордиться наша родина, но враг не только не повержен в прах, но в гордыне своей еще продолжает помышлять о полной победе над нами… – раздаются в тихом вечернем воздухе начальные слова приказа.
С напряженными, сосредоточенными лицами, стараясь не проронить ни одного слова, жадно ловя каждый звук, слушают все знаменательные, отныне исторические слова, слова, обращенные к великой армии ее вождем. Замерли, затаив дыхание, точно окаменев, тысячи однообразно-серых фигур, и лишь особый лихорадочный блеск в напряженных взглядах выдает копошащиеся в глубине душ тысячи разнообразных ощущений…
Командующий упоминает в приказе о недостаточности до сего времени наших сил, о трудности сосредоточить в малое время на театре военных действий значительную армию, отдает должное геройской обороне войск, образцовому порядку при отступлениях…
– Я приказал вам отступать с горестью в сердце, но с непоколебимою верою, что отступление наше на подходящие подкрепления было необходимо для одержания над врагом, когда наступит для сего время, решительной победы…
Да, это так. Отступая шаг за шагом, отдавая с болью в сердце каждую пядь обагренной своей кровью земли, армия ни одной минуты не падала духом, твердо веря в свою конечную победу, в близкое возмездие врагу…
– Теперь настало уже желанное и давно ожидаемое всею армиею время идти самим вперед навстречу врагу. Пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле, ибо силы маньчжурской армии ныне достаточны для перехода в наступление…
Свершилось. Точно электрический ток пробежал по рядам войск… Конец бесконечным отступлениям, когда после ужасных, в несколько суток, боев, где неприятель разбивался о стойкость и непоколебимое мужество наших войск, мы отходили, оставляя врагу усеянные трупами наших славных товарищей позиции; конец ужасным томительным переходам по непролазной глинистой грязи дорог с болью в сердце, с тяжелым кошмаром унижения в душе… Близок час, когда враг сторицею расплатится за пережитые унижения, когда воспарит вновь непобедимый доселе русский орел…
– Державный вождь русской земли молится со всей Россиею за нас и благословляет нас на новые самоотверженные подвиги. Подкрепленные этой молитвой, с глубоким сознанием выпавшей на нас задачи, мы должны идти вперед бестрепетно, с твердою решимостью исполнить свой долг до конца, не щадя живота своего, и да будет над всеми нами воля Господня, – раздаются заключительные слова приказа.
– На молитву. Шапки долой…
Начинается молебствие.
Солнце почти скрылось за скалистым гребнем хребта. Закат охвачен всеми цветами зарева, начиная от огненно-красного и кончая бледно-розовым. Лиловые тени сползли в долину. В воздухе потянуло ночною свежестью. Проникая в сердца, несутся тихие звуки церковного пения. Синей дымкой тянется кверху ароматный дым ладана. Столь часто слышанные, подчас машинально повторяемые, слова молитвы в эту минуту приобретают совсем новое, особенное значение, и в душе каждого из нас растет и охватывает все существо давно не испытанное чувство бесконечного умиления…
Молебен кончился. Плавно пронеслись и растаяли в тихом вечернем воздухе последние слова молитвы…
– Накройсь. Смирно!
Отрывистым, несколько хриплым, но громким голосом генерал Ренненкампф говорит с войсками. Он поздравляет их с давно жданным наступлением, благодарит за усердную службу, выражает уверенность в дальнейшей доблести…
– Державному вождю русской армии Государю Императору громкое русское ура! – кончает свою речь генерал.
– Ура! Урра!.. – неудержимо, стихийно, будя эхо в далеких полях и отладках гор, несется по долине, и в этом общем крике тысячи грудей сливаются воедино, неразрывно соединяются чувства и помышления всех нас.
– Командующему армией генерал-адъютанту Куропаткину ура! – снова гремит голос генерала. И вновь, будя горное эхо и вспугивая укрывшихся на ночлег в расщелинах скал птиц, несется громкое могучее «ура», и кажется, что перед этим громким русским «ура» не устоит и обратится вспять коварный и ненавистный враг…
II
22 сентября началось общее наступление частей восточного отряда. Отряд генерала Ренненкампфа начал движение несколькими колоннами правым берегом реки Тайдзихэ по направлению к дер. Бенсиху. Для охранения левого фланга генерала Ренненкампфа был выделен отдельный конный отряд из трех аргунских, двух нерчинских сотен, охотничьей команды Сретенского полка и взвода конно-горной артиллерии под общим начальством генерал-майора Любавина. Генерал Любавин должен был, переправившись через р. Тайдзихэ у дер. Сандзядза, двигаться далее левым берегом реки, согласуя свое движение с наступлением главных сил отряда генерала Ренненкампфа и наблюдая район к югу и юго-востоку. Три сотни нашего 2-го Аргунского казачьего полка вошли в состав конного отряда генерала Любавина, а я назначен был к генералу ординарцем.
Мы выступили в 7 часов утра и, двигаясь давно знакомыми местами, перешли в этот день в деревню Гаолиндзы, где и остановились на ночлег. В дер. Гаолиндзы мы стояли довольно долго еще летом и отошли отсюда после лаоянских боев. Китайцы, особенно чуткие к переменной фортуне войны и неизменно стоящие на стороне сильнейшего, особенно подобострастно встречали нас, шумно выражая свои восторги и заверяя в своей непреложной дружбе:
– Шанго капитана, та-таде капитана. Шибко знакома.
Переночевав в дер. Гаолиндзы, мы на следующий день достигли р. Тайдзихэ у дер. Сандзядза и здесь простояли до 25 сентября, давая подтянуться главным силам отряда. 25-го в 8 часов утра мы переправились через Тайдзихэ и, бросив на юг и юго-восток серию разъездов, двинулись левым берегом реки, поддерживая связь с левой колонной отряда генерала Ренненкампфа, наступавшей под начальством генерала Петерева правым берегом реки из дер. Уянынь.
Мы двигались шагом, часто останавливаясь. Несмотря на то что солнце уже давно встало, было сыро и холодно. Густой туман стоял над рекой, стлался белой пеленой по горным долинам. В десяти шагах уже трудно было различить что-либо, конные фигуры впереди идущих казаков расплывались, точно таяли в этой молочной мгле. От высланных вперед разъездов сведений о присутствии неприятеля не поступало. Пройдя верст пять берегом реки, дорога несколько сворачивала в сторону, углубляясь в долину, отделенную от реки тянущейся вдаль холмистой грядой. К одиннадцати часам туман постепенно рассеялся, и теперь ясно были видны черные конные фигуры следующих по сторонам колонны по гребню холмистой гряды наших дозоров. По вьющейся змеей горной дороге справа по три вытянулся наш отряд; мелко переступая по каменистой дороге, двигаются мохнатые разномастные забайкалки, неуклюжие и маленькие под крупными серыми фигурами казаков. Кое-где пестреют над колонной разноцветные значки сотенных командиров. На правом берегу реки все тихо…
Но вот вдали резко протрещали первые выстрелы, стукнув по нервам и заставив насторожиться каждого человека… Перестрелка усиливается, отдельные выстрелы сливаются в общую трескотню – видно, что там, у генерала Петерева, завязывается дело. Мы ускоряем шаг, дорога вновь поворачивает к реке, и вскоре показываются быстро несущиеся сверкающие воды Тайдзихэ. Впереди трещат выстрелы… Нерчинская сотня графа Келлера, развернув лаву, переправляется вброд к виднеющейся вдали деревушке под выстрелами занявших на противоположном берегу скалистый гребень японцев. Колонна останавливается. Переправившись, сотня спешивается и, заняв деревушку, завязывает с японцами оживленную перестрелку. Изредка излетные пули долетают до нас, жалобно воя в воздухе, или гулко щелкают в мокрую глину размытого откоса горы.
– Переправьтесь через реку и отыщите на том берегу генерала Петерева. Доложите, что я здесь и занял переправу, – приказывает генерал Любавин.
Толкаю коня и вместе с вестовым переправляюсь на противоположный берег; быстро несутся скорые, но неглубокие воды реки, едва доходя до брюха лошади. Резко просвистели в воздухе несколько пуль и звонко плюхнулись в воду, взметнув блестящие брызги. Мы на правом берегу реки…
Японцы, заняв высокий скалистый гребень, обстреливают окраину деревни Уянынь, занятую нашими пехотными цепями. У маленькой полуразвалившейся кумирни расположился генерал Петерев со штабом и в бинокль следит за ходом боя; я являюсь ему и передаю приказание.
– Поезжайте обратно, – приказывает мне генерал, – и попросите генерала Любавина поддержать меня артиллерией; у японцев там на гребне окопы, и их очень трудно выбить.
Поворачиваю лошадь и возвращаюсь к генералу Любавину, который, выслушав мой доклад, отдает приказание орудиям открыть огонь. Быстро сворачивают с дороги орудия, выезжают на скошенное гаоляновое поле и снимаются с передков…
– Первое, – раздается команда. «Буух», – громыхает орудие, и через несколько секунд над занятым японцами скалистым гребнем вспыхивает белый дымок шрапнельного разрыва.
– Второе. – «Буух-буух», – гремят выстрелы…
Генерал Любавин переправляется на правый берег реки и вместе с генералом Петеревым, стоя близ кумирни, следит за ходом боя. Наши пехотные цепи перебежками наступают по гаоляновому полю. По дороге мимо нас тянутся раненые. Вот четверо несут тяжелораненого: загорелое молодое лицо его со слипшимися на лбу желтыми волосами как-то посерело, он хрипло стонет, мотает головой и отплевывается кровью. Вот двое других ведут, поддерживая, раненого товарища; разутая, с засученными выше колена шароварами нога обмотана розовой марлей перевязочного пакетика. А вот легкораненый – он идет один, хромая и опираясь на приклад ружья; поравнявшись с нами, он останавливается и тяжело переводит дух; ему неудержимо хочется поделиться с кем бы то ни было только что пережитыми сильными и непривычно разнообразными впечатлениями.
– Ишь ты, как его жарит… – не обращаясь ни к кому в отдельности, вслух произносит он, – да и больно неспособно по скошенному гаоляну-то идти…
– Что, брат, куда ранен? – спрашивает кто-то из нас.
– Вот туточки, ногу маленько попортило, – отвечает раненый и, прихрамывая и опираясь на ружье, плетется по дороге далее на перевязочный пункт.
Японцы не выдержали нашего огня и очистили перевал, тотчас же занятый нашими стрелками. Мы въезжаем в деревню Уянынь. Китайцы в самом начале дела бежали, захватив самое ценное из имущества, и повсюду видны следы поспешного бегства: настежь растворенные ворота, брошенные среди дворов раскрытые ящики, кадки, корзины… По дороге нам продолжают попадаться раненые. Вот под конвоем казаков на казенной двуколке везут двух раненых японцев, оставленных своими на перевале; один лежит неподвижно на дне двуколки, по-видимому, при последнем издыхании, другой, молодой, ранен легко; этот сидит на краю двуколки, обхватив обеими руками раненую ногу и, несмотря на сильную боль, видимо, крепится и силится улыбнуться, скаля белые ровные зубы. На самом перевале, у дороги, стоит, поджав перебитую пулей ногу и понуро опустив голову, раненая лошадь; седло и оголовье унесены японцами… Оставленные только что неприятелем окопы усеяны расстрелянными гильзами и обоймами. Группы солдат окружают нескольких убитых японцев, с любопытством рассматривая их лица, амуницию, одежду… В группах солдат оживленные разговоры.
– Ишь ты, маленький, да черный какой…
– Тоже, поди, наших немало перебил…
Оставив на перевале две роты, отряд располагается на ночлег в деревне Уянынь. Настроение у всех возбужденное, приподнятое, радостное… Первый маленький успех, первая удача подымают дух, вселяют уверенность в свои силы, заставляют непреложно верить в наши дальнейшие близкие успехи.
III
26-го с рассветом отряд генерала Ренненкампфа продолжал наступление по дороге Уянынь-Бенсиху, а наш конный отряд генерала Любавина, вновь переправившись через реку Тайдзихэ и выслав разъезды, тронулся левым берегом реки к деревне Бенсиху. Все ожидали, что Бенсиху занято значительными силами японцев, все ждали сегодня боя, а потому нервы у всех были взвинчены, чувствовалась, как это всегда бывает перед делом, какая-то особенная, несколько повышенная возбужденность. Возбужденность всадников передавалась лошадям, и, подбадриваемые резкою свежестью сентябрьского утра, кони шли пофыркивая, скорым широким шагом.
У дер. Даюйну шедшая в головном отряде нерчинская сотня князя Джандиери была встречена выстрелами; сотня спешилась и скоро выбила занимавшую эту деревню конную неприятельскую заставу. Мы продолжали движение. На правом берегу реки завязалась перестрелка. Скоро к трескотне ружей примешалось гулкое буханье орудий, ясно было, что там начинается крупное дело. Вскоре и впереди нас затрещали выстрелы; от князя Джандиери прискакал казак с донесением, что высоты над деревней Даудиншань заняты ротою японцев. Высланные на поддержку князя Джандиери две сотни не могли выбить неприятеля из занимаемых им окопов. Генерал приказал орудиям открыть огонь. Громко прогудели первые выстрелы, отдаваясь эхом в далеких горных падях, – не выдержали японцы и после десятка выстрелов очистили позицию. Спешенные сотни сели на коней и, развернув лаву, перешли широкую долину у деревни Даудиншань и поднялись на оставленный японцами гребень. Опередив спускавшуюся в долину колонну, поднялся и генерал на высокую сопку холмистого гребня. Представившаяся отсюда нашим взорам картина никогда не изгладится из моей памяти.
Мы стояли на высоком, холмистом, покрытом редким кустарником хребте, тянувшемся далеко на юго-восток. У ног наших впереди лежала широкая долина, дебуширующая в реку Тайдзихэ. По этой долине тянулась с юга большая дорога, служившая коммуникационной линией японцам. У выхода из долины на реке виднелся построенный японцами на китайских джонках мост, служивший для сообщения с деревней Бенсиху, многочисленные фанзы которой различались на правом берегу реки. Река Тайдзихэ в этом месте образует излучину, и правый, составляющий внутреннюю дугу этой излучины берег представляет собою упирающийся в реку почти неприступный скалистый горный хребет. Хребет тянется далеко на север, и, доминируя над ним, высится острый шпиль неприступной сопки Лаутхалаза. По западному, обращенному к дер. Бенсиху склону хребта змеей вьется горная дорога, ведущая через крутой скалистый перевал в деревню Уянынь, откуда наступают наши войска. Весь гребень по обе стороны перевала изрыт ясно видимыми отсюда занятыми японцами окопами. Таким образом, мы, обогнув фланг противника, оказались в тылу неприятельского расположения, на самой коммуникационной линии японцев. В бинокль видны по ту сторону реки расположенные за гребнем хребта близ перевала два японских орудия. Несколько ниже на склоне горы, близ ведущей на перевал дороги, стоят передки и зарядные ящики. По дороге тут и там мелькают маленькие черные фигурки; быстро, бегом подымаются они на перевал – это, вероятно, производится доставка в передовые цепи патронов из дер. Бенсиху. В этой деревне, надо думать, расположены резервы японцев. А вот в двух местах видны спускающиеся по дороге с перевала несколько черных фигур вместе – то несут раненых. По всему занятому японцами гребню трещат ружейные выстрелы, изредка прерываемые буханьем орудий. То тут, то там под гребнем вспыхивают белые облачка – это рвутся посылаемые генералом Петеревым японцам шрапнели…
Пытавшиеся было спуститься в долину наши сотни встречены сильным огнем японцев, занявших правый берег реки, по обе стороны моста, и высоты над дер. Бенсиху. Мы спешиваем сотни и открываем огонь, стараясь сбить прикрывающих переправу японцев. Артиллерии приказано обстрелять цепи противника и деревню Бенсиху, где предполагаются резервы японцев. Едва выпущено несколько выстрелов из орудий, как густой столб дыма подымается над Бенсиху…
– Смотрите, смотрите, пожар, – говорит кто-то из нас, – это на самом краю деревни, где ханшинный завод, я эти места хорошо помню…
– Там, наверное, их склады… Это японцы сами запалили, чтобы нам не досталось…
– Господа, как придем в Бенсиху, приходите ко мне вареники есть, я еще летом, как мы отсюда уходили, кувшин муки в потайнике запрятал, японцы, наверное, не разыскали, – весело приглашает офицеров хорунжий Рышков.
– Ваше превосходительство, я вчера еще докладывал, снарядов у нас мало, – подходит командир взвода, – сейчас только восемнадцать осталось…
– Экая обида. Видно, не успели доставить… Я два раза писал, требовал, – говорит генерал. Он не может скрыть свою досаду: – Черт побери. Теперь бы только стрелять – все тут разнести в пух и прах можно… Ну, да что ж делать, жарьте последние восемнадцать…
Близок локоть, да не укусишь. До слез обидно видеть свое бессилие, оставаться здесь, не имея возможности воспользоваться всеми выгодами своего исключительно благоприятного положения. Последние восемнадцать снарядов выпущены, и артиллерия остается мертвым грузом, обузой, лишь стесняющей отряд. Генерал приказывает орудиям под прикрытием одной сотни отправляться назад в деревню Уянынь, где и оставаться впредь до пополнения снарядами[8]. Из оставшихся четырех сотен нашего отряда одна выслана для разведки на юг и юго-восток, одна оставлена в прикрытие коноводам, и, таким образом, боевая сила отряда, при условии, что у нас взводы семи-восьмирядного состава, менее 150 винтовок. Конечно, каких-либо активных действий мы при этих условиях предпринимать не можем… Японцам не до нас. Атакованные с фронта генералом Ренненкампфом, они напрягают все усилия удержать за собою занятые ими позиции. Левая колонна отряда генерала Ренненкампфа под начальством генерала Петерева у дер. Ходигоу завязала ожесточенный бой; на поддержку ей командир 3-го корпуса из дер. Каотайдзы выдвинул два батальона с шестью горными орудиями. Отвлеченные в эту сторону, японцы пока оставляют нас в покое, и, хотя наше присутствие у них в тылу и должно их беспокоить, ограничиваются тем, что выставляют против нас заслон из двух рот, занявших правый берег реки у переправы и завязавших с нами оживленную перестрелку. Таким образом, все значение нашего отряда сводится к наблюдательной, чисто пассивной роли. От наших разъездов получены сведения, что им удалось в нескольких пунктах порвать неприятельский телеграф.
– Поезжайте в Уянынь, разыщите генерала Ренненкампфа и доложите о том, что происходит здесь, – приказывает мне генерал Любавин, – просите генерала прислать сюда хоть батальон с двумя орудиями – с этими силами Бенсиху можно взять сегодня же… У меня же всего и полутораста винтовок нет, с этим и удержаться здесь будет трудно, если японцы вздумают нас прогнать…
Скорей, скорей… Не может быть, чтобы генерал не дал подкреплений, а тогда Бенсиху наше… У японцев там силы совсем незначительные, иначе они не оставили бы нас свободно сидеть у себя в тылу… Подкрепления к ним также подойдут не скоро – телеграф всюду порван…
Такие мысли быстро проносятся у меня в голове, когда, пригнувшись к шее моего коня, широким наметом по вьющейся у самой воды дороге я скачу в деревню Уянынь. Мне надо пройти около 7 верст, и, желая сберечь время и силы коня, я выбрал кратчайшую дорогу по самому берегу реки… «Дззыть…» – резко рассекая воздух, просвистала пуля. «Дззыть-дззыть», – еще и еще… Японцы с противоположного берега увидали меня и, вероятно, решив по крупной фигуре моего коня, что скачет офицер, может быть, с важным поручением, открыли по мне одиночный огонь. «Убьют или еще хуже – смертельно ранят, свалишься и останешься лежать здесь, и никому и в голову не придет искать по этой дороге… Да и донесение не дойдет…» – мелькают в голове беспокойные мысли. Но поворачивать на другую дорогу поздно, да и стыдно как-то перед самим собою; толкаю коня и несусь далее, стараясь возможно скорее выйти из обстреливаемого пространства. Реже и реже свищут пули, и вскоре я вне выстрелов…
Не доезжая деревни Уянынь, переправляюсь вброд и иду разыскивать генерала Ренненкампфа. На правом берегу реки оживленное движение: по дороге едут ординарцы, несут раненых. У подошвы хребта, несколько в стороне от дороги, на гаоляновом поле расположился какой-то батальон; ружья составлены в козлы, люди отдыхают, сидя или лежа на земле. У впадающего в Тайдзихэ горного ручья близ группы из нескольких скорченных старых дубов виднеется значок Красного Креста – там расположился перевязочный пункт. Впереди по всему хребту, не умолкая, слышится трескотня ружей, бухают орудия, тут и там вспыхивают дымки шрапнельных разрывов…
На вершине отдельной сопки под деревом сидит генерал Ренненкампф со штабом, следя за ходом боя. Выслушав мой доклад и просьбу генерала Любавина о подкреплениях, генерал Ренненкампф грустно разводит руками:
– Ничего сделать не могу… Ни одного человека отсюда на левый берег Тайдзихэ без разрешения переправить теперь не могу. Буду телеграфировать об этом и просить разрешения начальства. Пока пусть генерал Любавин держится до последней крайности, охраняя наш фланг и ведя разведку. Скажите генералу, что я прошу доносить возможно чаще о том, что делается у японцев…
Сажусь на коня и еду обратно, на этот раз уже выбирая более дальнюю, безопасную дорогу. К чему теперь спешить? Я знаю, что меня там ждут с верою в поддержку, что там считают минуты, когда могут подойти подкрепления, я сознаю, что ответ, который я везу, будет для всех горьким неожиданным разочарованием, и я невольно оттягиваю тяжелую минуту.
Вот и деревня Даудиншань. Через долину в небольшом отладке стоят наши коноводы. Тут же близ дороги расположился и перевязочный пункт; раненых в данную минуту нет… Фельдшер кипятит в котелке воду, доктор отдыхает, сидя с папироской в зубах, поджавши ноги, на земле. У самой дороги лежит на спине накрытый серою шинелью труп убитого казака; из-под шинели торчат лишь ноги в стоптанных порыжелых казачьих «ичиках».
– Удивительный случай, – обращается ко мне доктор, – первый раз за всю мою практику… Излетная пуля ударила в левую половину груди, в область сердца, и даже не разрушила наружные покровы – всего небольшой кровоподтек, а человек мертв…
Он откидывает с убитого шинель, отворачивает рубаху и показывает мне рану – маленький, с серебряный пятачок, кровоподтек под самым левым соском. Несчастный, посланный куда-то с донесением, желая сократить расстояние, сунулся, как и я сегодня, по злосчастной береговой дороге и был убит дальней излетной пулей. Я вглядываюсь в него: смерть, по-видимому, последовала мгновенно, и молодое безусое лицо с полуоткрытыми глазами не выражает никакого страдания; оно спокойно, как у безмятежно заснувшего человека, и лишь побелевшие губы да неподвижная окоченелость тела показывают, что здесь лежит бездыханный труп.
Генерал Любавин спокойно выслушивает мой доклад.
– Японцы пока нас оставляют в покое, но на ночь нам, вероятно, придется отойти, – говорит генерал, – позиция здесь плохая, люди и лошади с утра не ели… Поезжайте к генералу Ренненкампфу и передайте, что я прошу разрешения на ночь отойти на 5 верст назад, в деревню Даюйну.
Поворачиваю коня и в третий раз сегодня возвращаюсь в Уянынь. Солнце склонилось к закату, в воздухе потянуло вечерней свежестью. День близится к концу, и бой продолжается, не давая нам, по-видимому, существенного успеха. Издали прислушиваюсь к беспрерывной трескотне ружей и глухим выстрелам орудий, тщетно надеясь догадаться по ним о том, что совершается там, на правом берегу реки.
У въезда в Уянынь встречаю генерала Ренненкампфа; он верхом возвращается со штабом с передовых позиций. Генерал разрешает отойти на ночь нашему отряду в деревню Даюйну с тем, чтобы до рассвета мы выдвинулись вновь на сегодняшние места.
Усталый конь мой идет лениво, мне приходится его беспрерывно подталкивать; я спешу до полной темноты достигнуть генерала Любавина. Солнце скрылось за горы, закат быстро бледнеет, и темные тени ползут по небосклону. Одна за другою загораются далекие бледные звезды. Густой туман подымается над рекой и стелется по долинам, охватывая вас пронизывающей холодной сыростью. Перестрелка постепенно стихает, орудийных выстрелов почти не слышно, и последние шрапнели вспыхивают на небе, как фейерверки, красными яркими огоньками…
В полной темноте наш конный отряд достигает деревни Даюйну, где и располагается на ночлег.
Длившийся у генерала Ренненкампфа целый день бой окончился безрезультатно, и в руках противников остались все перевалы и наиболее возвышенные, господствующие над местностью сопки. Упорная оборона японцами занятых ими позиций и наш неуспех 26 сентября заставляли нас действовать особенно осмотрительно, а полное отсутствие мало-мальски сносных карт не позволяло двигаться далее, не обрекогносцировавши впереди лежащую местность. В силу этих соображений начальник восточного отряда решил 27-го числа отряду оставаться на занятых местах и этот день употребить на рекогносцировку неприятельских передовых позиций с целью выяснить подступы и обходные пути к ним.
IV
Задолго до рассвета поднялся 27 сентября наш конный отряд и двинулся для занятия вновь оставленных накануне позиций. Ночью от наших разъездов были получены сведения, что к неприятелю в Бенсиху подошли значительные подкрепления[9], и являлось опасение, что сегодня неприятель постарается нас оттеснить. Однако мы достигли беспрепятственно деревни Даудиншань и, никем не тревожимые, заняли оставленные накануне позиции. По-видимому, подошедшие ночью к неприятелю подкрепления были еще не настоль значительны, чтобы позволить противнику, не ослабляя себя с фронта, предпринять против нас активные действия и воспрепятствовать нам угрожать его флангу и тылу. Вера в успех еще не покидала нас, и надежда на подкрепления все еще жила в наших сердцах…
Бледный рассвет медленно наступал. Резкая предрассветная свежесть пронизывала насквозь, зуб не попадал на зуб, мы продрогли до костей и с нетерпением ждали первых лучей солнца. Вскоре наши передовые цепи завязали с охранявшими мост на Тайдзихэ японцами редкую перестрелку. На той стороне реки, у генерала Ренненкампфа, тоже завязалось дело… Постепенно окончательно рассвело, потянул ветерок, и стоявший над водою густой пеленою белый туман медленно рассеялся. Мы вновь увидали лежащую под нами широкую долину, мост на реке, мелькавшие вдали крыши деревни Бенсиху, высокий скалистый, занятый японцами хребет… В расположении противника за ночь произошли кое-какие перемены: кроме замеченных нами накануне двух орудий японцы поставили сегодня еще четыре, несколько севернее Бенсиху, за хребтом близ дороги на Хуанлинский перевал; вскоре к трескотне ружей и редкому буханью орудий примешалось напоминающее издали шум швейной машинки стуканье пулеметов – все показывало, что ночью противник значительно усилил оборону своих позиций.
О замеченных у неприятеля переменах генерал Любавин тотчас же донес генералу Ренненкампфу. Так как по видимым отсюда разрывам посылаемых генералом Ренненкампфом японцам шрапнелей видно было, что все усилия его артиллерии нащупать батареи противника оставались тщетными, генерал Любавин приказал мне нанести кроки неприятельских позиций с обозначением расположения видимых отсюда орудий и доставить их генералу Ренненкампфу, дабы по ним могла ориентироваться его артиллерия.
Взяв двух казаков, я пополз на высокую, выдающуюся мысом в реку скалистую сопку, откуда особенно хорошо должен был быть виден противоположный, занятый японцами берег реки. Оставаясь второй день в тылу неприятеля, им совсем не тревожимые, мы настолько освоились с этим положением, что подчас забывали всякую осторожность. Желая скорее достигнуть вершины сопки, мы шли по вьющейся по самому гребню кряжа горной тропинке, нисколько не скрываясь, совсем забыв, что находимся на расстоянии ружейного выстрела от японцев. Наше нахальство не замедлило быть наказанным; выцелив нас хорошенько, несколько японцев дают залп… Я слышу близко, над самым ухом, зловещий свист, точно рассекли воздух бичом, и идущий со мною рядом казак, вскрикнув, хватается за щеку и сразу приседает. Я также бросаюсь ничком на землю.
– Что, брат, ранен? – осведомляюсь я.
Тот отымает от лица руку, крови нет; но через всю щеку идет кровяно-красный рубец…
– Пустяки, контузило; дешево отделался, – утешаю я, и, наученные хорошим уроком, мы подымаемся далее уже осторожно; скрываясь за кустами, местами ползком.
Вот и вершина горы. Укрывшись в кустах, лежа на земле, я смотрю в бинокль. На ясной синеве неба резко выделяется зубчатый гребень занятого японцами хребта; как на ладони видны на склоне неприятельские орудия и ниже их отъехавшие передки. У подошвы хребта, в долине маленькой речки, впадающей в Тайдзихэ и протекающей через деревню Бенсиху, видны расположившиеся на берегу две роты – это резервы. Я быстро заношу кроки. Один из казаков просит у меня бинокль и, пока я рисую, наблюдает за японцами.
– Ваше высокоблагородие, глядите – вон там на сопке много их видно, – указывает он на резко выделяющуюся острую сопку Лаутхалаза, командующую над всею окружающей местностью.
Я беру бинокль и смотрю в указанном направлении: от острого шпиля сопки потянулся на запад пологий гребень с вьющейся по нему дорогой, ведущей зигзагами на вершину горы. Черной змейкой вытянулась по дороге, подымаясь в гору, колонна японцев – за дальностью расстояния трудно определить, сколько их здесь, – я думаю, не менее батальона…
Кроки окончено, мы спускаемся с горы к генералу Любавину, и я, сев на коня, везу кроки генералу Ренненкампфу в деревню Уянынь.
Шестой уж раз за эти два дня приходится мне проезжать семь верст, разделяющие деревни Даудиншань и Уянынь. Конь мой успел хорошо изучить эту дорогу и идет уверенно широкой, размашистой рысью… Вот и деревня Уянынь. У переправы, по эту сторону реки, видны какие-то люди. Подъезжаю ближе и ясно различаю серые фигуры наших стрелков.
«Неужели подкрепление? Слава Богу. Наконец-то… Еще не поздно; успех еще может быть на нашей стороне…» Но меня ждет горькое разочарование. Стрелки оказываются из отряда полковника Дружинина, высланного накануне вечером на левый берег Тайдзихэ… лишь для охраны переправы у Уяныня…
Переправляюсь через реку и еду отыскивать генерала Ренненкампфа. Вскоре замечаю группу офицерских лошадей; генерал Ренненкампф со штабом, оставив коней в долине, поднялся в сопки на позицию. Слезаю с коня и, отослав вестового с лошадьми в Уянынь, подымаюсь в гору. Около часу приходится мне лезть на сопку по едва видимой, местами почти теряющейся козьей тропе. Солнце поднялось высоко, лучи его с ясного безоблачного неба падают почти отвесно и жгут, как в июле. Я обрываюсь, скольжу, падаю и обливаюсь потом… Наконец и вершина горы. Генерал, окруженный офицерами штаба, лежа на траве, рассматривает карту, слушая объяснения начальника 71-й пехотной дивизии генерала Экка.
– Благодарю вас, – выслушав меня, говорит генерал, – эти кроки очень пригодятся. Отнесите их, пожалуйста, генералу хану Алиеву, начальнику артиллерии. Вы найдете его там, в долине, у батареи, к северу от деревни Уянынь.
Едва переводя дух, снова иду, скользя, срываясь и обливаясь потом, на этот раз уже под гору. В долине к северу от деревни Уянынь, у подошвы высокой скалистой сопки среди скошенного гаолянового поля, расположилась батарея; она прекрасно маскирована снопами гаоляна, и ее издали совсем не видно. В стороне от дороги, ведущей из деревни Уянынь в деревню Иогоу, за группою из нескольких фанз стоят отъехавшие передки. Начальник артиллерии генерал хан Алиев с вершины скалистой сопки за батареей управляет посредством телефона огнем артиллерии. Японцы, обнаружив, по-видимому, несмотря на прекрасную маскировку, наши орудия, жестоко обстреливают ближайшую площадь долины артиллерийским огнем; то и дело вокруг батареи гудят и рвутся их снаряды, визжит, рассекая воздух и взбивая пыль на гаоляновом поле, шрапнель.
Лихо работают наши артиллеристы под огнем противника; беспрестанно бухают наши орудия, посылая японцам шрапнель, разрывы которой ясно обозначаются вспыхивающими белыми облачками дыма над занятым японцами хребтом…
Я передаю начальнику артиллерии сделанные мною кроки, и генерал, переговорив по телефону с командиром батареи, приказывает мне отнести эти кроки на батарею. Спускаюсь с сопки и, выждав минуту, когда японский огонь на мгновение ослабевает, спешу перейти отделяющее меня от наших орудий открытое пространство. Артиллерийские ровики хотя и прикрывают прислугу от губительного огня японцев, но все же за эти дни батарея понесла крупные потери, и большая часть офицеров и нижних чинов выбыла из строя; раненый командир батареи, с подвязанной рукой, встречает меня очень любезно.
– Ну, теперь мы зададим им перцу, а то жарят черт их знает откуда, – весело говорит он.
Я едва успеваю передать ему кроки и сказать несколько слов, как японцы вновь усиливают огонь. Резко гудя, несется, приближаясь к нам, снаряд. «Попадет или нет?» – быстро прорезывает мозг жуткая мысль. С сухим ясным звуком рвется снаряд, и, рассекая воздух, визжит шрапнель, заставляя меня инстинктивно зажмуриться… «Не попали… Слава Богу, все целы…» – вырывается облегченный вздох, но снова несется снаряд, и снова тяжелое чувство ожидания чего-то неизвестного и страшного заставляет усиленно биться сердце… Японцы выпустили очередь. – «Первое», – раздается команда, и, ярко сверкнув и заставив вздрогнуть тяжелое тело орудия, гремит выстрел, и через несколько секунд над занятым японцами хребтом вспыхивает белое круглое облачко. – «Второе». – И снова гремит выстрел, и несется снаряд, внося смерть и страдание там, где, укрывшись в высоких скалах, засел маленький неприступный враг…
Мои кроки приносят пользу: наша артиллерия скоро нащупывает батарею противника. Несладко приходится, по-видимому, японцам, их артиллерийский огонь постепенно слабеет, и наши орудия получают возможность перенести огонь на сопку Лаутхалаза, которую в это время атакует со стороны деревни Каотайдзы соседний 3-й корпус.
Я направляюсь пешком в Уянынь, где ждет меня моя лошадь. В ожидании меня мой вестовой раздобыл где-то кипятку и угощает меня чаем с сухарями. Я с утра ничего не ел и с удовольствием выпиваю две кружки ароматной влаги. По дороге со стороны деревни Каотайдзы едет верхом стрелковый офицер с двумя нижними чинами; он подъезжает ко мне и представляется:
– Поручик фон Ланг, разведчик при третьем корпусе. Вы из отряда генерала Любавина? Ну, что у вас там делается?
Я предлагаю поручику кружку чая и рассказываю то, что видел за последние дни.
– Вы не поверите, как это обидно, – говорит фон Ланг. – Я сейчас из Каотайдзы, из третьего корпуса, – мы атакуем сопку Лаутхалаза, ту самую сопку, у которой вы видели подходящие японские подкрепления. Эта сопка, командующая над всею местностью, еще вчера была свободна от неприятеля; на нее поднимался офицер из нашего штаба с двумя казаками. Несмотря на очевидное свое значение, сопка не была занята нами, не была использована ни как опорный, ни как наблюдательный пункт.
Японцы скоро спохватились – к вечеру я наблюдал уже, как человек двадцать их рыли там окопы, о чем и донес командиру корпуса. Однако донесению моему не придали значения – Лаутхалаза нами не занималась, и мы продолжали спокойно стоять под нею биваком, точь-в-точь как на мирных маневрах. Сегодня ночью наша охотничья команда выбила японцев и заняла сопку, но к утру, никем не поддержанная и не имея патронов, должна была отойти… Теперь же для занятия Лаутхалазы и полка будет мало. И здесь опоздали… – грустно заканчивает свой рассказ фон Ланг.
Я прощаюсь с ним и еду назад к генералу Любавину. Жгучее чувство горечи, вызванное только что слышанным рассказом очевидца, охватывает меня. Впервые за эти дни я чувствую веру в наши силы поколебленной, я начинаю сомневаться в нашем непреложном успехе. Второй день длится бой, не давая нам успеха, второй день мы, пренебрегая всеми преимуществами нашего исключительно благоприятного положения, упорно пытаемся взять в лоб неприступные позиции противника. Минувшею ночью к Бенсиху подошли подкрепления японцев, сегодня ночью неприятель, несомненно, усилится еще, и, может быть, завтра роли переменятся. «И здесь опоздали», – вспоминаются мне только что слышанные слова.
У генерала Любавина я нахожу все без перемен. Отряд занимает у деревни Даудиншань те же позиции, оставаясь по-прежнему в пассивной роли наблюдателя. Передовые цепи вяло перестреливаются с японцами, охраняющими мост на реке. На ночь генерал Любавин собирается, как и вчера, отойти в Даюйну с тем, чтобы с рассветом вновь занять позиции у деревни Даудиншань. Мне приказано опять отправляться в Уянынь к генералу Ренненкампфу доложить о действиях на сегодняшний день нашего конного отряда; в Уяныне я должен оставаться на ночь с тем, чтобы с рассветом доставить на позицию к деревне Даудиншань патроны, в которых начинает ощущаться недостаток.
Я приезжаю в Уянынь уже в полную темноту и являюсь генералу Ренненкампфу, последний предлагает мне переночевать в занимаемой им и его штабом фанзе. Поужинав любезно предложенной мне генералом холодной курицей и чаем с сухарями, я располагаюсь на кане на ночлег. Большинство офицеров штаба уже спят, вытянувшись рядом на широком кане, накрывшись кто буркой, кто офицерской шинелью. Не спят лишь генерал Ренненкампф и его начальник штаба; склонившись над разложенной на столе картой, освещенной вставленным в бутылку огарком, генерал диктует какие-то приказания. Долго еще сквозь сон доносится до меня его отрывистый характерный голос.
V
В 5 часов мы уже на ногах; на 28-е приказано восточному отряду атаковать ряд перевалов, занятых противником, и генерал спешит на позиции. Мы садимся пить чай, когда в дверях показывается широко улыбающаяся фигура вестового генерала, Якова.
– Ваше превосходительство, японца пленного привели, – радостно докладывает Яков.
Мы выходим во двор. Два стрелка привели пленного японца; маленький, безусый, почти мальчик, японец кажется особенно тщедушным по сравнению с крупными фигурами стрелков. Он без фуражки, в аккуратном черном суконном мундире, ноги обуты в легкие гетры; вокруг пояса обмотана тонкая бечевка, конец которой держит один из стрелков: «Чтобы не убежал», – добродушно поясняет конвойный. Японец, видимо, робеет, беспрестанно кланяется всем корпусом, держа руки вытянутыми вдоль тела, и бормочет что-то непонятное… Желая ободрить пленного, генерал ласково похлопывает его по плечу и предлагает ряд вопросов через китайца-переводчика. Японец по-китайски знает лишь немногим больше нашего; нам удается узнать, что ночью, сидя в секрете, он сорвался с сопки и сильно разбился, пролежав без памяти до утра, когда был подобран нашими стрелками. О количестве и расположении своих войск он ничего не знает.
Оставив японца под караулом и приказав накормить, генерал со штабом отправляется на позиции, а я с тремя казаками и двумя мулами под патронными вьюками еду к генералу Любавину.
Генерал Любавин занимает старые позиции у деревни Даудиншань; я нахожу его близ коноводов пьющим с несколькими офицерами чай. В маленькой глухой падинке, где укрылись коноводы, разложен костер из сухого гаоляна; в большом металлическом чайнике, подвешенном над огнем, кипит вода. Вокруг костра в разнообразных позах человек пять офицеров пьют чай из эмалированных металлических кружек, закусывая черными сухарями. За ночь японцы, по-видимому, еще укрепили свои позиции. На высокой сопке к югу от Бенсиху с нашего наблюдательного поста замечены работающие люди – вероятно, роются окопы, может быть, устанавливаются орудия.
– Ну, сегодня японцы нас здесь в покое не оставят, – основательно замечает кто-то из офицеров.
На правом берегу реки слышна сильная орудийная канонада – это начинается артиллерийская подготовка назначенной к 12 часам дня общей атаки восточного отряда. В 9 часов получается от генерала Ренненкампфа известие, что на поддержку нас направляется генерал Самсонов с девятью сотнями сибирских казаков и четырьмя орудиями. Как это ни кажется странным, известие о подкреплениях встречается всеми без особой радости; то, что вчера еще вызвало бы всеобщее ликование, сегодня принимается довольно безразлично; все знают, что японцы за эти дни усилились, что отныне Бенсиху не столь беззащитна, как два дня тому назад, когда мы пришли сюда впервые, все чувствуют, что благоприятный момент уже упущен[10].
Вскоре от генерала Самсонова приезжает казак с донесением; сообщая о своем подходе, генерал Самсонов просит выслать ему навстречу офицера, хорошо знакомого с местностью. Генерал Любавин назначает меня. Еду по направлению деревни Уянынь, откуда подходит генерал Самсонов, и в долине, у деревни Даюйну, встречаю его отряд; спешенные сотни стоят близ дороги; небольшая группа офицеров окружает высокого плотного есаула, без фуражки, с обвязанной марлей головой. Оказывается, что назначенный в проводники к генералу Самсонову казак сбился с пути и повел отряд береговой, обстреливаемой японцами дорогой. Едва головная сотня вошла в обстреливаемое пространство, как японцы с противоположного берега открыли горячую стрельбу, и один офицер, два казака и несколько лошадей были ранены. Генерал Самсонов, свернув с дороги и спешив отряд, сам со штабом поднялся на высокую сопку, дабы осмотреть окружающую местность. Я являюсь генералу, который подробно расспрашивает меня о положении отряда генерала Любавина и о сведениях, имеющихся у нас о японцах. Красивая, спокойная фигура генерала и приятный голос располагают к себе. В предлагаемых генералом вопросах чувствуется спокойная обдуманность, видно желание всесторонне осветить каждый факт.
Пройдя вдоль хребта на перевал и убедившись в невозможности для тяжелых полевых орудий двигаться далее, генерал решает: артиллерии оставаться здесь, на перевале, казакам же, кроме одной сотни, оставленной в прикрытие орудий, двигаться вперед, на усиление отряда генерала Любавина. Выбранная артиллерийская позиция очень удобна; отсюда представляется ряд видимых целей, является возможным обстреливать на значительном протяжении занятый японцами хребет, мост на Тайдзихэ и самую деревню Бенсиху, до которой около 6 верст. Начальник артиллерии выражает сомнение в возможности поднять орудия на перевал.
– Ничего, попробуем, только разрешите, ваше превосходительство, – просит есаул Егоров, молодой офицер, причисленный к Генеральному штабу и состоящий при генерале.
– Ну, братцы, постарайтесь. Эй, дубинушка, ухнем! – весело подбадривает казаков Егоров, сам впрягшись в орудие, и менее чем через 10 минут орудия на веревках втянуты на гору.
Подкрепленный подошедшими сибирцами, генерал Любавин делает попытку продвинуться вперед; он встречен бешеным огнем японцев, прикрывающих мост на реке. Два японских орудия, установленных сегодня ночью на высоте к югу от Бенсиху, поддерживают свои передовые части, осыпая казаков шрапнелью. Несколько снарядов попадают в коноводов. Генерал Любавин принужден отойти назад, заняв хребет к югу от деревни Даудиншань. Японцы, перейдя в наступление, преследуют его и, переправившись через реку, занимают оставленные казаками прежние позиции.
Я с остальными офицерами штаба генерала Самсонова нахожусь при нем на артиллерийской позиции, откуда наши орудия ведут беспрерывную стрельбу по занятым японцами высотам на правом берегу реки. Заметив переправляющуюся через реку колонну японцев, артиллерия переносит свой огонь на мост. «Буух-буух», – гремят орудия, и через секунду почти одновременно вспыхивают под мостом два белых круглых облачка разорвавшихся шрапнелей… Быстро, бегом двигаются по мосту маленькие черные фигурки – точно муравьи бегут по стебельку травы, быстро перебегают они открытое пространство, спеша скрыться за острым скалистым мысом. Вот одна шрапнель разорвалась над самым мостом, в бинокль видно, как на мгновение маленькие черные фигурки столкнулись и смешались, но тотчас же в полном порядке быстро побежали далее и одна за другой скрылись за уступом горы.
На правом берегу реки артиллерийская стрельба достигла своего апогея; орудия гремят беспрерывно, грохот выстрелов подчас сливается в общий раскат – начинается атака японских позиций. Прямо против нас, на противоположном берегу реки, высится занятая японцами сопка. В бинокль ясно можно различить венчающие ее гребень неприятельские окопы. У подножия сопки видны наступающие перебежками наши пехотные цепи. Быстро карабкаются в гору маленькие серые фигурки стрелков, осыпаемые сверху из занятых японцами окопов градом пуль. Все выше и выше ползут они, цепляясь за каждый куст, за каждый выступ камня… Одни падают и остаются лежать серым пятном на желтом, песчанистом склоне горы, другие лезут дальше, скользят, обрываются и падают, встают и лезут вновь, все выше и выше, под градом несущихся им навстречу пуль…
Быстро пристрелявшись, наши два орудия открывают беглый огонь по занятым японцами окопам. Один за другим гремят выстрелы, и белые облачка беспрестанно вспыхивают над вершиной сопки; в бинокль ясно видно, как шрапнель, осыпая окопы, взбивает серо-желтую пыль. Один за другим рвутся над сопкою наши снаряды, но, несмотря на жестокий огонь, японцы держатся отчаянно, крепко засев в окопах, ни на мгновение не прекращая бешеный огонь.
Выше и выше ползут маленькие серые фигурки наших молодцов – теперь они уже совсем близко от вершины горы, настолько близко, что наша артиллерия должна, из опасения поражать своих, прекратить огонь. Залегши за небольшой каменистой грядой, наши стрелки готовятся к последнему удару; один за другим подползают отставшие, накопляясь маленькими группами за разбросанными по склону горы камнями. Японцы, высунувшись по пояс из окопов, поражают наших почти отвесным огнем.
Забыв весь окружающий мир, с захватывающим неизъяснимым чувством, не имея сил оторвать биноклей от глаз, следим мы за геройской борьбой на противоположном берегу реки. Все взоры впились в одну маленькую скалистую вершину, где горсть наших храбрецов ведет последнюю ожесточенную борьбу, борьбу между жизнью и смертью. Всем существом в эту минуту переносишься туда, до боли страдая в бессилии им помочь.
Оправившись и собравшись с силами, стрелки бросаются, чтобы нанести последний удар. Сперва из-за камня выскакивает одна серая фигурка – это офицер – видно, как блещет обнаженная шашка, затем сразу целая горсть фигур, спеша и обгоняя друг друга, бросается в гору, быстро ползет на вершину сопки… От волнения бинокль трясется в руках, в глазах что-то мелькает и рябит…
Выстрелы японцев сливаются в один общий непрерывный треск… Но что это? Маленькие быстрые фигуры сразу остановились… Офицера впереди уже нет, на том месте, где он находился, виднеется лишь маленькое неподвижное серое пятнышко на желтом склоне горы… и вдруг сразу серые фигурки повернули и быстро побежали вниз, спеша и обгоняя друг друга. Одна, другая, третья падают и остаются лежать неподвижно, и скоро по всему склону горы остаются неподвижные серые пятнышки. Наша атака отбита…
Бой на правом берегу реки постепенно замирает. Сумерки медленно спускаются на землю, и на темнеющем небосводе одна за другой загораются далекие звезды. Последние шрапнели изредка вспыхивают яркими фейерверками на темном фоне неба. Кое-где еще слышна ружейная трескотня…
Мы оставляем с генералом перевал и спускаемся к деревне Даюйну, чтобы поужинать и выспаться несколько часов.
Несмотря на выдающуюся доблесть войск Восточного отряда, атака 28 сентября не увенчалась успехом; выбить японцев с перевалов не удалось. Генерал Штакельберг отдает приказание в 4 часа атаку возобновить[11].
VI
Подкрепленные несколькими часами сна, мы в два часа ночи уже находимся на нашей артиллерийской позиции. Нас охватывает темнота холодной осенней ночи. Миллиарды звезд слабо мерцают на темном далеком небосводе. Длившаяся всю ночь горячая перестрелка теперь смолкла, и все тихо по ту сторону реки. Изредка стукнет вдали одиночный выстрел, и снова все погрузится в прежнюю глубокую тишину…
Но вот в ночной мгле резко грянул близкий ружейный выстрел. Еще и еще… И сразу беспокойно загремела ружейная трескотня, часто застукали пулеметы… Звук выстрелов слился в один общий беспрерывный треск… И вдруг страшный, отчаянный крик пронесся в темноте и, постепенно растя и возвышаясь, заполнил собою тишину ночи.
– Атака, – вслух замечает кто-то из нас.
Многие снимают фуражки и крестятся. Молча, напряженно вглядываясь в ночную мглу, слушаем мы, стараясь догадаться о том, что происходит там – впереди нас. Там трещат выстрелы, стукают пулеметы, и, покрывая все, несется крик «ура», неудержимый, стихийный и страшный… И слышатся в этом крике и вопль отчаяния, и торжествующий клик победы, и предсмертный страдальческий стон…
И подобно тому как родился и вырос в темноте ночи этот стихийный, ужасный крик, так и умирает он, слабея и тая. Проносятся последние раскаты и отдаются эхом в далеких долинах гор… Умолкает беспокойная стукотня пулеметов… Ружейная перестрелка слабеет… Атака кончена. Чем завершилась она? Удалось ли нам занять неприступные скалистые гребни, геройски обороняемые храбрым врагом, или, усеяв склоны гор телами наших павших храбрецов, мы отошли, разбитые и усталые, дабы собраться со свежими силами для новой борьбы? Безмолвная ночная тишина не дает нам ответа.
В 6 часов утра от генерала Ренненкампфа получается донесение, что атака частей его отряда имела лишь частичный успех; удалось занять лишь несколько сопок и между прочим ту, геройскую атаку которой нашими стрелками мы наблюдали вчера.
Бледный рассвет медленно наступает. Потянул легкий ветерок, и густой белый туман, стоявший над рекою, рассеялся. На противоположном берегу реки, у подножия высокой сопки, виднеются какие-то сомкнутые пехотные части. Вершина сопки занята сегодня ночью нами, и в бинокль ясно видны роющиеся за гребнем серые фигуры наших стрелков. Весь склон горы усеян телами раненых и убитых, павших в сегодняшнем ночном деле. Одни лежат неподвижно, другие, приподнявшись, в разнообразных позах ожидают помощи. В нескольких местах видны спускающиеся по склону группы людей – несут раненых. А вот над распростертым телом наклонилась серая фигурка с едва видимой отсюда беленькой полоской на рукаве – это фельдшер перевязывает раненого…
Впереди нас, со стороны Бенсиху, гремит орудийный выстрел. Гудя, приближается к нам снаряд. Ближе и ближе… Не долетев до наших орудий, снаряд ударяется в землю, подняв столб черного густого дыма…
– Шимоза… Пристреливаются к нашей батарее, – замечает старший адъютант штаба дивизии подполковник Посохов.
Опять впереди гремит выстрел, и перелетевший снаряд падает за батареей, недалеко от стоящих под перевалом передков. Японцы быстро пристреливаются и открывают стрельбу по нашим орудиям залпами. Один за другим рвутся над перевалом их снаряды, пока еще не поражая наших артиллеристов. Мы отвечаем, посылая шрапнель за шрапнелью…
От высланных на юг наших разъездов начинают поступать одно за другим донесения, что замечены значительные подкрепления, подходящие к противнику со стороны Сихеяна[12]. Скоро выясняется и сила этих подкреплений – около бригады. Генерал Любавин, теснимый с фронта и угрожаемый с фланга, медленно отходит. Японцы вскоре занимают оставленный им гребень. Их артиллерия, поддерживавшая наступление против генерала Любавина и временно прекратившая обстреливание наших орудий, вновь переносит свой огонь на нашу батарею… Сразу несколько снарядов рвутся над перевалом… Заметив отход генерала Любавина, решает отойти и генерал Самсонов. Быстро, но без суеты подбегают казаки к орудиям и на веревках начинают спускать их с перевала. Несколько облачков дыма вспыхивают над батареей, резко рассекая воздух и взбивая сухую землю, свистит шрапнель, но казаки не торопясь продолжают свое дело. Стоя на перевале, генерал Самсонов отдает приказания…
На правом берегу реки бой достиг крайнего напряжения. Выстрелы гремят беспрерывно, белые облачка шрапнельных разрывов беспрестанно вспыхивают над гребнем. Неоднократные яростные атаки отряда генерала Ренненкампфа отбиты с громадными потерями, лишь крайнему левому флангу его удается сильно продвинуться берегом реки вперед. Отход нашего конного отряда ставит атакующие части в крайне тяжелое положение, давая возможность подошедшим японским подкреплениям поражать с левого берега р. Тайдзихэ войска генерала Ренненкампфа не только с фланга, но и с тыла[13]. Генерал Ренненкампф должен оставить занятые с боя позиции и также отходить. Цепи, занимающие гребень высокой сопки на берегу реки, отходят, и в бинокль ясно видно, как сразу склон сопки покрывается спускающимися фигурками; быстро, быстро сбегают эти фигурки, оставляя за собою ряд неподвижных пятен – тела раненых и убитых товарищей. Японцы провожают их ожесточенной беспорядочной стрельбой…
Орудия спущены с перевала, взяты на передки, и мы рысью отходим. Несколько снарядов падают позади нас на дороге, не причинив нам вреда. Отойдя версты на 3 за деревню Сягоусяндзы, орудия снимаются с передков и, расположившись среди гаолянового поля, открывают стрельбу, обстреливая гребень, откуда мы недавно отошли и где теперь виднеются пехотные цепи противников.
Со стороны деревни Уянынь подъезжает группа всадников. Впереди виднеется характерная плотная фигура генерала Ренненкампфа на крупном гнедом коне; сзади следуют офицеры его штаба. Подъехав к батарее, генерал Ренненкампф спешивается и, отойдя в сторону с генералом Самсоновым, с ним долго о чем-то совещается. Офицеры штаба ожидают, расположившись поодаль. Мы молчим, мы боимся признаться в ужасной истине, но в глубине души каждый из нас уже сознает, что все надежды разбиты, что это есть начало конца, что дело окончательно проиграно…
Японцы довольствуются тем, что заняли вновь потерянные ночью позиции и, оттеснив наш конный отряд, обеспечили свой фланг и тыл; они остаются против генерала Ренненкампфа на занятых ими высотах. Истощенные рядом предшествовавших атак, мы отказываемся от наступательного образа действий и переходим к обороне. Оба противника остаются друг против друга, ведя горячую орудийную и ружейную перестрелку. В 5 часов вечера генерал Самсонов решает отойти к деревне Улунсунь, где и оставаться для прикрытия переправы через р. Тайдзихэ, против деревни Уянынь. Небо заволакивается тучами, начинает покрапывать мелкий дождь. Деревня Улунсунь, маленькая и бедная, всего из трех-четырех фанз, совсем разорена и покинута жителями. Я помещаюсь с некоторыми офицерами штаба генерала Самсонова в ветхой полуразрушенной фанзушке. Отказавшись от ужина, я устраиваюсь на кане, положив под голову седельную подушку и накрывшись с головой буркой. На душе тяжело и грустно, хочется забыться, уйти, хоть ненадолго, от тяжелой ужасной действительности. Но, несмотря на усталость, мне не удается заснуть: в фанзе холодно и сыро, ветер дует сквозь многочисленные дыры в оклеивающей окна бумаге, беспрестанно входят и выходят с приказаниями ординарцы. В два часа ночи нас поднимают. Выдвинутое положение восточного отряда внушает опасения, и нам приказано на 30 сентября отходить на одну высоту с западным отрядом, который должен держаться на реке Шахэ. Генералу Самсонову приказано, двигаясь горной дорогой на деревни Иогоу – Чанхуанзай, в долину Сандзядза, прикрывать отступление левого фланга восточного отряда.
VII
В полной темноте мы выходим на двор и, сев на коней, трогаемся по построенному через Тайдзихэ отрядом полковника Дружинина мосту к деревне Иогоу. Небо заволокло черными тучами, сеет мелкий осенний дождь, ни зги не видно. Темные конные силуэты казаков едва обрисовываются в темноте. Мы двигаемся молча, слышно лишь чавканье копыт по глинистой грязи размокшей дороги. У маленькой кумирни близ деревни Иогоу мы останавливаемся и долго ждем чего-то, стоя на дороге. В темноте мимо нас бредут какие-то тени…
– Какой части? – спрашивает кто-то из нас.
– Читинского полка… Раненые… Куда полк-то наш ушел?.. Отбились мы… – доносится из темноты, и тени исчезают, расплываясь в ночной мгле…
Наконец трогаемся далее. Бледный серый рассвет медленно наступает; дождь продолжает моросить, и в предрассветной дождливой мгле все окрестные предметы кажутся какими-то серыми. По обе стороны дороги бредут отсталые и раненые… На скошенном гаоляновом поле, в том месте, где находился перевязочный пункт, виднеются какие-то серые фигуры. Их много, несколько сот, по обе стороны дороги. Накрытые намокшими серыми шинелями лежат рядами на размокшей глинистой земле тяжелораненые; другие, в разнообразных позах, сидят понуро на земле под мелким, сеющим, как сквозь сито, дождем. Всюду виднеются из-под намокших шинелей обмотанные белой марлей головы, забинтованные руки, ноги… То тут, то там раздаются тяжелые стоны, бессвязный страдальческий бред…
К генералу Самсонову подходит офицер в сопровождении доктора.
– Ваше превосходительство. Здесь четыреста раненых – не могли вывезти… Прикажите казакам взять, иначе придется бросить, – обращается к генералу дрожащим от волнения голосом офицер…
У самой дороги на плоском камне сидит раненый молодой солдат. Бледное, исстрадавшееся лицо, бессильно опущенные вдоль тела руки, вся поза выражают полный упадок сил; вытянутая нога с засученными выше колена шароварами обмотана широким марлевым бинтом. Раненый слышал просьбу офицера. Сколько безмолвной мольбы, сколько отчаяния во взгляде, которым он в ожидании рокового ответа смотрит на генерала. «Неужели откажет?.. Неужели бросят здесь – отдадут японцам?..» – читаю я в его широко открытых, полных страдания, мольбы и отчаяния глазах…
Генерал останавливает колонну и отдает приказание не двигаться далее, пока все раненые, до одного, не будут взяты. Мы спешиваем шесть сотен сибирцев; раненых более легко сажают на коней, других казаки несут. Далеко по дороге вытягивается наш печальный кортеж. Медленно, шаг за шагом, под мелким, часто сеющим дождем трогаемся мы в путь. Громко чавкая по глинистой грязи дороги, понуро идут кони под неуклюжими серыми фигурами раненых стрелков; подоткнув полы шинелей, бредут по грязи, неся тяжелораненых, казаки. Люди идут молча, слышатся лишь чавканье копыт да тяжелые стоны раненых…
Неизъяснимо-грустное чувство обиды охватывает нас. Сердце сжимается болезненной горечью унижения, слезы навертываются на глаза, сдавливают горло… Конец надеждам. Конец радужным светлым мечтам. Мы опять отступаем…
Дело под Шахэ было проиграно. Блестяще задуманная операция не удалась. Мы потеряли до 44 000 человек, из коих на долю Восточного отряда пришлось 14 000. Кого винить в постигшей нас неудаче? Кто виноват в том, что победа, столь близкая от нас, ускользнула из наших рук? На это даст правдивый ответ история…
8
По причинам, оставшимся мне неизвестными, орудия так и не вернулись к нам до конца боя.
9
В эту ночь в Бенсиху прибыли 3 батальона и 1 горная батарея 12-й дивизии Шамимуры.
10
Генерал Ренненкампф еще 26 сентября просил генерала Иванова (командира 3-го корпуса) сменить часть своих сил войсками 3-го корпуса, дабы самому поддержать генерала Любавина на левом берегу р. Тайдзихэ. Генерал Иванов не признал возможным исполнить эту просьбу.
11
Позднее приказание это было отменено. Тем не менее части отряда генерала Ренненкампфа атаковали в ночь с 28-го на 29-е ряд перевалов к юго-западу от деревни Ходигоу, где и имели частичный успех. У нас говорили, что приказание об отмене назначенной в 4 часа ночи атаки было сообщено ген. Ренненкампфу тогда, когда части его отряда были двинуты уже и атаку. Не знаю, насколько эти слухи были справедливы.
12
То подходила из Чаотао конная бригада японского принца Канина.
13
Насколько отход конного отряда вызывался обстановкой, решить окончательно трудно. Могу лишь констатировать, что отряд отошел, понеся лишь самые ничтожные потери…