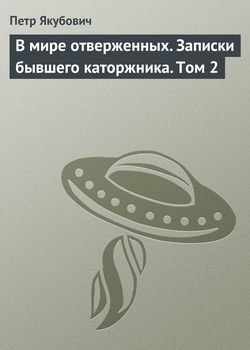Читать книгу В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 2 - Петр Якубович - Страница 4
С товарищами{1}
IV. По-новому
ОглавлениеСвисток надзирателя прервал мой сон на самом интересном месте. Мне снилось, что я еще гимназист, юноша лет четырнадцати, что в шумном классе я сижу одинокий и нелюбимый товарищами. Все глядят на меня с насмешкой и явным пренебрежением, хотя причина этой насмешливости ускользает от моего сознания. Мне горько, мне бесконечно обидно несправедливое отношение ко мне товарищей, но я бы всем пренебрег, все бы вынес, если бы заодно с ними не был и тот, в кого я влюблен со всем пылом первой юности, кого считаю недосягаемым для себя образцом, идеалом ума, геройства и талантливости. Кто, собственно, этот любимый товарищ, я не могу дать себе ясного отчета: в его лице есть и черты дав" о мной забытые, черты какого-то действительно существовавшего у меня гимназического друга, и черты совсем новые, мучительно мне знакомые. Вот профиль строгого бледного лица с насупленными черными бровями… Ах, почему он не хочет глядеть на меня, зачем отворачивается? Неужели и он так же ошибочно понимает меня, как все, не знает того, что я один разгадал его душу, один могу искренно и пламенно любить ее. Под влиянием моего пристального влюбленного взгляда юноша вдруг поворачивается в мою сторону… Я жду встретить сердитые темные глаза, прочесть гнев на этом строгом лице, и вместо того – боже! Передо мной лицо, все залитое слезами… Добрые, любящие глаза глядят с трогательной мольбой, дрожащие руки протягиваются ко мне.
– Дмитрий! – вскрикиваю я, бросаясь в его объятия и сразу вспоминаю имя.
Но он уклоняется, он прикладывает палец к губам, умоляя о молчании… Нам обоим грозит страшная опасность. Один звук может погубить нас обоих… И я сразу вспоминаю, что мы в каторжной тюрьме, оба несчастные, всеми покинутые… Кругом ночной мрак и какая-то высокая каменная стена, за которой живет Елена и откуда мы должны похитить ее, чтобы вместе бежать… Мы тихо крадемся, держась за руки и ежеминутно вздрагивая..; И вдруг – яростный смех раздается сзади, стук ключей, бряцанье ружей… Все погибло! Мы открыты, узнаны и некуда деться! Я узнаю сердитые голоса Лучезарова, надзирателей, Юхорева…
– В карцер отвести их! Наручни подать! В ужасе я просыпаюсь.
– Вставай на поверку, вставай!
Со свистом проходит по коридору надзиратель… Я схватываюсь за голову, силясь что-то вспомнить – не то очень дурное, не то очень хорошее.
– Да, я ведь не одинок больше среди этого ужаса. Со мной товарищи…
О, как я счастлив! Какая бодрящая сила разливается внезапно по всем, жилам! Прочь сомнение и отчаяние! Теперь есть цель в жизни – облегчить страдания дорогих людей, только что начинающих тяжелое каторжное поприще, людей непривычных, слабых, не закаленных в испытаниях…
– Дмитрий Петрович! – окликаю я Штейнгарта. – Вы тоже уже проснулись?
Штейнгарт сидит на своей постели и нервно, поспешно одевается. Но ответить он не торопится и не то сердито, не то сконфуженно отворачивается в сторону.
– Куда вы так спешите?
– А как же… сейчас поверка?
– Утром поверка делается в коридоре. Это облегчение давно уже завоевано… После свистка двери камер отворят только через двадцать минут. Тогда и успеем накинуть халаты: а затем, в виду того, что сегодня нерабочий день, можно будет и еще часика полтора соснуть. Ну, как вы провели ночь? Что во сне видели?
– Спал плоховато и всевозможную чепуху видел. Лучезаров будто бы учитель латинского языка в нашей гимназии и поставил мне единицу!
– Да, он теперь частенько будет вам сниться. После поверки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись немного в постелях, отправились в камеру Башурова проведать, как он жив и здоров. Мы столкнулись с ним в коридоре – он, в свою очередь, шел навестить нас. Прогуливаясь втроем по коридору, мы стали делиться ночными впечатлениями.
Башуров жаловался на убийственную атмосферу них камере, на процедуру поверок, на общую тягостность тюремного режима, но зато был в большом восторге от арестантов, от состава своей камеры.
– Я представлял их себе гораздо хуже, судя по дорожным впечатлениям, – говорил он. – Но там, в пути, условия жизни до того ненормальны, что, собственно, и спрашивать многого с людей нельзя. Все там чужды друг другу, сегодня идут вместе, а завтра пойдут розно; трудно даже характер человека настоящим образом вызнать. А здесь другое дело. Люди живут вместе годами и невольно сдружаются.
– Ну, особенной дружбы вы и здесь, пожалуй, не увидите, – заметил я расхолаживающим тоном. – А кто же больше всего понравился вам из сожителей?
– Прежде всего, как юмористический элемент, Карпушка Липатов.
– Советую только не поощрять особенно его болтовни, а то он сядет вам на шею и вы потом от него не отвяжетесь.
– Ах, какой же вы, право, Иван Николаевич… суровый человек! Я уж и вчера заметил, что вы с ним чересчур строги. Он милый, этот Карпушка… Представь, Дмитрий, из-за чего он вчера со всей камерой поссорился. Я просил отворить форточку, и староста отворил, я он встал посередине камеры в позу и протестует: "Это вы все, мужичий род, в конюшнях воспитывались, так нам и нужен чистый воздух, а во мне дворяньская кровь течет, мне чистого воздуха не надо". И так потешно выговаривает он эти слова: "дворяньский", "Двиньск" (место его родины) и пр. Смеху сколько было над ним! В конце концов стал просить у меня сахару и табаку, но тут Юхорев (вот властный человек этот Юхорев!) как подымется с нар, да прикрикнет на него… И, мой Карпушка в угол тотчас же, на свое место! Вообще вся камера производит отрадное впечатление, прежде всего выдержкой в обращении, солидностью, разумностью. Просто, забываешь, что имеешь дело с каторгой, а не с обыкновенным русским народом. И какая жажда к учению, к знанию. Представьте, у меня вчера же составилась целая школа, чуть не полкамеры учеников набралось! Интересно, как вы глядите, Иван Николаевич, на этих людей! Мне кажется, теория Ломброзо возмутительна, в сущности, бездушная теория! На самом деле большинство наших по крайней мере преступников точь-в-точь такие же, как все русские люди, и только случайно какое-нибудь стечение обстоятельств толкает их на путь преступления.
– Право, не знаю, Валерьян Михайлович. Живу здесь вот уж два с половиной года, но обобщений никаких не возьмусь пока делать.
– Ну разумеется, мы с вами не ученый диспут ведем, но все же очень важны первые впечатления. Например, хотя бы взять Юхорева. Теперь он считается каторжным, разбойником, а разберите-ка суть дела, скажите: при других условиях разве не мог бы он стать вожаком какой-нибудь гарибальдийской банды, борющейся за возвышенный принцип? У него даже и внешность-то скорее общественного протестанта, чем уголовного преступника!
– Внешность у него, правда, внушительная, но все-таки трудно сказать, что было бы, если бы было… Пока что он – разбойник, и ничего больше.
– Не совсем. Вы разве не знаете, за что он попал в каторгу с олекминских приисков? Он был там спиртоносом. Конечно, не бог знает какое это возвышенное занятие, но все же и не ужасное какое-нибудь. Казаки хотели отнять у него с товарищами золото, он оказал смелое вооруженное сопротивление…
– А из России за что он попал в Якутскую область?
– Его ведь общество сослало в Сибирь, и если верить его собственному рассказу, – а он, кажется не враль, – общество это состояло из порядочных скотов. Он же защищал интересы бедноты. Во всяком случае, человек это несомненно замечательный. Представь себе, Дмитрий, безграмотный в сущности мужик, а знает наизусть огромную защитительную речь, которую написал ему один якутский же ссыльный. Юхорев должен был произнести ее на суде, но ему не позволили. Речь действительно недурная и очень смелая. И как энергично, как выразительно произносит ее этот разбойник, как называет его Иван Николаевич!
Я вспомнил, что Юхорев и мне собирался несколько раз прочесть эту речь, но все не выходило подходящего случая.
– Валерьян! – послышался вдруг с другого конца Коридора громкий возглас легкого на помине Юхорева. – Чаевать ступайте, все готово!
– Сейчас, сейчас, – откликнулся несколько сконфуженный Башуров и поспешил в свою камеру.
Штейнгарт заметил, что я немного поморщился.
– Вы, по-видимому, недолюбливаете этого Юхорева? – спросил он меня.
– Я объяснил, что нахожу во многих отношениях неудобным для нас допускать слишком большую фамильярность не только с Юхоревым, занимающим должность артельного старосты, но и вообще с арестантами, с людьми совершенно иного нравственного склада. Штейнгарт задумался.
– Боюсь, что Валерьян доставит нам в этом отношении хлопоты. У него вообще есть недостаток – то без причины завязывать с людьми слишком дружеские, почти интимные отношения, то вдруг без видимой же причины отталкивать их от себя. Конечно, не от дурного чего-нибудь это происходит у его, а так – от молодого легкомыслия… И, кроме того, он довольно самонадеян и самомнителен. Вот он уже прочел вам сегодня легкую нотацию насчет вашего якобы жесткого отношения к людям и, вероятно, искренно думает про себя, что сам он не таков, что он способен всех этих людей без исключения по-братски любить, прощая им все их недостатки. А о том он и забыл, что вы уже прожили здесь без нас целые годы и мы застали вас любимым и уважаемым всем тюрьмой; мы же только начинаем свое поприще, и кто еще знает, что мы сделаем, как уживемся с этим народом?
После этого мы отправились в свою камеру тоже пить чай. Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались беспробудным спаньем, то принимались по двадцати раз за чаепитие. Местами перекидывались в картишки, местами велись вялые разговоры на давно истощенные темы. Темы наших разговоров были неисчерпаемы. Не успев досыта наговориться об одном предмете, мы уже бросались к другому, третьему и так далее до бесконечности. Мне приходилось, впрочем, вначале больше слушать, так как, прожив столько времени вдали от живого мира, я сгорал нетерпением узнать, что произошло в этом мире за годы моего отсутствия… Но едва только удовлетворена была в общих чертах моя любознательность, как рассказчиками овладевало тоже вполне законное и понятное любопытство относительно подробностей ожидающей их в Шелайском руднике жизни, и я, в свою очередь, из слушателя превращался в рассказчика. Взявшись втроем под руки и прогуливаясь по коридорам тюрьмы, мы весь день провели таким образом в самой оживленной беседе. Я спросил, между прочим, товарищей об их денежных средствах. Оказалось, что оба они рассчитывали получать от родственников по двадцати рублей ежемесячно.
– Отлично! – воскликнул я. – Почти столько же могу получать и я. Но, пока я жил здесь один, эти деньги были мне почти ни к чему, так как помогать всей тюрьме на такую ничтожную сумму невозможно, а пользоваться ими одному тяжело и неприятно. Теперь, если вы согласитесь, мы устроим дело так, что вся тюрьма будет жить в материальном отношении сносно.
– Разве это мыслимо при бюджете в шестьдесят рублей?
– А вот судите сами. Тюремное население не превышает обыкновенно ста двадцати человек, в редких случаях достигая ста пятидесяти и больше. Прежде всего арестанты страдают от отсутствия табаку. Полутора фунтов махорки в неделю совершенно достаточно для одной камеры, в качестве прибавки к тому табаку, который арестанты могут выписывать сами. Считая с кухней десять камер, мы должны будем покупать полтора пуда махорки в месяц.
– А сколько стоит махорка?
– Сорок копеек фунт. Значит, полтора пуда – двадцать четыре рубля… Это самая крупная статья расхода. Если затем в постные дни прибавлять в котел по одному пуду мяса, то баланда, наверное, получится великолепная. Баранина стоит здесь два рубля пуд. Следовательно, улучшение пищи в постные дни обойдется нам в месяц (восемь постных дней) в шестнадцать рублей. На остающиеся двадцать рублей мы можем иметь байховый чай, сахар и табак для себя и еще делать изредка, в праздничные дни, прямо роскошные обеды для всей тюрьмы, прибавляя, например, по полпуду мяса к казенному пайку.
– Но позвольте! Что скажет на все это Лучезаров?
– Ничего. Он сам неоднократно заявлял публично, что улучшения общего котла законом разрешаются. Беда была в том только, что арестанты держатся на этот счет своего особого мнения: коммунальными теориями их не соблазнит и сам закон, и ни одного такого благодетеля тюрьмы до сих пор не отыскивалось. А богатые люди есть и среди них…
– Итак, Иван Николаевич, наша многолюдная артель единогласно избирает вас своим старостой. Вы так отлично все эти дела знаете. Да и с Шестиглазым у вас установились уже определенные отношения.
Я, не споря, принял бразды правления, переговорил немедленно с экономом и заказал ему табак и мясо для ближайшего постного дня. Услыхав о нашем желании кормить на свои деньги всю тюрьму, толстый эконом хихикнул, очевидно считая меня с новыми товарищами отчаянными олухами, но противоречить ни в чем не стал и на другой же день доставил пятнадцать фунтов махорки.
– Начальник смеется, – сообщил он при этом, широко улыбаясь, – никому б, кроме вас говорит, не позволил в тюльме майдан устлаивать.
Я обошел все камеры и роздал старостам для дележки по полтора фунта махорки на каждый номер. Старосты, принимая табак, не выражали ни большого удивления, пи особенного любопытства. Вернувшись после того в свою камеру, я не мог не наблюдать за тем впечатлением, какое произвело на каждого из сожителей необычное в тюремной жизни явление. Старичок Шемелин, наш камерный староста, вытер тщательно стол и принялся раскладывать табак на шестнадцать кучек, точь-в-точь так же, как он делал это ежедневно с мясом. Я поспешил шепнуть ему, чтоб меня с Штейнгартом он в расчет не принимал. Шемелин почтительно выслушал и ничего не возразил. Две кучки моментально исчезли со стола и ровными щепотками распределились между остальными четырнадцатью. Затем старик все с той же деловитостью и тщательностью смахнул рукой в какую-то бумажку свою кучку (хотя мне отлично было известно, что он не курит) и ушел с нею на свое место, сообщив громко камере:
– Разбирайте, ребята!
Но ребята не торопились, и никто из присутствовавших даже не пошевельнулся при этом возгласе, точно и не слышал его, – каждый с достоинством продолжал заниматься своим делом. Только те из арестантов, которые ничего не знали и входили в камеру прямо со двора, увидев табак, удивленно спрашивали:
– Это что за табак?
– Берите по кучке, – коротко ответил Шемелин, и удивительно, что этого ответа оказывалось вполне достаточно, так что лишь очень редкие, менее всех дальновидные, после того еще спрашивали:
– А откудова он? Чей?
Большинство принимало этот дар безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно известное, должное и вполне законное. Некоторые кучки лежали, впрочем, до позднего вечера, и я уже думал было, что хозяева этих кучек так и не возьмут их – из чувства ли гордости, потому ли, что сами имеют средства и стесняются брать наравне с бедняками, – однако в конце концов со стола исчез решительно весь табак; взяли свою долю и те, которые не курили, и те, которые свободно могли бы пожертвовать ее в пользу товарищей.[2]
То же самое происходило и в других камерах. Возможно, конечно, что некоторыми из арестантов руководило при этом опасение своим отказом обидеть меня с товарищами.
В ближайший постный день, когда вместо тошнотворной кашицы с иллюзией сала на столе появилась прекрасная баланда с мясом, невольное любопытство опять заставляло меня наблюдать за кобылкой: как она отнесется к этому? Что будет говорить? Но и тут очень долгое время я видел одно лишь холодное молчание и наружно-небрежное равнодушие. Многие, впрочем, вполне, по-видимому, искренно и не замечали даже, что вместо постной пищи едят скоромную. Разговоры шли, вероятно, в кухне, за нашей спиной, но мы их не слышали. Только гораздо позднее стали прорываться вслух отдельные благодарственные отзывы, и то больше со стороны благочестивых, благонамеренных старичков, вроде нашего же Шемелина:
– Кабы не добрые люди, замерли бы в этой тюрьме! Без табаку, без мяса насиделись бы… Дай им бог доброго здоровья, благодетелям нашим!
Степень этих "благодеяний" даже раздувалась и преувеличивалась: назывались порой головокружительные суммы, которые мы будто бы тратили на тюрьму. Но "иваны" и все те, которые считали себя настоящими профессиональными каторжными, держались в этом отношении гордо и независимо, встречая громогласные похвалы нам старичков если и не презрением (табак они все же брали, скоромную баланду в постные дни ели), то показным равнодушием. Лишь во время ссор между собой, когда терялось всякое самообладание, и такие люди высказывались вслух в том же духе и смысле.
– Ты что видал-то на свете, мараказ проклятый, – кричал верзила Петин на маленького Лунькова. – Ты разве в настоящих-то тюрьмах сиживал? В другом разве месте стали б тебя даровым табаком потчевать аль мясом, как борова, откармливать?
– А тебя небось стали б?
– Сравнял меня с собой, осел! Разве ты можешь внимание от таких людей заслужить? Нешто в башке твоей порожней найдется столько мозгу, сколько у Ивана Николаича аль у Дмитрия Петровича в одном мизинце ноги есть?
Любопытно, конечно, было знать, как объясняли себе арестанты материальную помощь, которую мы им оказали, какие мотивы предполагали в наших поступках. Дальнейшие события обнаружили, что многие допускали даже какие-то эгоистические расчеты с нашей стороны, думали, что, принимая наши подарки, они этим, в свою очередь, оказывают нам некоторое благодеяние… Крайне удивил меня по этому поводу один неглупый, в общем, арестант, после нескольких постных дней, случайно прошедших без всяких улучшений пищи, спросивший меня:
– А что, Иван Николаевич, разве вся уж марка-то у вас вышла?
– Какая марка? – спросил я с удивлением.
– Да… по которой полагается вам мясо и табак покупать?
Арестант несколько замялся, увидав мое удивленное лицо, и я так и не понял, что он разумел под своей маркой.
Новичкам предоставлено было Шестиглазым несколько дней отдыха, а затем и их так же, как меня, назначили в гору. Придя в светличку, я тотчас же повел их, в ожидании раскомандировки, в штольню. С шумом и весельем побежали они по темному коридору вперед, оставив меня далеко позади с фонарем.
Вообще я замечал некоторую разницу между теперешним настроением товарищей и тем, что когда-то переживал и испытывал сам. Помню, я чувствовал себя долгое время точно затравленным зверем, ежеминутно и отовсюду ожидая обиды, оскорблений, пугливо и подозрительно глядя на каждого надзирателя как на своего естественного врага, и эта подозрительность не совсем исчезла во мне даже и теперь; и теперь еще я считал за лучшее возможно меньше разговаривать и возможно меньше иметь дела со всяким, кто представлял собой хоть малейшее подобие начальства в моих глазах. Исключением не был даже Петушков, который сам напрашивался на приятельство. Новички, подобно мне, в первые минуты пребывания в Шелайской тюрьме имели подавленный и запуганный вид, но длилось это очень недолго. Благодаря ли природному более жизнерадостному характеру или же тому обстоятельству, что они явились не в качестве пионеров и во всем встречали уже подготовленную почву, только в настоящую минуту они держались так, будто прожили в Шелайском руднике целые годы, – были веселы, непринужденны, свободно разговаривали не только с арестантами, но и с надзирателями, и последние в свою очередь, запуганные моим сдержанным обращением, отвечали им охотно, с видимой даже радостью. Точно какие-то мрачные чары рассеялись, долго державшийся лед растаял… Не скрою: я ловил себя в эти первые дни даже на тайном недовольстве новичками… Мне все казалось, что вот-вот последует что-нибудь очень дурное за их нетактичным, как мне казалось, чересчур свободным поведением, и я пугливо косился по сторонам, точно дикая кошка, выведшая своих детенышей из логовища на вольный свет и все оглядывающаяся, не грозит ли им какая-либо опасность. Но опасности не грозило никакой, и моя одичалая и обледенелая душа тоже мало-помалу оттаивала и расправляла утомленные крылья…
Едва забрались мы в глубину штольни и бегло осмотрели ее, как Башуров, не раздумывая долго, запел, так что от неожиданности я вздрогнул:
Стук молота от века и до века,
Тяжелый звук заржавленных оков…
Друг! Ты видал ли гнома-человека
На дне холодных рудников?
Бодрящие ноты молодого, звучного тенора огласили мрачные каменные стены, столько лет не слыхавшие ничего, кроме унылого бряцанья кандалов, монотонных постукиваний молотка да тяжелых вздохов измученных, несчастных людей.[3]
Сначала несколько испуганно, затем радостно отозвалось этим бодрым звукам и мое изболевшее сердце…
Там мир иной, мир горькой, тяжкой доли…
подхватил красивый баритон Штейнгарта:
Там царство бесконечных мук.
Полжизни – день работы и неволи,
Полжизни – ночь суровых вьюг.
И мрак и смерть там царствуют над миром,
И каждый молота удар
Звучит затем, чтоб пир сменялся пиром
В угоду ожирелых бар.
Когда беспечный пир свершают счастья дети,
В уме моем рождается вопрос:
Уж не наполнены ль бокалы эти
Вином из крови и из слез?{13}
Звуки шли все выше и выше, аккомпанируемые звоном настоящих цепей, хватая за душу, звуча горьким упреком кому-то, зовя на что-то смелое и великое…
– Откуда вы взяли, господа, эти слова и этот мотив? – полюбопытствовал я, когда певцы окончили свой импровизированный дуэт.
– В дороге один бродяга-певец научил нас. Он уверял, будто это – каторжный гимн, или "карийский гимн", как он называл его.
– Ну, вряд ли, господа, настоящий каторжник сочинял этот "гимн"! Тот плохо знает каторгу, кто считает, например, "заржавленные оковы" атрибутом особенно тяжких испытаний.
– Как так?
– А вот сами увидите, заржавеют ли ваши кандалы при постоянном ношении. Напротив, они будут блестеть как стеклышко!
В светличке, когда мы туда вернулись, раскомандировка рабочих была уже почти окончена.
– А, господа бродяги, – приветствовал нас Петушков, – я уж и впрямь думал, что вы в бега ударились! Ну, присоветуйте, Миколаич, куда мне поставить новичков. Ведь бурить-то им, пожалуй, не поглянется! Халудора возьми это буренье!
Новички, однако, выразили желание непременно попробовать бурить, и я повел их в верхнюю шахту. Штейнгарт, как и я когда-то, затруднялся в подъеме на гору и то и дело испытывал одышку; зато Башуров шел легко и свободно: родом крымчак, он был привычен к ходьбе по горам. Без особенного труда научился он и бурить довольно хорошо, между тем как Штейнгарту и это искусство давалось плохо. Он то и дело ударял себя молотком по руке, искривлял шпур и очень огорчался всеми этими неудачами. Но когда работа несколько налаживалась, он первый начинал петь под дружные удары арестантских молотков:
Стук молота от века и до века…
Башуров присоединялся. И когда на темном дне холодного неприветливого колодца раздавались стройные звуки "каторжного гимна", несясь в вышину то в виде горькой жалобы, то гневной угрозой, на душе становилось как-то жутко и сладко…
Особенно стих —
И мрак и смерть там царствуют над миром
производил сильное впечатление, вызывая у меня каждый раз невольную дрожь..
И вдруг жизнерадостный Валерьян переходил к веселой песенке Беранже:
Вином сверкают чаши,
Веселье впереди,
Кричат подруги наши.
"Фортуна, проходи!"
И, дружно и быстро стуча молотками по бурам, мы все подхватывали хором:
"Стук! Стук!" – Кто в гости к нам?
"Стук! Стук!" – Мы Лизу ждем.
"Стук! Стук!" – Фортуна там.
"Стук! Стук!" – Не отопрем!{14}
Слабому и нервному Штейнгарту бурение, конечно, вскоре не "поглянулось", как и пророчил Петушков, и он променял его на должность буроноса. Одышка, разумеется, скоро прошла, и он сделался отличным бегуном. Это не мешало, впрочем, Сохатому острить над ним и называть не "буроносом", а "буреносом", разумея под этим, что скорее его самого могли носить по сопке ветер и буря, чем он таскать на плечах тяжелые вязанки буров. Много также пищи для остроумия и разного рода шуток доставил всем Штейнгарт, явившись однажды по окончании работ в тюрьму и, как оказалось при обыске у ворот, принеся по рассеянности за пазухой два коротких бура… Надзиратель, сделавший это открытие, был сначала в недоумении, словно раздумывая, не следовало ли затеять по этому поводу следствия, но скоро и он попал в общий веселый тон и также начал хохотать.
– Стену хотел тюремную пробурить! – острила кобылка, шумно разбегаясь по камерам.
Некоторое время спустя для Штейнгарта открылось, однако, более важное занятие, чем бурение и ношение буров, занятие, которое в глазах не только арестантов, но и начальства сразу возвысило более чем вдвое наши прежние фонды. Раз поздно вечером в камере нашей загремел замок, дверь распахнулась, сильно перепутав сидевших в углу картежников, и вошедший надзиратель пригласил моего товарища к внезапно захворавшей жене эконома.{15}
– Сам начальник просит поглядеть, – заискивающе объявил он.
Штейнгарт, проворно одевшись, ушел. Вернулся он только два или три часа спустя, не только осмотрев больную, но и лично приготовив для нее с помощью фельдшера нужные лекарства. Первый случай медицинской практики Штейнгарта оказался очень счастливым: больная на другой же день почувствовала себя вполне здоровой, и слава его как замечательного врача загремела далеко кругом. За надзирателями, их женами и детьми стал обращаться к нему и весь шелайский бомонд{16} – казацкий есаул с семьей, его помощник Монахов, писаря из тюремной конторы и, наконец, сам Лучезаров, почувствовавший к молодому врачу большую симпатию; он дал ему разрешение во всякое время дня и ночи посещать больничную аптеку и, по зову больных, выходить – разумеется, под конвоем – за ворота тюрьмы. Нередко стали вызывать Штейнгарта прямо из рудника, отрывая от работы, а иногда и совсем не наряжали в гору в течение целой недели.
Валом повалило к нему и тюремное население. Пьяница фельдшер совсем как бы остался за штатом, и дело доходило до того, что он только формально освобождал арестантов от работ или клал на больничную койку, в действительности же всем распоряжался Штейнгарт. С течением времени это начало злить самолюбивого Землянского, и он сделался нашим отчаянным врагом. Но пока что я от души радовался тому, что обстоятельства сложились для товарища так благоприятно и пребывание в каторге могло стать для него полезной практической школой, "пятым курсом академии", как выражался он сам.
Я видел его бодрым, повеселевшим, всецело поглощенным своими новыми занятиями, не имеющим даже достаточного досуга, чтобы хандрить и мучиться своими личными печалями и страданиями.
За розами и лаврами, правда, последовали в свое время волчцы и тернии, но о них я расскажу после.
Только поздними вечерами, когда жизнь в камере затихала и сожители наши уже громко всхрапывали, нам удавалось по-прежнему беседовать по душе, и этим беседам за полночь конца не было. Лежа на своих подстилках и склонившись один к другому головами, мы шепотом разговаривали иногда вплоть до рассвета, особенно когда дело было накануне праздника и на другой день не предстояло работ. О чем только ни говорили мы в эти тихие тюремные ночи!..
Однажды рыженький Жебреек, один из ближайших соседей наших по нарам, подошел ко мне в коридоре тюрьмы и таинственно сказал:
– Знаете, Иван Миколаич, что я хочу спросить у вас: где вы доставали те книжки, по которым сами учились?
– Как это сам учился?
– Да так. Я оченно хорошо понимаю теперь, что те-то книжки, которые вы нам читали, – так себе, пустяковые книжки для простого народа, вот как мы, дураки. Ну, прямо сказать, белые книжки, как есть белые – бумага и ничего больше. Для старых баб все это да ребятишек списано. А вы сами с товарищами по настоящим, значит, по черным книгам учились… Я это очень хорошо теперь вижу.
– Не понимаю я вас. Какие такие черные книги?
– Ну, уж вы со мной не разговаривайте так. Я ведь не какой-нибудь Луньков или Сохатый… Новой[4] арестант с умом, а новой совсем как младенец… Ну, а я до пятидесяти годов дожил и тоже что-нибудь смекаю. У меня самого бабушка – прямо скажу вам, не таясь – ведьма была, вот что!
Я поглядел во все глаза на выжившего из ума старикашку: он был, по обыкновению, комично-серьезен и величав.
– Я ведь слышу ваши разговоры… Вы думаете, я сплю ночью-то? Вовсе что есть глаз не смыкаю! И до того вникаю – ну, прямо сказать, все уши прикладаю к вашим речам!
– Это не очень, положим, похвально подслушивать, но что ж такое поняли вы из наших разговоров?
– А вот то и поняли, что у каждого из вас свой дьявол есть!..
– Дьявол? Что за чепуха! Откуда вы взяли?
– Значит, вот взял. У вас ведь ежели не пятое, так десятое слово беспременно дьявол будет. Один говорит: "Мой дьявол такой", а другой отвечает: "Нет, мой дьявол такой!"
Я расхохотался, хотя долго не понимал смысла этих слов Жебрейка. Штейнгарт, которому я сообщил об этой беседе, назвал их просто бредом сумасшедшего. Но некоторое время спустя он сказал мне, смеясь:
– А знаете, я ведь понял, о каком дьяволе говорил Жебреек. Вовек, пожалуй, не догадаетесь: это – идеал!..