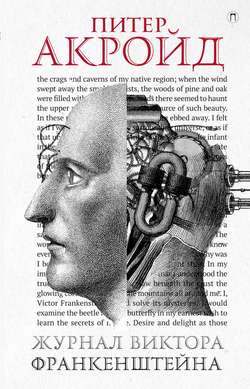Читать книгу Журнал Виктора Франкенштейна - Питер Акройд - Страница 5
Глава 5
ОглавлениеЗа два дня до начала весеннего триместра я возвратился в Оксфорд. Биши уговаривал меня остаться в Лондоне, приводя в качестве довода радикальное начинание, с которым мы себя связали, и укоряя меня за то, что я, как он выражался, недостаточно болею за наше дело. Но мне, говоря по правде, хотелось поскорее возобновить свои собственные занятия. В Лондоне я повидал и услыхал немало, однако ничто не произвело на меня впечатления столь глубокого, как демонстрация электричества мистером Дэви. Я горел нетерпением осилить все написанные по физической науке тома, древние и современные, и тем самым открыть тайные источники жизни; я желал посвятить себя этим поискам, и только им, полагая, что никакая сила на земле не способна сбить меня с пути к цели.
Войдя в колледж, я поздоровался с привратниками, как со старыми приятелями, однако их ответные приветствия прозвучали несколько сдержанно – мое имя по-прежнему было слишком крепко связано с Биши, что и вызывало их неприятие. Как бы то ни было, служанка моя в колледже была, казалось, искренне рада моему возвращению.
– Ах, мистер Франкенлейм, – сказала она, – я уж вас совсем заждалась.
Произношение моей фамилии давалось ей с большим трудом, и она имела обыкновение испробовать несколько разных способов в течение одного разговора.
– Ну и хлопот же у меня было с вашими бутылками!
– Весьма сожалею, Флоренс, если я причинил вам какие-либо неудобства.
– Бутылок-то, бутылок – и совсем полные, и наполовину, и вовсе пустые. Я и не знала, куда их деть, когда убиралась.
Она говорила о лаборатории, устроенной мною в спальне. Там было всего-то несколько реторт, трубок да переносная горелка, однако она испытывала панический ужас предо всем, что называла словом «медицинское». По некоей причине это напоминало ей о безвременной кончине ее мужа – событии, которое она с немалым удовольствием мне описывала, не скупясь на подробности.
– Так я их и оставила там, где были, – сказала она. – И не прикасалась к ним, мистер Франкентейн.
– Очень любезно с вашей стороны.
– Я своих господ вещи никогда не трогаю. Ни-ни. Как вам ехалось из Старой Коптильни? – Родом она была из Лондона, о чем никогда не переставала мне напоминать, но вышла замуж за человека из Оксфорда, недолго прожившего, да так здесь и осталась. – Небось туман был сильный.
– Увы, Флоренс, лил дождь.
– Вот жалость-то. – То обстоятельство, что город по-прежнему страдает от плохой погоды, казалось, было ей весьма приятно. – Зато хоть туман разгоняет. – Понизив голос, она прошептала: – А что мистер Шелли?
– У него все благополучно. Процветает в Лондоне.
– Тут о нем частенько говорят. – Она все шептала, хотя подслушивать нас было некому – Диким его считают.
– Нет, Флоренс, он не дикарь. Он человек мыслящий.
– Вот, значит, как это называется? Ну-ну. – Взявши мой сундук, она втащила его в спальню и принялась распаковывать мои рубашки и прочее белье. – А это еще что такое?
Услыхав ее вопрос, я тотчас понял, о чем она говорит. Среди белья я запрятал для сохранности небольшую, безупречно выполненную во всех тонкостях модель человеческого мозга, купленную мной у аптекаря на Дин-стрит. Он сказал мне, что это копия мозга некоего Дэви Моргана, пользовавшегося дурной славой разбойника, которого повесили несколькими месяцами прежде.
– Ничего, Флоренс. Оставьте на столе.
– И не прикоснусь к нему, мистер Франкенлейн. Его черви изъели.
Вошедши в спальню, я взял модель в руки.
– Это не черви. Это мозговые волокна. Видите? Они подобны океанским проливам и течениям.
Как мало известно людям о человеческом организме! Не нашлось бы и одного из тысячи – из сотни тысяч, – кто задумывался бы о работе мысли и тела.
– Это противно естеству, – сказала она.
– Нет, Флоренс, это само естество. Вот это, полагаю, зрительная доля.
– Негоже вам, сэр, такие вещи мне рассказывать. – Она смотрела на меня с ужасом. – Я про такое и знать не хочу.
– Сумей мы развить эту область, мы способны были бы видеть на много миль окрест. Разве это не было бы великим благом?
– Ну уж нет. Чтоб глаза наружу выскочили? Господи помилуй!
Я положил модель на рабочий стол, устроенный мной у окна комнаты.
– Боюсь, Флоренс, что вам предстоит и дальше пребывать в невежестве.
– По мне, сэр, и так хорошо.
Тогда мне не пришло в голову, что в словах Флоренс присутствовала некая инстинктивная правда: естественные чувства людей, сколь грубо ни выражаемые, были по-своему справедливы. Но к тому времени я уже навсегда отстранился от обычных стремлений человеческих. Мой ум заполняла собой одна мысль, одна идея, одна цель. Я желал достигнуть большего, куда большего, нежели мое окружение, и был всецело убежден, что мне предстоит проложить новый путь, исследовать неведомые силы и открыть миру глубочайшие тайны творения.
Я много читал в библиотеках Оксфорда, и это уводило меня в направлении весьма далеком от указанного моим добродетельным наставником, знавшим, казалось, одних лишь Галена с Аристотелем. Раз в неделю я подымался по лестнице в комнаты профессора Сэвилла, жившего на противоположной от меня стороне дворика, где заставал его сидящим в креслах с высокою спинкой; подле него стоял стакан с бренди и холодной водой. Начальное мое образование, полученное в Женеве, дало мне достаточные познания в греческом и латыни, и потому еженедельные обязательные переводы сложности для меня не представляли. Я успел сообщить ему, что интересы мои сосредоточены на росте и развитии человеческого тела, чему он, кажется, искренне поразился.
– Занятие сие не из тех, что подобают джентльмену, – сказал он.
– Но кто же за это возьмется, сэр, если не джентльмены?
– Разве в мире нет анатомов?
– Меня занимают тайны человеческой жизни. Есть ли предмет более важный?
– Но ведь обо всех этих вещах нам уже известно от Галена и Авиценны. – Сэвилл имел обыкновение, высказавши то или иное мнение, подыматься и ходить по комнате, вслед за тем возвращаться на прежнее место и лишь тогда пригубливать из стакана.
– Насколько я знаю, сэр, Гален изучал анатомию берберийской обезьяны.
– Совершенно верно. – Он совершил еще один вояж по комнате. – Не станете же вы предлагать, чтобы мы осквернили храм человеческого тела?
– Но как еще нам узнать, откуда берут начало основы жизни?
– Чтобы получить исчерпывающий ответ на этот вопрос, мистер Франкенштейн, достаточно открыть Библию.
– С Библией, сэр, я знаком хорошо…
– Очень на это надеюсь.
– Однако сознаюсь в собственном невежестве по части механизма как такового.
– Механизма? Потрудитесь изъяснить свою мысль.
– Из Книги Бытия, сэр, нам известно, что Господь создал человека из праха на земле, а затем вдохнул в его ноздри дыхание жизни.
– И что с того?
– Вопрос мой таков: из чего состояло это дыхание?
– Вы слишком много времени провели в обществе мистера Шелли. – Он вновь отправился на прогулку по комнате, а по возвращении к креслу сделал щедрый глоток бренди с водою. – Вы начинаете сомневаться в Священном Писании.
– Меня попросту мучает любопытство.
– Любопытство проявлять никогда не следует. Сие ведет к погибели. А теперь не обратиться ли нам к предмету наших занятий?
Он принялся изучать мой перевод на греческий напечатанного в «Таймсе» сообщения о перспективах независимости Далмации. Вскоре я ушел от него.
Итак, в Оксфорде просвещения ждать было неоткуда. Я уже решил, что буду учиться столько, сколько необходимо для получения степени, главным образом ради отца, сам же, подобно паломнику, готовился к другого рода путешествию. Ум, которому свойственно честолюбие, полагается на себя. За пределами Оксфорда, в деревушке под названием Хедингтон, я нашел небольшой сарай и снял его у фермера за пустячную сумму, разъяснив, что я студент-медик и работаю с ядовитыми веществами и смесями, которые необходимо приготовлять вдали от мест, часто посещаемых людьми. К сараю, окруженному полями, вела тропинка, что было кстати. Я сказал фермеру, что для моих целей это подходит наилучшим образом. Так оно и оказалось.
Опыты свои на животном царстве я начал, смею надеяться, не причиняя ненужной или излишней боли. Изучая труды Пристли и Дэви, я узнал об использовании закиси азота как средства анестезии, а усыпляющий эффект белены, применяемой в больших количествах, известен мне был еще прежде. Тем не менее начал я с мельчайших созданий. Даже простой червь и жук-плавунец – удивительные для естествоиспытателя объекты. Муха под микроскопом превращалась в чертог наслаждений: сосуды глаза, кристаллы с множеством отблесков, были ослепительны, их переполняла жизнь. До чего они были сложны и одновременно до чего уязвимы! Все пребывало в равновесии столь хрупком – жизнь и свет от тьмы и небытия отделяла грань толщиною с волосок.
На рынке рядом с Корн-стрит я покупал горлиц, и ощущение теплого, быстрого дыхания под пальцами напоминало мне ускользающий пульс жизни. Не то ли самое тепло наполняло вольтовы батареи? Тепло сопутствовало движению и возбужденному состоянию, а движение, видимое и невидимое, являлось признаком самой жизни. Я верил, что недалек от великого открытия. Сумей я создать движение, и тогда уж ничто не помешает ему воспроизводить себя раз за разом, подобно тому как гармоничной чередой вздымаются волны, бьющиеся о берег! Мир пляшет по единому закону.
В те оксфордские дни я был столь полон надежды и энтузиазма, что от одного лишь избытка энергии нередко пускался бегом по окружавшим сарай полям. Поднимая взгляд на облака, колыхавшиеся у меня над головою, я видел в них те же черты, что различал в жемчужном сиянии крыла мухи, в изменчивых оттенках глаза издыхающего голубя. Я полагал себя освободителем человечества, кому предстояло вывести мир из-под власти механической философии Ньютона и Локе. Если мне удастся, наблюдая все виды организмов, найти единый закон, если, изучая клетки и ткани, я сумею обнаружить один главенствующий элемент, тогда я смогу – кто знает! – сформулировать общую физиологию всего живого. Есть лишь одна жизнь, одна схема жизни, один созидающий дух.
Были, впрочем, в существовании моем и такие периоды, когда я просыпался на исходе ночи в ужасе. Первые предутренние часы вызывали во мне тревогу, и я, поднявшись с постели, мерил шагами темные улицы, словно тюремный двор. Но с первым же неясным появлением зари я успокаивался. Низкий, ровный свет по ту сторону заливных лугов наполнял меня чувством сродни мужеству. Оно мне было необходимо более, нежели когда-либо. Я принялся за анатомические опыты над собаками и кошками, которых покупал у жителей Оксфорда, у тех, что победнее. Каждому в отдельности я объяснял, что существо потребно мне для ловли мышей и крыс в моем жилище, долго уговаривать человека не приходилось. Усыпить животное с помощью закиси азота было несложно – я рассчитал, что сердце будет биться еще тридцать минут, прежде чем наступит безболезненная смерть. В эти краткие минуты я приступал к рассечению; тогда пол моей лаборатории превращался в лужу крови. Однако я не сходил с намеченного пути. Я стремился доказать, что органы любого существа не являются самостоятельными образованиями и что работа их определяется взаимодействием всех в совокупности. Следовательно, останови я работу одного – и остальные будут каким-то образом затронуты или повреждены. Так оно и оказалось. В своей экспериментальной философии я продвигался такими шагами, что все трудности на глазах у меня оставались позади.
На предпоследней неделе того триместра я получил письмо из Женевы от отца, где сообщалось, что сестра моя серьезно больна. Элизабет была моей точной копией во всем, не считая имени. Мы росли вместе: с самого младенчества вместе играли, правда, учиться вместе нам не довелось, но я пересказывал ей самое важное из своих школьных учебников. Говорили, что мы похожи и внешне, да и характер у нас обоих был одинаковый – нервный и беспокойный.
Я решил тотчас же возвратиться домой. Пакетбот до Гавра отходил от Лондон-бридж в следующий понедельник, и я поехал в Лондон двумя ночами ранее, чтобы раздобыть билет. Что и говорить, я надеялся увидеть Биши. С моего отъезда из города от него не было никаких известий, и мне не терпелось узнать о его приключениях в мое отсутствие. По прибытии в Лондон я отправился на Поланд-стрит, однако света в его окне не было. Я позвал его – ответа не последовало.
На корабле, идущем в Гавр, я взял небольшую каюту, но там до того сильно пахло бренди и камфорой, что я рад был проводить бо́льшую часть путешествия на открытой палубе. Путь вниз по Темзе ничем особенным не запомнился, разве что видом судов, медленно двигавшихся мимо в большом количестве; зрелище напоминало лес мачт. Однако близ устья реки меня поразили болота. Удаленность и одиночество этой местности (которой, по словам одного из пассажиров, сторонились из-за болотной лихорадки) взбудоражили мой дух. Полагаю, уже тогда я отчасти догадывался о природе будущих своих трудов и о необходимости тайной, молчаливой работы вдали от мест, посещаемых людьми. Разве не по этой дороге пустился я в полях под Оксфордом? Как бы то ни было, отплывая от Англии, я не предвидел того, что мне будет суждено стать несчастнейшим из людей.
Путешествие мое продолжалось по суше: из Гавра дилижанс довез меня до Парижа, оттуда я поехал в Дижон, а после – в Женеву. Мне не терпелось увидеть сестру, но в Париже я вынужден был сменить лошадей и отдохнуть ночь. Ранним вечером я приехал в гостиницу на рю Сен-Сюльпис. После действовавшего недавно запрета на поездки между Францией и Англией хозяин счастлив был принять моих английских попутчиков. Он созвал горстку музыкантов, и те стали играть во дворе, а его жена и дочери тем временем танцевали перед нами польскую мазурку. Таково галльское гостеприимство, о котором, несмотря на его сердечность, в соседних странах распространяется столько клеветнических слухов. Комнату мне предстояло делить с англичанином, путешествующим по делам, неким мистером Армитеджем. Он продавал очки, линзы и прочее в этом роде. Именно он предупредил меня о лихорадке в районе устья Темзы; теперь же он успел угостить меня парочкой рассказов, где речь шла о торговле оптическими товарами, после чего я решил подышать воздухом.
Я вышел на улицу, и внимание мое тотчас привлекла очередь – группа парижан стояла, переступая с ноги на ногу, перед раздвижными воротами. Одни были явно бедны, другие состоятельны, третьи же принадлежали к тому смешанному типу, что в Англии называют потрепанной аристократией. Как бы то ни было, такое разнообразие меня заинтересовало. Люди с видом нервным и нерешительным стояли перед воротами, совершенно не разговаривая и отводя друг от друга глаза. Я спросил хозяина, стоявшего на крыльце гостиницы, что это означает. «Ах, monsieur, об этом мы не говорим». Почему же они не говорят об этом? «Это приносит гостинице несчастье. C'est la maison des morts. La Morgue».
Дом мертвых? Я, кажется, понимал, о чем он ведет речь. То было хорошо известное в городе учреждение, где в определенные часы дня неопознанные тела умерших выставлялись на обозрение, чтобы друзья или родственники могли их опознать. Кое-кто, несомненно, счел бы это зрелищем неприятным, но я рад был, что оно оказалось на моем пути. Ничто в природе не казалось мне достойным отвращения. Точно так же, как некоторым нравится гулять среди развалин, наслаждаясь следами былых времен, ощущением прошлого, так и я не видел ничего предосудительного в прогулках среди мертвых, разложившихся тел. Тело человеческое находится в непрерывном, день за днем, состоянии разложения; ткани и волокна его изнашиваются еще при жизни, и в созерцании этого процесса вблизи я не видел ничего пугающего. Коли уж я собираюсь овладеть искусством и методой анатомии, то обязан наблюдать и естественное гниение человеческого тела.
Итак, я присоединился к стоявшим в очереди парижанам и, когда служитель отпер раздвижные ворота, двинулся вперед, в здание морга. Внимание мое тут же привлек запах, странный и не лишенный приятности, совсем как тот, что идет от мокрых зонтов или же от сырой соломы, какую нередко случается обнаружить на полу двухколесной повозки. В воздухе чувствовались испарения, словно в помещении установлен был угольный камин. То была длинная, с низким потолком и небольшими окнами комната, напоминавшая изнутри лондонскую кофейню. Там, где могли бы находиться сиденья и отдельные места для посетителей, помещался ряд неглубоких отсеков с укрепленными в них наклонными платформами. На них разложены были тела умерших, над которыми, дабы помочь опознанию, висела их одежда. Каждое тело защищено было от толпы любопытных толстым стеклом, подобно товару в витрине лавки. Во время моего посещения их было пять, трое мужчин и две женщины, и определить причину их смерти представляло собой недурную задачку. Один мужчина, средних лет, грузный, с тяжелою челюстью и бритою головой, походил на сгоревшего; однако красно-синие подтеки и распухшие конечности убедили меня в том, что он утонул. Догадка моя подтвердилась, когда я заметил внизу лужу воды, просочившейся из тела. Лицо женщины по соседству было почти неузнаваемо – походило оно скорее на гроздь помятого, перезрелого винограда. Причины этих диких ударов, нанесших урон ее внешности, представить себе я не мог, разве что предположить некое жуткое происшествие. Как бы то ни было, она заинтересовала меня. Остальная часть ее тела была совершенно нетронута, не считая нескольких подтеков крови и грязи, и мне подумалось, что, будь у нее новая голова, она могла бы стать предметом чувственного желания. Опознать ее мог лишь любовник или, возможно, родители.
Хоть я вовсе не относился к этим зрелищам с легкостью, ни малейшего отвращения они во мне не вызывали. Более всего меня захватывала любопытная неподвижность тел. Стоило основе жизни покинуть их, как они превратились в пустые комнаты, по неподвижности превосходившие любую восковую фигуру или манекен. Глядя на восковую фигуру, возможно представить себе, что она способна дышать и двигаться, но подарить жизнь этим холодным членам не способен был никакой акт сочувственного воображения. Я глядел на предметы, которым никогда не суждено было взглянуть на меня в ответ.
В другом отсеке я обнаружил тело пожилого мужчины, на котором не было ни единой царапины. По его загнутым ботинкам, поставленным рядом с ним, я понял, что он был мастеровым или же работником. Как бы то ни было, его отличала одна любопытная черта. Вокруг глаз его я заметил легкую сырость, а на щеке его застыло нечто, напоминавшее слезу. Этот остаток чувств на уже опустевшем лице воздействовал на меня престраннейшим образом. Я повернулся, чтобы уйти, и на мгновение задержался в толпе, собравшейся вокруг. Посмотревши в сторону открытой двери в дальнем конце низкой комнаты, я на миг поймал взглядом пожилого мужчину, стоявшего подле нее. Он в точности походил на человека, которого я только что видел за стеклом, словно тот с помощью некоего вмешательства черной магии смахнул слезу и ожил. Тут он улыбнулся мне. Я знал, что все это мимолетная иллюзия, но ужас мой от этого не уменьшался. Я медленно пошел к двери, где служитель морга протянул руку за pourboire [13], однако фигура старика уже исчезла. С облегчением оказавшись на свежем уличном воздухе, я попытался забыть этот случай, но он не шел у меня из головы и когда я взбирался по лестнице в свою комнату в гостинице.
Мой спутник Армитедж лежал на своей постели, полностью одетый. Продолжая думать об увиденном в морге, я был на миг ошарашен его присутствием.
– А, мистер Франкенштейн, – сказал он. – Не отужинаете ли вы со мной? Вино здесь очень дешево. – У него был низкий, глубокий голос, приводивший меня в раздражение.
– Боюсь, мне придется рано лечь. Карета в Дижон отправляется на заре. Дорога предстоит трудная.
– Значит, вам должно подкрепиться. – Он был старше меня, лет тридцати или около того, но манерами обладал необъяснимо старомодными. – Знаем, знаем, как вы, оксфордские джентльмены, морите себя голодом.
– Откуда вам известно, что я из Оксфорда?
– Так написано на вашем багаже. Зрение, понимаете ли. Хорошее зрение. – Мне уже известно было, что он торговец оптическими товарами. – Глаз – организм деликатный. – Говорил он медленно и с большой значительностью. – Плавает в море воды.
– Виноват, но это не так.
– Неужели?
– У него имеются корни и побеги. Он подобен вьющемуся растению, присоединенному к почве – мозгу.
– Возможно ли сказать, что он подобен лилии? Плавает на поверхности.
– Возможно, мистер Армитедж.
Добившись своего, он широко улыбнулся и похлопал меня по спине, словно поздравляя с тем, что я с ним согласился.
– Давайте спросим для вас хлеба. И мяса. И вина.
За простым ужином, который принесла нам горничная, мы обменялись всегдашними фразами. Жил он на Фрайди-стрит, близ Чипсайда, со своим отцом. Отец его изготавливал линзы и очки в мастерской на первом этаже их дома, он же выполнял роль коммивояжера. Воспользовавшись наступившим миром, он поплыл во Францию с образцами новейших изделий своего отца.
– Линз более тонко отшлифованных вам не найти, – говорил он. – Отдаленный шпиль в лунном свете и тот позволяют различить.
– Делает ли он микроскопы?
– Разумеется, делает. В данный момент он занимается прибором, у которого, если мне позволено будет так выразиться, цилиндрические глаза. С его помощью возможно будет ясно рассмотреть мельчайший предмет.
– Меня бы это чрезвычайно заинтересовало.
– Вот как? Что вы изучаете в Оксфорде, мистер Франкенштейн?
– Меня занимают тайны человеческой жизни.
– И только-то? – Он улыбнулся мне. Я не мог себе представить, что он способен рассмеяться.
– Именно так я узнал о нервных окончаниях глаза.
– Выходит, вы анатом? – Внезапно он сделался чрезвычайно мрачен, словно я вторгся в некое приватное дело.
– Не совсем. Это не главное мое занятие. Не могу похвастаться особым умением.
– Известно ли вам, как долго остается живым глаз, вышедши из своей оправы?
– Понятия не имею. Вероятно, несколько минут…
– Тридцать четыре секунды. После чего свет его угасает навеки.
– Откуда вам это известно?
– Оказавшись вне глазницы, высыхают они крайне быстро. Не спрашивайте меня, откуда мне это известно.
– Но что, если держать их в водном растворе – что тогда?
– Тогда, мистер Франкенштейн, сочтут, что вы задаете слишком много вопросов.
Он принялся очень медленно есть хлеб и мясо, лежавшие у него на тарелке.
Мне вспомнилась фраза из Теренция.
– Ничто человеческое мне не чуждо, мистер Армитедж.
Не ответив, он продолжал жевать мясо. То была, помнится, телятина, обвалянная в сухарях, как принято у меня на родине. У меня она не вызывала аппетита. То и дело он посматривал на меня; взгляд его не выражал ничего особенного помимо спокойного наблюдения. Наконец он заговорил:
– У моего отца есть занятный подмастерье. С четырнадцати лет он работал на доктора Джона Хантера. Известно ли вам это имя?
– Да, и очень хорошо.
Слухи о репутации Хантера – хирурга и анатома – дошли до меня еще в Женеве, где была переведена на французский его «Естественная история зубов».
– Доктору Хантеру, мистер Франкенштейн, прекрасно удавалось изучение тела. Он превратил это в свое ремесло.
– Да, я об этом читал.
– Хирургом он был превосходным. Мой отец видел, как он изъял камень из желчного пузыря менее чем за три минуты.
– Неужели?
– И пациент не умер.
Армитедж опять сосредоточился на своей тарелке – теперь он с нарочитой неспешностью подтирал на ней крошки куском хлеба, смоченным в вине.
– Тот камень до сих пор хранится у моего отца.
– Пациенту он был не надобен?
– Нет. Доктор Хантер называл его кладом.
– Но что же произошло с глазами?
– Я же говорил вам. Пациент остался жив – к немалому своему удивлению.
– Не с его – с теми глазами, что сохранялись в воде. Полагаю, их вынули из тел людей, которым повезло менее.
Армитедж не сводил с меня взора, все столь же необъяснимо бесстрастного.
– Ежели пациент умер в операционном театре, кому он тогда принадлежит?
Я ничего не сказал, полагая, что и без того уже сказал слишком много.
– Доктор Хантер придерживался того мнения, что, поскольку тело поручено его заботам, ответственность за него лежит на нем. Оно, в некотором смысле, становится его собственностью.
– Не могу не согласиться.
– Превосходно. Я говорю с вами сейчас, целиком полагаясь на единодушие, какое бывает меж добрыми приятелями. Факты эти не пользуются широкой известностью за пределами медицинских школ.
Рот мой пересох, и я проглотил стакан вина.
– Доктор Хантер полагал, что члены и органы скончавшегося пациента представляют большую ценность для его студентов, нежели для земли, в которой им иначе суждено было бы лежать. Одного молодого человека, из ассистентов доктора Хантера, в особенности интересовала селезенка. Вот она и… – Армитедж прервался и, к удивлению моему, широко улыбнулся. – Как принято говорить у нас на Чипсайде, мистер Франкенштейн, она пошла из-под прилавка.
– А вашего отца в особенности интересовали глаза?
– Он всегда обладал безукоризненным зрением. Это было замечено еще в раннем возрасте. Он, как это бывает с мальчишками, заинтересовался этим предметом. Не знаю, есть ли у вас в стране телескопы для путешественников? – Я покачал головой. – Их устанавливают на проезжей дороге, и за небольшую сумму их позволяется использовать в течение пяти минут. На Стрэнде всегда стоял один такой. Мальчишкой отец мой его очень любил. Вот так, мало-помалу, он и заинтересовался связью между линзой и глазом. Известно ли вам, что глаз обладает собственной линзой, пропускающей воздух, подобно пузырьку газа?
– Я слыхал об этом.
– Покрыта она необычайно тонкой пленкой прозрачного вещества, которое отец мой назвал глазной тканью.
– Так, значит, отец ваш – экспериментатор?
– Не знаю, можно ли его так называть, мистер Франкенштейн. – Армитедж налил нам обоим еще по стакану вина. – Расскажу вам еще секрет. Бывали, разумеется, случаи, когда пациент не умирал – к великому удовлетворению доктора Хантера. Но при этом возникала другая проблема.
– Какого характера?
– Проблема нехватки, сэр.
– Мне кажется, я понимаю вас. Нехватки трупов. Готового материала.
– Предмет этот обыкновенно не возникает в беседе. Однако для доктора Хантера и его ассистентов это была постоянная тема разговоров.
– Как же дело разрешилось?
– Вы, полагаю, слыхали о воскресителях?
– Только из газет.
– В наши дни в публичной печати об этом упоминается редко. Однако они по-прежнему действуют.
Я знал о деятельности этих расхитителей могил, или, как их чаще называли, воскресителей. Об их действиях, даже в Оксфорде, время от времени писали в газетах, но никаких сенсаций это не вызывало. В Лондоне они были более активны – там они выкапывали свежие тела недавно умерших и за большие суммы продавали их медицинским школам.
– Доктору Хантеру пришлось воспользоваться их услугами?
Армитедж кивнул:
– С неохотой. Он говорил моему отцу, что коль эти похищенные тела помогают вернуть к жизни других, то он не способен в полной мере сожалеть о подобном их использовании.
– Жизнь за смерть – сделка выгодная.
– Вы будете желанным гостем на Чипсайде, мистер Франкенштейн. Мой отец держался того же мнения, что и вы, и помогал в переговорах с людьми, занимавшимися делом воскресителей. Он весьма близко с ними сошелся. По его словам, трезвых среди них не бывало ни единого.
– Вы говорите, они по-прежнему действуют?
– Определенно. Это семейное дело. Они часто посещают определенные таверны, где с ними возможно договориться… – Он поднес руку к губам, изображая, будто пьет. – К несчастью, одного из них судили – за покражу серебряного распятия с одного из тел. Проболтавшись, он назвал имя доктора Хантера.
– И тогда?
– Все довольно скоро утихло. Однако появился памфлет, где имя его связывалось с вампирами. Приходилось ли вам слышать об этом явлении, мистер Франкенштейн?
– Мадьярский предрассудок. Интереса не представляет.
– Рад это слышать. В то время доктора Хантера это беспокоило, но работа увлекла его вперед.
– Его жизнь посвящена была работе.
– Да, верно. Если мне позволено будет так выразиться, вы прекрасно все понимаете. – Он выпил еще вина. – Вы говорили, что изучаете тайны человеческой жизни. Позвольте спросить, какие именно аспекты вас интересуют?
Полагаю, я на миг замешкался.
– Меня занимает устройство всего, что наделено жизнью.
– Какова ваша цель?
– Я хочу открыть источник жизни.
– Но ведь это включает в себя и человеческое тело?
– Я намерен двигаться постепенно, мистер Армитедж.
– Предприятие колоссальное, что и говорить. Полагаю, лишь человеку молодому мог прийти в голову подобный план. Потрясающе. Мне очень хотелось бы познакомить вас с моим отцом.
– Непременно. Мне хотелось бы увидеть его глаза.
На это он громко рассмеялся и снова похлопал меня по спине, будто лучше меня не было человека на всей земле.
– Так тому и быть. Но будьте осторожны. Он видит людей насквозь.
13
Чаевые (фр.).