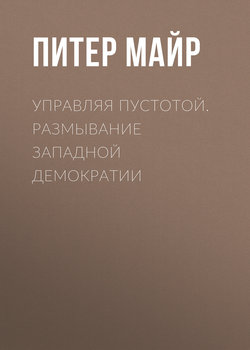Читать книгу Управляя пустотой. Размывание западной демократии - Питер Майр - Страница 5
Введение
Безразличие и обновление
ОглавлениеОтсюда возникает первый вопрос. Возрождение всеобщего интереса к демократии сосуществует с тенденцией противоположного характера. В политическом дискурсе XXI века мы видим явное проявление безразличия общества к конвенциональной публичной политике и очевидное уклонение от конвенциональных форм политического участия, которое, как правило, считается необходимым для поддержания демократии. Как эти тенденции согласуются между собой?
Есть два возможных объяснения. Первое предполагает, что на самом деле эти тенденции взаимосвязаны и что растущий интеллектуальный и институциональный интерес к демократии отчасти спровоцирован ростом массового безразличия. Другими словами, дискуссии о демократии, ее значении и путях преобразования возникают в момент, когда обычные граждане начинают дистанцироваться от конвенциональных форм демократического участия. Мы пытаемся сделать демократию релевантной, когда она перестает быть таковой. И хотя временная последовательность подтверждает эту гипотезу, фактическое содержание дискуссии выглядит несколько иначе. Ведь на самом деле, вместо того чтобы стимулировать гражданское участие или повысить значимость демократии в глазах рядового гражданина, большинство дискуссий по институциональным реформам и теории демократии, казалось, предлагали набор действий, который фактически препятствовал массовому участию. Это прослеживается, например, во внимании, которое уделяется мнению стейкхолдеров (stakeholder), а не всеобщему голосованию, в дискуссиях по ассоциативной и партисипаторной демократии, а также в предпочтении, которое отдается закрытым экспертным обсуждениям в делиберативных и рефлексивных моделях демократии. Ни в одном из вариантов речь не идет об использовании конвенциональных моделей демократического участия. В том же русле формулировалась и новая идея «легитимности, ориентированной на результат», построенная на принципах эффективности, стабильности и преемственности и прозвучавшая в дискуссиях о судьбе Европейского союза, а также идея того, что демократия в ЕС должна «выйти за рамки государственных решений и, возможно, стандартных западных форм представительной либеральной демократии» (Shaw, 2000: 291). Другими словами, даже после признания проблемы массового безразличия никто не говорил о возвращении демократии широким массам. Филипп Петтит (Pettit, 2001: § 46), рассуждая об обновлении демократии в контексте делиберации и деполитизации, приходит к выводу о том, что «демократия слишком важна, чтобы предоставить ее политикам или даже народу, голосующему на референдумах». Фарид Закария (Zakaria, 2003: 248; Закария, 2004а: 274) выразил похожую точку зрения в своей известной формуле: реформы необходимы, поскольку «сегодня нам необходима такая политика, в которой демократии было бы не больше, а меньше».
Отсюда следует второе возможное объяснение: возобновление интереса к демократии и ее роли на интеллектуальном и институциональном уровнях происходит без попытки открыть демократию заново. Цель скорее состоит в таком переосмыслении демократии, которое позволяло бы к ней адаптироваться в условиях снижения всеобщего интереса и вовлеченности в политику. Вместо того чтобы бороться с отстранением от демократии, в рамках этой дискуссии мы примиряемся с ним. Другими словами, мы видим здесь распространенную попытку переопределить демократию без акцентирования идеи народного суверенитета – в крайнем случае, попытку сохранить демократическую систему без демоса в ее центре.
В ходе этого процесса «переопределения» особое значение придается различию между «конституционной» и «массовой» демократией, – различию, которое перекликается с разграничением «мэдисоновской» и «популистской» демократии у Роберта Даля (Dahl, 1956)[2]. С одной стороны, в демократии есть конституционная составляющая, которая основана на системе сдержек и противовесов и предполагает власть для народа. С другой стороны, в ней есть массовая составляющая, выраженная в массовой и индивидуальной вовлеченности в политику и в политическом участии, гарантирующем власть народа. Эти две различные функции сосуществуют и дополняют друг друга. Тем не менее, хотя они и задумывались как два элемента в единой демократической системе, со временем они распались и начали вступать в противоречие друг с другом как в теории, так и на практике. Например, в попытке описать новые режимы, возникшие после коллапса коммунистического блока в 1989 году, родились понятия нелиберальных или электоральных демократий (Diamond, 1996; Zakaria, 1997; Закария, 2004б), сочетающих свободные выборы – массовую демократию – с ограничением прав и свобод и чрезмерной концентрацией исполнительной власти, потенциально готовой к злоупотреблениям. Как показывают многочисленные исследования этих новых демократий, массовая и конституционная демократии, похоже, больше не обязательно связаны друг с другом.
Таким образом, концептуальные различия между массовой и конституционной составляющими демократии на практике оказались гораздо более важными. Развитие демократии сопровождается изменением их веса: массовая составляющая становится гораздо менее значимой, чем конституционная. От их взаимного практического отделения конституционная составляющая выиграла, а массовая – проиграла. Закария, наиболее внятный автор в этой области, считает именно конституционную, а не массовую составляющую необходимой для выживания и благополучия демократии, ведь именно в ней кроется причина феноменального успеха демократии в западном полушарии: «На протяжении значительного промежутка времени в новой и новейшей истории отличительным признаком правительств Европы и Северной Америки была не демократия, а конституционный либерализм. Лучшим выражением „западной модели“ служит не массовый плебисцит, а беспристрастный суд» (Zakaria, 1997: 27; Закария, 2004б: 59). С этой точки зрения, самым полезным для демократии институтом являются не выборы – или не выборы как таковые, а суд или, по крайней мере, сочетание судов с другими видами неэлекторального участия. В самом деле, в литературе по качеству государственного управления (good governance) для развивающихся стран представлена ясная формула эффективной демократии: НПО (неправительственные организации) + суды = демократия. Акценты расставляются так, что «развитие гражданского общества» считается допустимым условием, опора на правовые процедуры – необходимым, а выборы – необязательным (см. также: Chua, 2003).
2
См. также более поздние дискуссии в: Mény and Surel, 2002; Dahl, 1999; Eisenstadt, 1999.