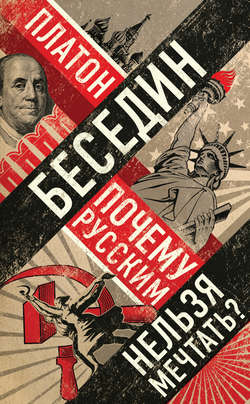Читать книгу Почему русским нельзя мечтать? Россия и Запад накануне тотальной войны - Платон Беседин - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Точка разборки: суть противоречий России и Запада
ОглавлениеТретий Рим
Так где та точка отсчета, точка разборки, что разделила Россию и Запад? В чем основная причина их конфликта? Есть соблазн, как то, например, делает Ги Меттан, сказать, что суть противоречий изначально – религиозные расхождения. И тут мы вспоминаем Великий раскол 1054 года. Тогда Рим остался центром католицизма, и позднее едва ли не все знаковые европейские лидеры пытались воспроизвести Римскую империю. Центр же православия после падения Константинополя перенесся в Москву, ставшую Третьим Римом. Спор о том, кто на свете всех святее, мимикрировав, продолжается до сих пор, обрастая новыми смыслами.
Так на каких религиозно-философских основах стоит Россия? И отвечая, безусловно, вспоминаешь концепцию Третьего Рима. В 1523–1524 годах старец псковского монастыря Филофей в посланиях дьяку Мисюрю Мунехину и князю Московскому Василию III Ивановичу сформулировал известный тезис «Москва – Третий Рим»: «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть». Под этим девизом Иван III собирал русские земли. Он выстроил Московскую Русь как новую Византию, перенял двуглавого орла, на грудь которого переместился герб Москвы, а итальянские архитекторы возвели Кремль по византийским образцам. Иоанн Грозный также был увлечен идеей Третьего Рима. Собственно, именно его инок Филофей впервые назвал русским царем: «Видиши ли, избранниче Божии, яко вся христианская царства потопишася от неверных, токмо единаго царя Иоанна Васильевича государя нашего царство благодатию Христовою стоит», – писал старец в послании к государю в 1542 году.
Неудивительно, что идея Филофея нашла в царской России серьезную поддержку. Государство нуждалось в фундаментальной идее, от которой можно было бы оттолкнуться, утвердив свое место в мире. При этом речь шла не только об идеологической, философской составляющей, но и о практической: Московскому княжеству требовалось внятное обоснование для притязаний на другие земли. «Только мы истинные носители веры, только нам можно верить», – в современной трактовке это звучало примерно бы так.
Чистота веры в то время действительно значила много. У падения Византии, конечно, существовало множество причин – экономических, геополитических, социальных, но с богословской точки зрения конец государству пришел, точно Божья кара, именно из-за уклона в католическую ересь на Флорентийской унии 1439 года. И словно за это турки, свершив кару, разрушили Константинополь в 1453 году.
Для того чтобы принять сакральную эстафету у Второго Рима, Московское княжество имело свои мотивы. На тот момент оно являлось, пожалуй, единственной независимой православной страной, а князь Иоанн III венчался с племянницей последнего византийского императора Константина XI Софьей Палеолог, которой, к слову, в Москве пришлось ой как нелегко, зато именно с ее подачи во много изменился облик центральной части города. Впрочем, в родственной связи Константинополя и Москвы есть свои нюансы. У Софьи было два брата: Мануил и Андрей – так вот последний, старший из них, и являлся титулярным императором Византии. Правда, со временем его замучили финансовые беды, и он несколько раз продавал свое право наследия и титул. Самой же Софье было пять лет, когда пал Константинополь. Выросла она на Корфу и в Риме и до замужества принадлежала к греко-католической вере.
Со временем из формулы Третьего Рима выросла целая доктрина, хотя послания инока изначально касались астрологии и летосчисления (в первом письме), и правильного совершения крестного знамения, и мужеложства (во втором). Позднее, в 1667 году, церковь изменила отношение к идее Третьего Рима. Причиной тому стал раскол, когда определенные группы, позднее трансформировавшиеся в староверов, полагали, что церковь времен Филофея была чище греческой. Собственно, по распространенной версии, именно староверы и приняли идею Третьего Рима как стержневую для всей Русской цивилизации. После окончательного прихода к власти Никона они унесли ее в отдаленные, дикие места. Большинство же к идее старца Филофея отнеслось ровно. И тот же Николай Карамзин толковал ее сугубо с точки зрения поддержки создания патриархата.
А вот массовый и уже не сходящий интерес к формуле «Москва – Третий Рим» пробудился в интеллектуальных кругах при Александре II. В новом издании «Послания на звездочетцев» говорилось, что Филофей выступил со своей идеей против «бытовавшей тогда веры об осквернении христианской церкви в странах, захваченных неверными», но никак не против греческой церкви. Из формулы постарались убрать еретический оттенок. Появились иные трактовки идеи инока. Первый – весьма полезный для Московского княжества – шаг сделал историк Владимир Иконников: он придал формуле имперский оттенок. Иконников, напоминавший, что «четвертому Риму не бывать», делал акцент на московском мессианстве. В последней четверти XIX века эта версия считалась едва ли не официальной – ее тиражировали в исторических обзорах и энциклопедиях. Третий Рим крепко увязали с периодом Московского диктата в русской истории. А панславянисты обращались к словам старца Филофея, обосновывая ими идею славянского братства и защиту братских народов.
Под солнцем Третьего Рима короновался и император Александр III, а идея расцвела, сформировав взгляды целой плеяды идеалистических философов. Прежде всего, Владимира Соловьева, увязавшего ее с русской идеей. Философ использовал ее как базу для обоснования сближения России и Запада и для создания жизненно необходимого мирового органического единства. Соловьев полагал, что если Москва – Третий Рим, то вся Россия символизирует собой некий «третий принцип», благодаря бескорыстию которого возможно объединение Востока и Запада.
Финальную же точку (ну или почти финальную) в эволюции идеи инока Филофея в 1914 году поставил Иван Кириллов. Как полагал Кириллов, именно формула Третьего Рима стала свидетельством пробуждения русского самосознания, и возрожденная славянофилами, этими лучшими людьми образованного русского общества, она коррелировала с русской идеей. Тем не менее тезис Филофея, укрепившись в народном сознании, вызывал отторжение и никоновских, и петровских, и большевистских реформ, оставаясь по сути своей маргинальным.
Но все это будет позднее, а в первой половине XVI века Москве требовалась мощная концептуальная идея – и ее точку сборки отыскали в словах инока Филофея. Она не просто застолбила место в царских головах и покоях, но и укрепилась в народной памяти. Прежде всего, за счет своей мессианской основы. Именно она руководила внешней политикой русских царей, и она же вдохновляла русских мыслителей. Ее интерпретировали большевики, ею оперируют и в нынешних кремлевских пенатах.
Сало на отстающих рельсах
Третий Рим как третий принцип, объединяющий мир, – такова трактовка Соловьева. Но и Достоевский видел глобальную роль России в абсолютном преображении Земли. На мессианских идеях о преображении мира основывались и большевики, отрицавшие всякую религиозность, но, по сути, использовавшие традиционный для русского сознания религиозный идеал преображения всего материального. «Я жажду того, что находится не в этом мире», – как писал Мережковский. Собственно, зависимость сознания от бытия, свойственная русскому философскому представлению, как раз и контрастирует с рационализмом, доминирующим на Западе со времен Декарта. Это крайне важный пункт в перечне противоречий России и Запада.
Например, появление учения Чарльза Дарвина в России невозможно, как невозможно и более позднее представление о том, что человечество достигло своего пика развития и дальше история не имеет смысла (концепция Последнего человека Френсиса Фукуямы). Сама идея эволюции противоречит русскому сознанию. И если принять на веру справедливость утверждения, что литература отражает душу народа, то русская литература в ее классической традиции – это плач о «маленьком человеке», гимн о торжестве правды.
На Западе же, наоборот, долгое время главенствовало – да и частично главенствует до сих пор – представление о том, что Бог создал мир ради сильных, мир, где хищники наделены правом пожирать более слабых. На этот счет есть известный британский памфлет, где высмеивается излишнее сострадание к слабым, к этим глупцам и трусам, не способным жить по канонам успешности. Само выражение «выживает сильнейший» до определенного момента вызывало раздражение у русского человека; русское сознание противилось ему, и возникал ответный вопрос: «А как же слабый?» Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода, бунтовал против такой «жизни для сильных». В ответ он писал, что данное понимание бытия есть глубокая уверенность английского народа в его «лучших» представителях. Другой вопрос: осталось ли это в русском человеке, в россиянине сегодня?
Однако прогресс западной цивилизации во многом и был достигнут за счет других народов и других культур. Что, впрочем, не мешало Западу критиковать остальных, точно таких же. Крепостное право в России отменили в 1861 году, рабство в США – в 1865-м. Последняя же отмена рабства произошла в 1981 году; Мавритания отчаянно держалась за своих рабов.
Отцы-просветители западного общества сами практиковали к данному вопросу, скажем так, двойственный подход. Например, основатель теории гражданского права Джон Локк вкладывал средства в акции Королевской Африканской компании, занимавшейся работорговлей. Так же поступал и французский просветитель Монтескье, заявлявший: «Сахар был бы слишком дорог, если бы не использовался труд рабов. Эти рабы – черные с головы до ног, и у них такой приплюснутый нос, что почти невозможно испытывать к ним жалость. Немыслимо, чтобы Бог, существо исключительно умное, вложил бы душу, тем более добрую душу, в совершенно черное тело». Эта фраза прекрасно иллюстрирует западное представление о кастовом мире, созданном для рабов и хозяев. Или еще одно известное высказывание – пословица американских пуритан: «Из скота добывают сало, из людей – деньги».
В таком подходе нет лицемерия и фарисейства. Ведь изначально история западного мира написана так, что под цивилизацией понимается матрица, выстроенная романо-германцами и англосаксами. Мир замкнут в границах Североатлантического альянса. И когда доктринальный немец, канадец или американец начинает размышлять о «человечестве» и «общечеловеческих ценностях», то говорит он исключительно об этой части земного шара – говорит о себе и о себе подобных, не задумываясь о многообразии мира. У остальных же есть выбор – принять «общечеловеческую культуру» или быть уничтоженным.
Это своего рода интерпретация учения Дарвина – только не для индивидов, а для стран и народов: на самой вершине эволюционной лестницы стоят англосаксы, немцы и, возможно, те, кто захотел на соответствующих условиях примкнуть к ним, а другие находятся в отстающих. Этим в том числе объясняется то, почему Запад не хочет принимать и воспринимать Россию, которая на протяжении едва ли не всей своей истории решала задачу, сформулированную Дмитрием Менделеевым: «Уцелеть и продолжить свой независимый рост». «Независимый» – здесь ключевое слово.
Ален Безансон, специалист по России и СССР, формулирует это предельно ясно: «Ответ на вопрос, принадлежит ли Россия к Европе, зависит от того, считаем ли мы, что она просто “отстала” от Европы, или же признаем, что в данном случае имеем дело с “искажением” Европы… Выбор какой-либо из этих двух точек зрения определяет и самые непосредственные практические выводы; от него зависит выбор политики, которую европейский Запад будет проводить в отношении России». Запад, по сути, зажат между двумя данными точками зрения.
Данную позицию перенесли на русскую почву и российские западники. Например, отец «перестройки» Александр Яковлев полагал, что Россия просто выпала из мировой цивилизации, оставшись в варварском состоянии. «Здесь никогда не было „духа цивилизации“, – писал он. Позднее, в 1996 году, Яковлев аплодировал избранию Ельцина. Лихолетье 1990-х он назвал демократическими преобразованиями, за которые взялись впервые за тысячелетия. Возможно, он действительно так считал, и «дух цивилизации» для него был тождественен духу западного общества. Других духов он, видимо, на дух не переносил.
Собственно, многие западные проводники, заполонившие трибуны после 1991 года, называли Россию страной изначально мерзкой – патологически жестокой и тоталитарной. Все, что делалось в ней, было антигуманно и направлено против человека. И на таком фоне люди, интеллигентно говорившие, что Россия чуть отклонилась от европейского пути, воспринимались как добрые советчики и благодетели. Один за другим выходили материалы, где доказывалось, что с Запада в Россию шли только блага, а вот в ответ совершались одни лишь подлости. Аналогичное по риторике, но прямо противоположное по смыслу мы слышим и сейчас в бесконечных политических ток-шоу.
Но беда в том, что модель европейских стран фундаментально не подходит России. В силу и размеров, и значения, и национального состава, и историософии, и мировоззрения. Сделать вторую Чехию, а лучше Швейцарию из России не получится. Девяностые доказали это. Однако и сейчас, несмотря на всю бравурную риторику, многие представители российских элит по-прежнему считают нашу страну раболепным сателлитом Европы. Со времен Пушкина, говорившего, что в России только один европеец – это правительство, мало что изменилось. Одни отказывают стране и народу в праве на самоидентификацию, другие несут квасно-патриотический бред, упиваясь собственным пафосом.
Однако у многих лучших европейских умов никогда не было идеалистического представления о возможности единства России и Запада. Освальд Шпенглер писал, что это различие не двух народов, но двух миров, и различие это необходимо подчеркивать самым решительным образом. В другой работе немецкий историософ называл Россию Азией – и никак иначе. «Настоящий русский нам внутренне столь же чужд, как римлянин эпохи царей и китаец времени задолго до Конфуция, если бы он внезапно появился среди нас». Он и сам это всегда сознавал, проводя разграничительную черту между «матушкой Россией» и «Европой». Не забывал Шпенглер, в лучших традициях злых западных мифов о России, и о «грязи, водке, смирении и своеобразной грусти». «Тем не менее некоторым, – заключал историософ, – быть может, доступно едва выразимое словами впечатление о русской душе. Оно не заставляет сомневаться в той неизмеримой пропасти, которая лежит между нами и ими». Написано это в 20-х годах XX века. С тех пор мы, по выражению Черномырдина, преодолеваем данную пропасть маленькими шажками.
Меж тем, безусловно, на Западе хватало и хватает тех, кто воспринимает Россию как полноценную часть Европы, ее неотъемлемую важнейшую составляющую. Однако такие люди, как правило, чувствуют себя неловко, и зачастую их не хотят слышать.
Великие церковные мистификации
Одно из главных противоречий России и Запада, как я уже говорил, – религиозное. Да, и Запад, и Россия сформированы христианской парадигмой. Однако в первом случае католицизм или протестантизм уже давно – примерно со второй половины XVIII века – не играют доминирующей роли. Религиозные ценности уступили пьедестал ценностям «общечеловеческим» (преимущественно либерально-демократического толка). Насколько это эффективно – вопрос. Особенно остро он звучит в контексте роста миграционных и межэтнических проблем. Возможно, будущее Европы – то, каким его представил Мишель Уэльбек в романе «Покорность».
В России же, наоборот, до недавних пор всегда были сильны религиозные настроения. При всех своих особенностях русская духовная жизнь, даже будучи изрядно истрепанной марксизмом, основывалась на православии, сохранив в себе черты сирийско-византийского аскетизма. Это в том числе предполагает и особое – высокочтимое – отношение к царю. Государство, безусловно, уже не «оцерковляется» как раньше, но сохраняет в себе элемент сакральности. И вместе с тем оно парадоксальным образом, как ничто другое, пронизано грехом.
Тут надо сделать ремарку. Говоря о религиозности Запада и России, отчасти даже сравнивая их, я ни в коем разе не намерен повторять заскорузлую мантру о бездуховности одних и богоносности других. Это насколько архаично, настолько и преувеличено. Более того, у костела в Кракове прихожан вы можете встретить гораздо больше, нежели у собора в Архангельске. И популистскими мне видятся заявления тех, кто, размышляя об очередной трагедии на Западе, говорит, что она есть следствие тотальной бездуховности Европы. Ведь в том же Посаде, например, толпа школьников избивает одноклассника-инвалида до черепно-мозговой травмы, записывая пытки – именно так – на видео. Речь не об этом. Я говорю о том, как религия до недавнего времени влияла на метакультурный, цивилизационный код страны, нации.
Когда мы повторяем хрестоматийное сказание о Петре Великом, прорубившем окно в Европу, то, прежде всего, подразумеваем преодоление классического русского общества, изъятие из него идеи справедливости. Именно Петр привнес обязательный элемент западной матрицы – установил право собственности, что, по мнению определенных течений (например, странников, бравших исток в старообрядчестве), привнесло имущественное разделение, социальное неравенство.
В то же время именно старообрядчество, как пишет Мануэль Саркисянц, подготовило почву для прихода большевиков, создавших, несмотря на декларируемый атеизм, почти религиозную – если не сказать, оккультистскую – организацию. «У власти – Антихрист» – эту мысль внушали и питали в народе. Ленин бы не торжествовал, если бы не было подготавливаемой и питаемой столетиями хилиастической традиции, владевшей умами русского общества. Социальные теории, которые большевики взяли с Запада, были переработаны ими в эсхатологическом контексте и тем самым привиты на русскую почву. Коллективное спасение, стремление к утопии, равенству и справедливости – вот что питало народный революционный порыв. Французская революция стала борьбой классов, а революция русская – поиском божественного идеала (и в итоге – без Бога). Позднее, как и в христианской традиции, у «красных» появились и свои апостолы, и свои мученики.
После же 1991 года церковь в России постепенно возвращала себе полноту власти. Скандал с Pussy Riot стал лакмусом, проявившим, что цели этой она во многом достигла. И данная власть раздражает не только Запад, но и весомую часть общества внутри самой России. Зачастую это провоцируется действиями самих представителей церкви, насколько требующих с других, настолько и попустительствующих себе. Едко и точно отреагировал на это Борис Гребенщиков: «Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом. Не то кроткие, как голуби, поймают тебя. Святые оседлают тебя. Служители любви вобьют тебя в землю крестом».
Но есть и другая сторона: возможна ли Россия без авторитета церкви? Когда Путин в очередной раз говорит о государстве, опирающемся на традиционные ценности, то, несомненно, прежде всего, апеллирует к православным истокам. Собственно, мертвая хватка России за христианские ценности как соломинку для утопающего отчасти и раздражает Запад, но и Россия не отпускает соломинку, понимая, что иначе утопающему уже ничто не поможет.
У религиозных противоречий двух сторон – тысячелетняя история, прекрасно изложенная швейцарцем Ги Меттаном. Ведь еще до Великого раскола император Запада Карл Великий подверг христианское богослужение собственной редакции. Это вызвало серьезный протест среди представителей восточных церквей. Но у Карла были на то причины. Каролингские короли, разбив в 732 году арабов и превратив свое государство в самое могущественное в Европе, решили создать ремейк Римской империи. Для объединения земель им, как и Иоанну Грозному, понадобилась единая доктрина, работавшая бы как «мягкая сила». Для этого надо было подчинить себе церковь. Так Каролинги запустили реформы богослужения, григорианского пения и «Символа веры».
Главным пропагандистом нового миропорядка стал английский монах Алкуин. Он разработал принцип, по которому папа римский должен был защищать веру, а император (Каролинг) – христианский мир. Если ты против императора, то ты против христианства – обратное тоже верно. Последовали долгие прения. Основной спор шел вокруг филиокве – добавления к «Символу веры» об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Сына. В итоге Каролинги добились своей цели: «Символ веры» больше не читался, а пелся и содержал в себе филиокве. Это раскололо церковь, и многие на Востоке восприняли нововведение как неуважение к авторитету Святых Отцов. Папа Лев III разместил на дверях базилики Святого Петра серебряные скрижали с оригинальным текстом «Символа веры». Как напоминание истины.
Собственно, именно здесь кроется главное отличие Западной и Восточной церквей (католиков и православных). Западное христианство полагает, что единство Господа абсолютно, и Лики Троицы существуют внутри его. В то время как православные полагают, что каждый из этих Ликов наделен своими функциями, но все они находятся внутри одной ипостаси. Католическое понимание Троицы, по их мнению, вносило дисбаланс в ее равновесие. К данному расколу добавлялись и другие споры. Например, об использовании в Западной церкви пресного хлеба как символа тела Христова. Восточная церковь предпочитала традиционную квасную закваску, что подобно Иисусу, возносящему человека к небесам, нагревала и поднимала хлеб.
Для большинства современных людей подобные споры выглядят по меньшей мере странно. Однако тогда они воспринимались как основополагающие, за правоту в которых жизнь отдать можно было. Сейчас же все смешалось в доме Облонских. Вот и, согласно опросу, проведенному в 2016 году, две трети православных россиян (69 %) согласились с тем, что Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына, а это, как мы помним, соответствует католической, а не православной традиции. Правильно же ответили лишь 10 % опрошенных.
Дело Каролингов в первой половине IX века продолжил папа Николай I. Он постановил, что византийские императоры, не знающие латыни, не заслуживают своего титула – настоящий император римлян может быть только на Западе. Так был нанесен еще один серьезный удар по Византии. Конфликт разгорелся сильнее, когда папа низложил византийского патриарха Фотия, а тот в ответ отлучил понтифика от церкви. Политика внесла раскол в дела религиозные.
Когда же папские земли оказались под новой угрозой, понтифик Иоанн XII, которого многие тогда называли Антихристом (по одной из версий, именно из-за его репутации отказался от католичества князь Владимир, принявший в Херсонесе православие), обратился за помощью к германским лидерам – и те, как Чип и Дейл, пришли на помощь. Не безвозмездно, конечно, и уже в 996 году на престол впервые вступил немецкий папа. Традиции Вселенской церкви, мощь Византии отошли в прошлое. А в 1054 году случился Великий церковный раскол.
Дальше начались истории в духе Умберто Эко. В XI веке западные папы начали активно использовать фальшивку, изменившую мировую историю. Речь о так называемом Константинове даре. В этом сфабрикованном документе (его создали предположительно во Франции в конце VIII века), датированном как бы 315 годом (то есть при императоре Константине), излагались постулаты веры и рассказывалась история об исцелении императора от проказы папой Сильвестром. А вот во второй части Константинова дара подробно перечислялись зоны и привилегии, которые император в знак благодарности передал понтифику. Фактически из подложного документа выходило, что вся власть над церковью даровалась императором Константином западным понтификам (те, напомню, во время публикации фальшивки контролировались германскими властями).
Использованием Константинова дара западные лидеры не ограничились. Создавая свое, они уничтожали чужое. Например, с дверей базилики Святого Петра исчезли серебряные скрижали Льва III, напоминавшие истинные слова «Символы веры». Пропало и письмо папы Адриана, где он не соглашался с Карлом Великим о включении филиокве в текст «Символа веры».
То, что Константинов дар – фальшивка, вскрылось лишь в 1430 году. Но, как пишут в плохих романах, было уже слишком поздно. К тому времени Византия потеряла и территории, и влияние. Ей оставалось существовать всего девять лет – до атаки османов на Константинополь. Я уже писал, что падение Царьграда русскими богословами было воспринято как кара за ересь, коей посчитали Флорентийскую унию 1439 года. Но тут надо заметить, что уния вытекала главным образом из безысходности византийского положения. В результате Восточная церковь с разрешения византийского императора подчинилась Западу.
Идеологическая атака на Константинополь подкреплялась и атаками военными. Достаточно вспомнить Четвертый крестовый поход, который венецианские купцы – вспоминаем «Баудолино» Умберто Эко – направили на Византию. Да так, что ее император бежал в Никею.
Но что Византия, если западные просветители, объявившие в 967 году на соборе в Равенне о необходимости объединения христиан Восточной Европы, решили обратить в истинную веру и Русь. Стартовал так называемый «Натиск на Восток», продолжающийся и до наших дней. Причем риторика западных просветителей с тех пор не изменилась: например, епископ Матвей Краковский требовал организовать крестовый поход против русских варваров. Но западный порыв остудила победа Александра Невского над тевтонцами в 1242 году, когда вместо проповедников-миссионеров на Русскую землю пришли упакованные в металлические доспехи рыцари.
Впрочем, попытки отформатировать Россию по западным образцам, прикрываясь христианством, после победы Александра Невского не прекратились. Так что, делая реверс в начало этой главы, формула псковского старца Филофея подоспела очень кстати. Иван III начал, а Иван Грозный продолжил объединение русских земель под знаменем Третьего Рима не только из-за личных амбиций, но и из-за угрозы с Запада.
И в основе действий каждой из сторон лежала борьба за христианское наследие, становящаяся обоснованием борьбы военной, геополитической. Одни отстаивали истинность своей веры искренне, другие использовали ее как предлог. Но, так или иначе, именно религия – и еще язык – по-прежнему остаются базисом, формирующим человека. Базисом, который нужно сначала расшатать, а после изменить, дабы установить свое господство. И то, что делал Запад против Востока, теперь возвращается к нему уже в обратном направлении: воины ИГИЛ устанавливают свой миропорядок с криками во славу Аллаха.
Вежливые люди с раскосыми глазами
Да, во многом Россия традиционно воспринималась как страна христианская, но в своем христианстве противоположная Западу. Шел спор о подлинности веры: кто правоверен, а кто еретик. Собственно, и сама Россия всегда полагала себя христианской державой, тянущейся, по большей части, к Западу, к европейской цивилизации. Однако важнейшим моментом, играющим значительную роль в противоречиях двух сторон, конечно, является и азиатский – восточный – фактор. Достоевский писал, что русским не надо бояться, если их назовут азиатами. Однако страх этот всегда был велик, и Россия снова и снова старалась доказать свою европейскую сущность.
И тогда пришли евразийцы. Один из них, Николай Трубецкой, предлагал взглянуть на русскую историю не с Запада, а с Востока. Так называется его эссе. Трубецкой пишет, что всякое государство жизнеспособно лишь тогда, когда может осуществлять те задачи, которые ставит ему географическая природа его территории. А СССР, существовавший на то время, занимал по большей части земли монгольской монархии, основанной Чингисханом. В случае России эти территории уменьшились, но суть не изменилась. Россия, жителей которой – подчас презрительно – любят именовать татарвой или монголами, действительно берет многое от империи Чингисхана. Данное начало соединяется в ней с началом византийским, синтезируя православие и шаманизм. В том числе и поэтому вера в иррациональное русского человека столь эклектично сочетается в нем с христианским мировоззрением, а любовь переплетается с жестокостью.
Декабрист Муравьев одним из первых сказал, что деспотизм русского общества во многом обусловлен именно монголо-татарским наследием. Собственно, Запад, бросая обвинения русским в жестокости и тирании, также апеллирует к данному фактору, полагая, что русские являются своего рода продолжателями дела Чингисхана. Пушкин, правда, говорил: Россия спасла Европу от монголо-татарского нашествия, став форпостом западного мира. Армия Чингисхана утопла в бескрайнем русском океане. Захлебнулась. Однако это не могло пройти бесследно – и монголо-татарское словно растворилось, осело в русском. Туранские элементы остались в России навсегда.
Потому восточный вопрос занимал русских мыслителей не менее, чем западный. И оценки тут были противоположными. Владимир Соловьев к азиатскому относился настороженно, резко. Другой русский философ Константин Леонтьев, наоборот, полагал, что только азиатские элементы могли предотвратить капитуляцию южного и западного славянства перед западным миром. Так или иначе, но азиатское действительно занимает особое место в русском макрокосме. И в трудные моменты отношений с Западом Россия неизбежно обращает взгляд на Восток.
Впервые же по-настоящему это сделали большевики. Хоть и до них цари продвигались вглубь Азии, пытаясь подчинить ее себе. Но именно революция 1917 года стала своего рода торжеством азиатского над европейским. Сунь Ят-сен – тот самый, что основал Китайскую республику, – видел в этом освобождение миллионов русских людей от бремени белой расы и обращение их к угнетенным азиатским народам с потенциалом дальнейшей совместной борьбы. А советский чиновник Чичерин утверждал, что русские – первый азиатский народ, ставший жертвой европейской эксплуатации. Писатели тех лет также видели в революционном порыве нечто азиатское. Клюев говорил о «Земле моей, Белой Индии, преисполненной тайн и чудес азиатских». Пильняк увидел в крестьянской революции прорыв азиатских сил. Есенин противопоставлял Западу Рассею – стихийную, азиатскую, скифскую. И конечно, мы обязаны вспомнить знаменитое стихотворение Блока «Скифы»:
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!