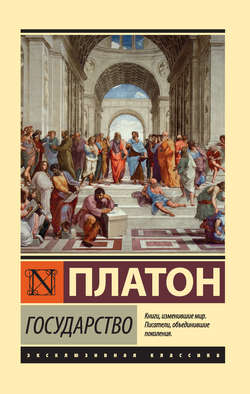Читать книгу Государство - Платон - Страница 2
Книга первая
Оглавление[Сократ]. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее пращник, – ведь делается это теперь впервые. Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей, однако не хуже оказалось и шествие фракийцев. Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город.
Увидев издали, что мы отправились домой, Полемарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал:
– Полемарх просит вас подождать его.
Я обернулся и спросил, где же он.
– Да вон он, подходит, вы уж, пожалуйста, подождите.
– Что ж, подождем, – сказал Главкон.
Немного погодя подошел и Полемарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое-кто, также, вероятно, с торжественного шествия. Полемарх сказал:
– Сдается мне, Сократ, вы спешите вернуться в город.
– Ты догадлив, – сказал я.
– А разве ты не видишь, сколько нас здесь?
– Как же не видеть!
– Вот вам и придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь.
– А разве нет еще и такого выхода: убедить вас, что надо нас отпустить?
– Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?
– Никак, – сказал Главкон.
– Вот вы и учтите, что мы вас не станем слушать.
Адимант добавил:
– Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами в честь богини?
– Конный? – спросил я. – Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных ристаниях? Так я тебя понял?
– Да, так, – сказал Полемарх, – и вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побеседовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте.
Главкон отвечал:
– Видно, придется остаться.
– Раз уж ты согласен, – сказал я, – так и поступим.
И мы пошли к Полемарху домой и застали там Лисия и Евтидема, его братьев, а также халкедонца Фрасимаха, пэанийца Хармантида и Клитофонта, сына Аристонима. Дома был и отец Полемарха Кефал – он мне показался очень постаревшим: прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле с венком на голове, так как только что совершал жертвоприношение во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него – там кругом были разные кресла.
Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами:
– Ты, Сократ, не частый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда – мы бы сами посещали тебя там; но теперь ты должен почаще бывать здесь: уверяю тебя, что, насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии, связанном с ним. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые.
– Право же, Кефал, – сказал я, – мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь – тернист ли он и тягостен или удобен и легок. Особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, «на пороге старости», мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе жизнь? Или тебе кажется иначе?
– Тебе, Сократ, – отвечал Кефал, – я, клянусь Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку. И вот, когда мы соберемся, большинство из нас сокрушенно вспоминают вожделенные удовольствия юности – любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное – и брюзжат, словно это для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а теперь разве жизнь! А некоторые старики жалуются на родственников, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед. А по мне, Сократ, они напрасно ее винят: если бы она была причиной, то и я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так; например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос:
«Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?» – «Что ты такое говоришь, право, – отвечал тот. – Да я с величайшей радостью избавился от этого, как убегает раб от необузданного и лютого господина».
Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникают полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей; ослабевает и прекращается власть влечений, и во всех отношениях возникает такое самочувствие, как у Софокла, то есть чувство избавления от многих неистовствующих владык. А [огорчения] по поводу этого, как и домашние неприятности, имеют одну причину, Сократ, – не старость, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был добродушен, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывает в тягость.
В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал:
– Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой, они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость.
– Ты прав, – сказал Кефал, – они не согласятся и попытаются возражать. Но их доводы не так уже весомы, а вот хорош ответ Фемистокла одному серифийцу, который поносил его, утверждая, что своей славой Фемистокл обязан не самому себе, а своему городу: «Правда, я не стал бы знаменит, будь я серифийцем, зато и тебе не прославиться, будь ты хоть афинянином». Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость: да, и человеку кроткого нрава, но бедному легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, старость всегда будет тягостна.
– А то, чем ты владеешь, Кефал, – спросил я, – ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?
– Куда уж мне приобрести, Сократ! Как делец, я где-то посередине между моим дедом и моим отцом. Мой дед – его звали так же, как и меня, – получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние, а мой отец Лисаний довел его до меньших размеров, чем теперь у меня. Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось.
– Я потому спросил, – сказал я, – что не замечаю в тебе особой привязанности к имуществу: это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние. А кто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы – своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам – не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно: ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства.
– Ты прав.
Постановка вопроса о справедливости
– Конечно, а скажи мне еще следующее: в чем состоит наибольшее благо от обладания значительным состоянием?
– Пожалуй, – сказал Кефал, – большинство не поверит моим словам. Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь приходит мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказания, передаваемые об Аиде, – а именно, что там придется подвергнуться наказанию тому, кто здесь поступал несправедливо, – он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что, если это правда? Да и сам он – от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру, – как-то больше прозревает.
И вот его уже одолевают сомнения и опасения, он прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем. Кто находит в своей жизни много несправедливых поступков, тот, подобно детям, внезапно разбуженным от сна, пугается и в дальнейшем ожидает лишь плохого. А кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая «кормилица старости», как говорится и у Пиндара. Превосходно он это сказал, Сократ, что, кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому
Сладостная, сердце лелеющая сопутствует надежда,
Кормилица старости;
Переменчивыми помыслами смертных
Она всего более правит.
Хорошо он это говорит, удивительно сильно. К этому я добавлю, что обладать состоянием – это, конечно, очень хорошо, но не для всякого, а лишь для порядочного человека. Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого-нибудь, соврал кому-нибудь или же что ты остался должен богу какое-либо жертвоприношение либо человеку – деньги, – во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. И для многого другого нужно богатство, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство не последнее дело и очень ему пригодится.
– Прекрасно сказано, Кефал, но вот что касается этой самой справедливости: считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и несправедливым? Я приведу такой пример: если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует и несправедлив тот, кто отдал бы оружие такому человеку или вознамерился бы сказать ему всю правду.
– Это верно.
– Стало быть, не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял.
– Нет, именно это, Сократ, – возразил Полемарх, – если хоть сколько-нибудь верить Симониду.
– Однако, – сказал Кефал, – я препоручаю вам беседу, а мне уже пора заняться священнодействиями.
– Значит, – сказал я, – Полемарх будет твоим наследником?
– Разумеется, – отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды.
Справедливость как воздаяние должного каждому человеку
– Так скажи же ты, наследник Кефала в нашей беседе, – обратился я к Полемарху, – какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?
– Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне по крайней мере кажется, что это он прекрасно сказал.
– Конечно, нелегкое дело не верить Симониду – это такой мудрый и божественный человек! Смысл его слов тебе, Полемарх, вероятно, понятен, а я вот не могу его постичь. Ясно, что у Симонида говорится не о том, о чем мы только что вспомнили, а именно, будто все, что бы нам ни дали во временное пользование, надо отдавать по требованию владельца, даже когда тот и не в здравом уме, хотя, конечно, он-то и одолжил нам то, чем мы пользовались. Не так ли?
– Да.
– Но ведь ни в коем случае не надо давать, когда этого требует человек не в здравом уме?
– Правда.
– Значит, у Симонида, по-видимому, какой-то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное.
– Конечно, другой, клянусь Зевсом. Он считает, что долг друзей делать только хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла.
– Понимаю, – сказал я. – Когда кто возвращает деньги, он отдает не то, что до́лжно, если и отдача и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?
– Конечно, об этом.
– Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?
– Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом.
– Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость, вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, и это он назвал должным.
– А, по-твоему, как?
– Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его: «Симонид, что (разумеется, из надлежащего и подходящего) чему должно назначать врачебное искусство, чтобы считаться истинным?» Как бы он, по-твоему, нам ответил?
– Ясно, что лекарства, пищу, питье – телу.
– А что чему надо придать (надлежащее и подходящее), чтобы выказать поварское искусство?
– Приятный вкус – блюдам.
– Прекрасно. А что кому надо воздать, чтобы такое искусство заслужило название справедливости?
– Если следовать тому, Сократ, что было сказано ранее, то это будет искусство приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред.
– Значит, творить добро друзьям и зло врагам – это Симонид считает справедливостью?
– По-моему, да.
– А что касается болезней и здорового состояния, кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло – своим врагам?
– Врач.
– А мореплавателям среди опасностей мореходства?
– Кормчий.
– Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он более всего способен принести пользу друзьям и повредить врагам?
– На войне, помогая сражаться, мне кажется.
– Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен.
– Правда.
– А кто не находится в плавании на корабле, тому не нужен кормчий.
– Да.
– Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?
– Это, по-моему, сомнительно.
– Так справедливость нужна и в мирное время?
– Нужна.
– А земледелие тоже? Или нет?
– Да, тоже.
– Чтобы собрать урожай?
– Да.
– И разумеется, нужно также сапожное дело?
– Да.
– Чтобы снабжать нас обувью, полагаю, скажешь ты.
– Конечно.
– Так что же? Для какой надобности и для приобретения чего, по-твоему, нужна в мирное время справедливость?
– Она нужна в делах, Сократ.
– Под делами ты понимаешь совместное участие в чем-нибудь или нет?
– Именно совместное участие.
– Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?
– Тот, кто умеет играть.
– А при кладке кирпича или камня справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель?
– Никоим образом.
– Но в каких делах участие справедливого человека предпочтительнее участия строителя или, скажем, кифариста, ведь ясно, что в игре на кифаре кифарист предпочтительнее?
– В денежных делах, как мне кажется.
– За исключением, может быть, расходования денег, Полемарх. Ведь когда понадобится сообща купить или продать коня, тогда, думается мне, полезнее будет искусный наездник.
– Видимо.
– А при приобретении судна – кораблестроитель или кормчий.
– Естественно.
– Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был полезнее других?
– Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение.
– То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?
– Конечно.
– Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость?
– Похоже, что это так.
– И чтобы хранить садовый нож, полезна справедливость общественная и частная, для пользования же им требуется умение виноградаря?
– Видимо, так.
– Пожалуй, ты скажешь, что, когда нужно хранить щит и лиру и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна, а когда нужно пользоваться, тогда полезно умение воина и музыканта.
– Непременно скажу.
– И во всем остальном так: справедливость при пользовании чем-нибудь не полезна, а при непользовании полезна?
– Видимо, так.
– Стало быть, друг мой, справедливость – это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что: кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?
– Конечно.
– А кто способен уберечься от болезни, тот еще гораздо более способен незаметно довести до болезненного состояния другого?
– Мне кажется, так.
– И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?
– Конечно.
– Значит, тот горазд беречь, кто способен и воровать.
– По-видимому.
– Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.
– По крайней мере к этому приводит наше рассуждение.
– Значит, справедливый человек оказывается каким-то вором. Это ты, должно быть, усвоил из Гомера: он высоко ставит Автолика, деда Одиссея по матери, и говорит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью и заклинаниями. Так что, и по-твоему, и по Гомеру, и по Симониду, справедливость – это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?
– Нет, клянусь Зевсом. Впрочем, я уж и не знаю, что говорил. Однако вот на чем я все еще настаиваю: приносить пользу друзьям и вредить врагам – это и будет справедливость.
– А кто, по-твоему, друзья: те ли, кто кажутся хорошими людьми, или же только те, кто на самом деле таковы, хотя бы такими и не казались? То же и насчет врагов.
– Естественно дружить с тем, кого считаешь хорошим, и ненавидеть плохих людей.
– Но разве люди не ошибаются в этом? Многие кажутся им хорошими, хотя на деле не таковы, и наоборот.
– Да, ошибаются.
– Значит, хорошие люди им враги, а негодные – друзья?
– Это бывает.
– Но тогда будет справедливым приносить пользу плохим людям, а хорошим вредить?
– Оказывается, что так.
– А между тем хорошие люди справедливы, они не способны на несправедливые поступки.
– Это правда.
– По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости.
– Ничего подобного, Сократ! Такой вывод, конечно, никуда не годится.
– Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям.
– Этот вывод явно лучше.
– Значит, Полемарх, с теми из людей, кто ошибается, часто бывает, что они считают справедливым вредить своим друзьям – они их принимают за плохих людей – и приносить пользу своим врагам как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида.
– Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.
– А как именно мы установили, Полемарх?
– Будто, кто кажется хорошим, тот нам и друг.
– А теперь какую же мы внесем поправку?
– Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на самом деле хороший человек. А кто только кажется, а на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов.
– Согласно этому рассуждению, хороший человек будет нам другом, а плохой – врагом.
– Да.
– А как, по-твоему, прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло – врагу, если он человек негодный?
– Конечно. Это, по-моему, прекрасное определение.
– Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред некоторым людям?
– Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам.
– А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже?
– Хуже.
– В смысле достоинств собак или коней?
– Коней.
– И собаки, если им нанести вред, теряют достоинства собак, но не коней?
– Обязательно.
– А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и они, если им нанесен вред, теряют свои человеческие достоинства?
– Конечно.
– Но справедливость разве не достоинство человека?
– Это уж непременно.
– И те из людей, друг мой, кому нанесен вред, обязательно становятся несправедливыми?
– По-видимому.
– А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого-либо немузыкальным?
– Это невозможно.
– А наездники посредством езды отучить ездить?
– Так не бывает.
– А справедливые люди посредством справедливости сделать кого-либо несправедливым? Или вообще: могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств сделать других негодными?
– Но это невозможно!
– Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно.
– Да.
– И увлажнять – свойство не сухости, а противоположного.
– Конечно.
– И вредить – свойство не хорошего человека, а наоборот.
– Очевидно.
– А справедливый – это хороший человек?
– Конечно.
– Значит, Полемарх, не дело справедливого человека вредить – ни другу, ни кому-либо иному; это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
– По-моему, Сократ, ты совершенно прав.
– Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное – справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить.
– Я согласен с этим, – отвечал Полемарх.
– Стало быть, – сказал я, – мы с тобой сообща пойдем войной на тех, кто станет утверждать, что это было сказано Симонидом, или Биантом, или Питтаком, или кем-нибудь другим из мудрых и славных людей.
– Я готов, – сказал Полемарх, – принять участие в такой битве.
– А знаешь, – сказал я, – чье это, по-моему, изречение, утверждающее, что справедливость состоит в том, чтобы приносить пользу друзьям и причинять вред врагам?
– Чье? – спросил Полемарх.
– Я думаю, оно принадлежит Периандру или Пердикке, а может быть, Ксерксу, или фиванцу Исмению, или кому другому из богачей, воображающих себя могущественными людьми.
– Ты совершенно прав.
– Прекрасно. Но раз выяснилось, что справедливость, то есть [самое понятие] справедливого, состоит не в этом, то какое же другое определение можно было бы предложить?
Фрасимах во время нашей беседы неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом – так им хотелось выслушать нас до конца. Однако чуть только мы приостановились, когда я задал свой вопрос, Фрасимах уже не мог более стерпеть: весь напрягшись, как дикий зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать.
Мы с Полемархом шарахнулись в испуге, а он прямо-таки закричал:
– Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки? Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись тем, что можешь опровергнуть любой ответ. Тебе ведь известно, что легче спрашивать, чем отвечать, нет, ты сам отвечай и скажи, что ты считаешь справедливым. Да не вздумай мне говорить, что это – должное или что это – полезное, или целесообразное, или прибыльное, или пригодное; что бы ты ни говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор.
Ошеломленный словами Фрасимаха, я взглянул на него с испугом, и мне кажется, что, не взгляни я на него прежде, чем он на меня, я бы прямо онемел; теперь же, когда наша беседа привела его в ярость, я взглянул первым, так что оказался в состоянии отвечать ему и с трепетом сказал:
– Фрасимах, не сердись на нас. Если мы – я и вот он – и погрешили в рассмотрении этих доводов, то, смею тебя уверить, погрешили невольно. Неужели ты думаешь, что если бы мы, к примеру, искали золото, то мы стали бы друг другу поддаваться, так что это помешало бы нам его найти? Между тем мы разыскиваем справедливость – предмет драгоценнее всякого золота, ужели же мы так бессмысленно уступаем друг другу и не прилагаем всяческих стараний, чтобы его отыскать? Ты только подумай, мой друг! Нет, это, по-моему, просто оказалось выше наших сил, так что вам, кому это под силу, гораздо приличнее пожалеть нас, чем сердиться.
Услышав это, Фрасимах усмехнулся весьма сардонически и сказал:
– О Геракл! Вот она, обычная ирония Сократа! Я уж и здесь всем заранее говорил, что ты не пожелаешь отвечать, прикинешься простачком и станешь делать все что угодно, только бы увернуться от ответа, если кто тебя спросит.
– Ты мудр, Фрасимах, – сказал я, – и прекрасно знаешь, что если ты спросишь, из каких чисел состоит двенадцать, но, задавая свой вопрос, заранее предупредишь: «Только ты мне не вздумай говорить, братец, что двенадцать – это дважды шесть, или трижды четыре, или шестью два, или четырежды три, иначе я и слушать не стану, если ты будешь молоть такой вздор», то тебе будет заранее ясно, думаю я, что никто не ответит на такой твой вопрос. Но если тебе скажут: «Как же так, Фрасимах? В моих ответах не должно быть ничего из того, о чем ты предупредил? А если выходит именно так, чудак ты, я все-таки должен говорить вопреки истине? Или как ты считаешь?» Что ты на это скажешь?
– Хватит, – сказал Фрасимах, – ты опять за прежнее.
– А почему бы нет? – сказал я. – Прежнее или не прежнее, но так может подумать тот, кому ты задал свой вопрос. А считаешь ли ты, что человек станет отвечать вопреки своим взглядам, все равно, существует ли запрет или его нет?
– Значит, и ты так поступишь: в твоем ответе будет как раз что-нибудь из того, что я запретил?
– Я не удивлюсь, если у меня при рассмотрении так и получится.
– А что, если я укажу тебе на другой ответ насчет справедливости, совсем не такой, как все эти ответы, а куда лучше? Какое ты себе тогда назначишь наказание?
– Какое же другое, как не то, которому должен подвергнуться невежда! А должен он будет поучиться у человека сведущего. Вот этого наказания я и заслуживаю.
– Сладко ты поешь! Нет, ты внеси-ка денежки за обучение.
– Само собой, когда они у меня появятся.
– Деньги есть! – воскликнул Главкон. – За этим дело не станет, Фрасимах, ты только продолжай – все мы внесем за Сократа.
– Чтобы, как я полагаю, Сократ мог поступать, как привык: не отвечать самому, а придираться к чужим доводам и их опровергать?
– Но как же отвечать, многоуважаемый Фрасимах, – сказал я, – если, во-первых, и ничего не знаешь и не притязаешь на знание, а затем если и имеешь кое-какие соображения по этому поводу, так на них наложен запрет, да еще со стороны человека незаурядного, так что вообще нельзя сказать ничего из того, что думаешь? Скорее тебе следует говорить: ведь ты утверждаешь, что обладаешь знанием и тебе есть что сказать. Так не раздумывай, будь так любезен, отвечай мне и не откажи наставить уму-разуму Главкона да и всех остальных.
Вслед за мной и Главкон и все остальные стали просить его не отказываться. У Фрасимаха явно было горячее желание говорить, чтобы блеснуть: он считал, что имеет наготове великолепный ответ, но все же делал вид, будто настаивает на том, чтобы отвечал я. Наконец он уступил и затем прибавил:
– Вот она, мудрость Сократа: сам не желает никого наставлять, а ходит повсюду, всему учится у других и даже не отплачивает им за это благодарностью.
– Что я учусь у других, это ты правду сказал, Фрасимах, но что я, по-твоему, не плачу благодарностью, это – ложь. Я ведь плачу как могу. А могу я платить только похвалой – денег у меня нет. С какой охотой я это делаю, когда кто-нибудь, по моему мнению, хорошо говорит, ты сразу убедишься, чуть только примешься мне отвечать: я уверен, что ты будешь говорить хорошо.
О справедливости как выгоде сильнейшего
– Так слушай же. Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно сильнейшему. Ну что же ты не похвалишь? Или нет у тебя желания?
– Сперва я должен понять, что ты говоришь. Пока еще я не знаю. Ты утверждаешь, что пригодное сильнейшему – это и есть справедливое. Если Полидамант у нас всех сильнее в борьбе и в кулачном бою и для здоровья его тела пригодна говядина, то будет полезно и вместе с тем справедливо назначить такое же питание и нам, хотя мы и слабее его?
– Отвратительно это с твоей стороны, Сократ, – придавать моей речи такой гадкий смысл.
– Ничуть, благороднейший Фрасимах, но поясни свои слова.
– Разве ты не знаешь, что в одних государствах строй тиранический, в других – демократический, в третьих – аристократический?
– Как же не знать?
– И что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти?
– Конечно.
– Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия – демократические законы; тирания – тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных – это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего.
– Теперь я понял, что́ ты говоришь. Попытаюсь же понять, верно это или нет. В своем ответе ты назвал пригодное справедливым, хотя мне-то ты запретил отвечать так. У тебя только прибавлено: «для сильнейшего».
– Ничтожная, вероятно, прибавка!
– Еще неясно, может быть, она и значительна. Но ясно, что надо рассмотреть, прав ли ты. Ведь я тоже согласен, что справедливость есть нечто пригодное. Но ты добавляешь «для сильнейшего», а я этого не знаю, так что это нужно еще подвергнуть рассмотрению.
– Рассматривай же.
– Я так и сделаю. Скажи-ка мне, не считаешь ли ты справедливым повиноваться властям?
– Считаю.
– А власти в том или ином государстве непогрешимы или способны и ошибаться?
– Разумеется, способны и ошибаться.
– Следовательно, принимаясь за установление законов, они одни законы установят правильно, а другие неправильно?
– Я тоже так думаю, – сказал Фрасимах.
– Правильные установления – властям на пользу, а неправильные – во вред. Или как по-твоему?
– Да, так.
– Что́ бы они ни установили, подвластные должны это выполнять, и это-то и будет справедливым?
– Как же иначе?
– Значит, справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное.
– Что это такое ты говоришь?
– То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай рассмотрим получше: разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей, а между тем со стороны подвластных будет справедливым выполнять любые предписания властей? Разве мы это не признали?
– Да, я думаю, что признали.
– Так подумай и о том, что ты ведь признал справедливым выполнять также и то, что идет во вред властям и вообще тем, кто сильнее: когда власти неумышленно предписывают что-нибудь самим себе во вред, ты все-таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписания. В этом случае, премудрый Фрасимах, разве дело не обернется непременно таким образом, что справедливым будет выполнять как раз противоположное тому, что ты говоришь? Ведь здесь слабейшим предписывается выполнять то, что вредно сильнейшему.
– Да, клянусь Зевсом, Сократ, – воскликнул Полемарх, – это совершенно ясно!
– Особенно, если ты́ засвидетельствуешь это Сократу, – вступил в беседу Клитофонт.
– При чем тут свидетели? Ведь сам Фрасимах признал, что власти иной раз дают предписания во вред самим себе, между тем для подвластных считается справедливым эти предписания выполнять.
– Выполнять приказы властей, Полемарх, – вот что считал Фрасимах справедливым.
– Да ведь он считал, Клитофонт, справедливым то, что пригодно сильнейшему. Установив эти два положения, он также согласился, что власть имущие иной раз приказывают то, что им самим идет во вред, однако слабейшие и подвластные все-таки должны это выполнять. Из этого допущения вытекает, что пригодное для сильнейшего нисколько не более справедливо, чем непригодное.
– Но под пригодным сильнейшему Фрасимах понимал то, что сам сильнейший считает для себя пригодным, – возразил Клитофонт. – Это-то и должен выполнять слабейший – вот что он признал справедливым.
– Нет, Фрасимах не так говорил, – сказал Полемарх.
– Не все ли равно, Полемарх, – заметил я, – если теперь Фрасимах говорит так, то мы так и будем его понимать. Скажи-ка мне, Фрасимах, хотел ли ты сказать, что справедливо все, что кажется сильнейшему пригодным для него самого, независимо от того, пригодно ли оно на самом деле или нет? Так ли нам понимать то, что ты говоришь?
– Вовсе не так. Неужели ты думаешь, что я считаю сильнейшим того, кто ошибается, и как раз тогда, когда он ошибается?
– Я по крайней мере думал, что таков смысл твоих слов, раз ты согласился, что власти небезгрешны, но, напротив, кое в чем и ошибаются.
– И крючкотвор же ты, Сократ, в твоих рассуждениях! Того, например, кто ошибочно лечит больных, назовешь ли ты врачом за эти его ошибки? Или мастером счета того, кто ошибается в счете именно тогда, когда он ошибается, и именно за эту его ошибку? Думаю, мы только в просторечье так выражаемся: «ошибся врач», «ошибся мастер счета» или «учитель грамматики». Я же полагаю, что если он действительно тот, кем мы его называем, то он никогда не совершает ошибок. По точному смыслу слова, раз уж ты так любишь точность, никто из мастеров своего дела в этом деле не ошибается. Ведь ошибаются от нехватки знания, то есть от недостатка мастерства. Так что, будь он художник, или мудрец, или правитель, никто не ошибается, когда владеет своим мастерством, хотя часто и говорят: «врач ошибся», «правитель ошибся». В этом смысле ты и понимай мой ответ. Вот он с полнейшей точностью: правитель, поскольку он действительно настоящий правитель, ошибок не совершает, он безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это должны выполнять те, кто ему подвластен. Так что, как я и говорил с самого начала, я называю справедливостью выполнение того, что пригодно сильнейшему.
– Вот как, Фрасимах, по-твоему, я крючкотвор?
– И даже очень.
– Ты считаешь, что в моих рассуждениях я со злым умыслом задавал свои вопросы?
– Я в этом уверен. Только ничего у тебя не выйдет: от меня тебе не скрыть своей злонамеренности, а раз тебе ее не скрыть, то и не удастся тебе пересилить меня в нашей беседе.
– Да я не стал бы и пытаться, дорогой мой. Но чтобы у нас не получилось чего-нибудь опять в этом роде, определи, в обычном ли понимании или в точном смысле употребляешь ты слова «правитель» и «сильнейший», когда говоришь, что будет справедливым, чтобы слабейший творил пригодное сильнейшему.
– Я имею в виду правителя в самом точном смысле этого слова. Искажай теперь злостно и клевещи, сколько можешь, – я тебе не уступлю. Впрочем, тебе с этим не справиться.
– По-твоему, я до того безумен, что решусь стричь льва и клеветать на Фрасимаха?
– Однако ты только что пытался, хотя тебе это и не под силу.
– Довольно об этом. Скажи-ка мне лучше: вот тот, о котором ты недавно говорил, что он в точном смысле слова врач, – думает ли он только о деньгах или он печется о больных? Конечно, речь идет о настоящем враче.
– Он печется о больных.
– А кормчий? Подлинный кормчий – это начальник над гребцами или и сам он гребец?
– Начальник над гребцами.
– Ведь нельзя, я думаю, принимать в расчет только то, что он тоже плывет на корабле, – гребцом его не назовешь. Его называют кормчим не потому, что он на корабле, а за его умение и потому, что он начальствует над гребцами.
– Это верно.
– Стало быть, каждый из них, то есть и врач и кормчий, обладает какими-нибудь полезными сведениями?
– Конечно.
– Не для того ли вообще и существует искусство, чтобы отыскивать и изобретать, что́ кому пригодно?
– Да, для этого.
– А для любого искусства пригодно ли что-нибудь иное, кроме своего собственного наивысшего совершенства?
– Что ты имеешь в виду?
– Вот что: если бы меня спросили, довлеет ли наше тело само себе или же оно нуждается еще в чем-нибудь, я бы ответил: «Непременно нуждается. Потому-то и найдены теперь способы врачевания, что тело у нас несовершенно, а раз оно таково, оно само себе не довлеет. Для придачи телу того, что ему пригодно, и потребовалось искусство». Как, по-твоему, верно я говорю или нет?
– Верно.
– Так что же? Разве несовершенно само искусство врачевания? Нужно ли вообще дополнять то или иное искусство еще каким-нибудь положительным качеством, как глаза – зрением, а уши – слухом? То есть нужно ли к любому искусству добавлять еще какое-нибудь другое искусство, которое решало бы, что пригодно для первого и чем его надо восполнить? Разве в самом искусстве скрыто какое-то несовершенство и любое искусство нуждается еще в другом искусстве, которое обсуждало бы, что полезно тому, первому? А для этого обсуждающего искусства необходимо в свою очередь еще другое подобного же рода искусство и так до бесконечности? Или же всякое искусство само по себе решает, что для него пригодно? Или же для обсуждения того, что исправит его недостатки, ему не требуется ни самого себя, ни другого искусства? Ведь у искусства не бывает никакого несовершенства или погрешности и ему не годится изыскивать пригодное за пределами себя самого. Раз оно правильно, в нем нет ущерба и искажений, пока оно сохраняет свою безупречность и целостность. Рассмотри это в точном, установленном тобой смысле слова – так это будет или по-другому?
– Видимо, так.
– Значит, врачевание рассматривает не то, что пригодно врачеванию, а то, что пригодно телу.
– Да.
– И верховая езда – то, что пригодно не для езды, а для коней. И любое другое искусство – не то, что ему самому пригодно (в этом ведь оно не нуждается), а то, что пригодно его предмету.
– Видимо, так.
– Но ведь всякое искусство, Фрасимах, это власть и сила в той области, где оно применяется.
Фрасимах согласился с этим, хотя и крайне неохотно.
– Следовательно, любое искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабейшему, которым оно и руководит.
В конце концов Фрасимах согласился с этим, хотя и пытался сопротивляться, и, когда он согласился, я сказал:
– Значит, врач – поскольку он врач – вовсе не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно врачу, а только лишь то, что пригодно больному. Ведь мы согласились, что в точном смысле этого слова врач не стяжатель денег, а управитель телами. Или мы в этом не согласились?
Фрасимах ответил утвердительно.
– Следовательно, и кормчий в подлинном смысле слова – это управитель гребцов, но не гребец?
Фрасимах согласился.
– Значит, такой кормчий, он же и управитель, будет иметь в виду и предписывать не то, что пригодно кормчему, а то, что полезно гребцу, то есть тому, кто его слушает.
Фрасимах с трудом подтвердил это.
– Следовательно, Фрасимах, и всякий, кто чем-либо управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и не предписывает того, что́ пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит. Что бы он ни говорил и что бы ни делал, всегда он смотрит, что пригодно подчиненному и что тому подходит.
Когда мы пришли к этому в нашем споре и всем присутствующим стало ясно, что прежнее объяснение справедливости обратилось в свою противоположность, Фрасимах, вместо того чтобы отвечать, вдруг спросил:
– Скажи-ка мне, Сократ, у тебя есть нянька?
– Что такое? – сказал я. – Ты бы лучше отвечал, чем задавать такие вопросы.
– Да пусть твоя нянька не забывает утирать тебе нос, ты ведь у нее не отличаешь овец от пастуха.
– С чего ты это взял? – сказал я.
– Потому что ты думаешь, будто пастухи либо волопасы заботятся о благе овец или волов, когда откармливают их и холят, и что делают они это с какой-то иной целью, а не ради блага владельцев и своего собственного. Ты полагаешь, будто и в государствах правители – те, которые по-настоящему правят, – относятся к своим подданным как-то иначе, чем пастухи к овцам, и будто они днем и ночью только и думают о чем-то ином, а не о том, откуда бы извлечь для себя пользу. «Справедливое», «справедливость», «несправедливое», «несправедливость» – ты так далек от всего этого, что даже не знаешь: справедливость и справедливое – в сущности, это чужое благо, это нечто, устраивающее сильнейшего, правителя, а для подневольного исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость – наоборот: она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и справедливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно правителю, так как в его руках сила. Вследствие их исполнительности он благоденствует, а сами они – ничуть.
Надо обратить внимание, Сократ, величайший ты простак, на то, что справедливый человек везде проигрывает сравнительно с несправедливым. Прежде всего во взаимных обязательствах между людьми: когда тот и другой ведут какое-нибудь общее дело, ты нигде не найдешь, чтобы при окончательном расчете справедливый человек получил больше, чем несправедливый, наоборот, он всегда получает меньше. Затем во взаимоотношениях с государством, когда надо делать какие-нибудь взносы: при равном имущественном положении справедливый вносит больше, а несправедливый меньше, и, когда надо получать, справедливому не достается ничего, а несправедливый много выгадывает. Да и когда они занимают какую-нибудь государственную должность, то у справедливого, даже если ему не придется понести какого-нибудь иного ущерба, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может уделять им достаточно внимания, из общественных же дел он не извлекает никакой пользы именно потому, что он человек справедливый. Вдобавок он вызывает недовольство своих родственников и знакомых тем, что не хочет покровительствовать им, если это противоречит справедливости. А у человека несправедливого все это обстоит как раз наоборот.
Я повторяю то, что недавно говорил: обладание властью дает большие преимущества. Это ты и должен учитывать, если хочешь судить, насколько всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым. Всего проще тебе будет это понять, если ты возьмешь несправедливость в ее наиболее завершенном виде, когда благоденствует как раз тот, кто нарушил справедливость, и в высшей степени жалок тот, кто на себе испытал несправедливость и все же не решился пойти против справедливости. Такова тирания: она то исподтишка, то насильственно захватывает то, что ей не принадлежит, – храмовое и государственное имущество, личное и общественное, – и не постепенно, а единым махом. Частичное нарушение справедливости, когда его обнаружат, наказывается и покрывается величайшим позором. Такие частичные нарушители называются, смотря по виду своих злодеяний, то святотатцами, то похитителями рабов, то взломщиками, то грабителями, то ворами. Если же кто мало того что лишит граждан имущества, еще и самих их поработит, обратив в невольников, его вместо этих позорных наименований называют преуспевающим и благоденствующим, и не только его соотечественники, но и чужеземцы, именно потому, что знают: такой человек сполна осуществил несправедливость. Ведь те, кто порицает несправедливость, не порицают совершение несправедливых поступков, они просто боятся за себя, как бы им самим не пострадать. Так-то вот, Сократ: достаточно полная несправедливость сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и властности, а справедливость, как я с самого начала и говорил, – это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе.
Сказав это, Фрасимах намеревался было уйти – потоком своего многословия он, словно банщик, окатил нас и залил нам уши, однако присутствующие не пустили его и заставили остаться, чтобы он привел доводы в подтверждение своих слов. Да я и сам очень нуждался в этом и потому сказал:
– Удивительный ты человек, Фрасимах. Набрасываешься на нас с такой речью и вдруг собираешься уйти, между тем ты и нас не наставил в достаточной мере, да и сам не разобрался, так ли обстоит дело либо по-другому. Или, по-твоему, это мелочь – попытаться определить такой предмет? Разве это не было бы руководством в жизни, следуя которому каждый из нас стал бы жить с наибольшей для себя выгодой?
– Я думаю, – сказал Фрасимах, – что это-то обстоит иначе.
– По-видимому, – сказал я, – тебе нет никакого дела до нас, тебе все равно, станем ли мы жить хуже или лучше, оставаясь в неведении относительно того, что́ ты, по твоим словам, знаешь. Но, дорогой мой, дай себе труд открыть это и нам. Нас здесь собралось так много, что, если ты нас облагодетельствуешь, это будет неплохим для тебя вкладом. Что касается моего мнения, то я говорю тебе, что я все-таки не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости, даже когда несправедливости предоставлена полная свобода действия. Допустим, дорогой мой, что кто-нибудь несправедлив, допустим, что он может совершать несправедливые поступки либо тайно, либо в открытом бою, все же это меня не убеждает, будто несправедливость выгоднее справедливости. Возможно, что и кто-нибудь другой из нас, а не только я вынес такое же впечатление. Так убеди же нас как следует, уважаемый Фрасимах, что мы думаем неправильно, когда ставим справедливость значительно выше несправедливости.
– Как же тебя убедить? – сказал Фрасимах. – Раз тебя не убедило то, что я сейчас говорил, как же мне еще с тобой быть? Не впихнуть же мои взгляды в твою душу!
– Ради Зевса, только не это! Прежде всего ты держись тех же взглядов, которые уже высказал, а если они у тебя изменились, скажи об этом открыто и не обманывай нас. Ты видишь теперь, Фрасимах (давай-ка еще раз рассмотрим прежнее): дав сперва определение подлинного врача, ты не подумал, что ту же точность надо потом сохранить, говоря и о подлинном пастухе. Ты думаешь, что он пасет овец, поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а так, словно какой-то нахлебник, собирающийся хорошенько угоститься за столом; или, что касается доходов, так, словно он стяжатель, а не пастух. Между тем для этого искусства важно, конечно, чтобы оно отвечало не чему-нибудь иному, а своему прямому назначению, и притом наилучшим образом, тогда овцы и будут в наилучшем состоянии; такое искусство будет достаточным для этой цели, пока в нем нет никаких недочетов. Потому-то, думал я, мы теперь непременно согласимся, что всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем – в общественном и в частном порядке. И неужели ты думаешь, будто те, кто правит государствами, – подлинные правители – правят по доброй воле?
– Клянусь Зевсом, не только думаю, но знаю наверняка.
– Правда, Фрасимах? Разве ты не замечаешь, что никто из других правителей не желает править добровольно, но все требуют вознаграждения, потому что от их правления будет польза не им самим, а их подчиненным? Скажи-ка мне вот что: не потому ли мы отличаем одно искусство от другого, что каждое из них имеет свое назначение? Только не высказывай, дорогой мой, чего-нибудь неожиданно странного – иначе мы никогда не кончим.
– Да, мы отличаем их именно поэтому.
– Следовательно, каждое приносит нам какую-то особую пользу, а не пользу вообще: например, врачевание – здоровье, кораблевождение – безопасность во время плавания и так далее.
– Конечно.
– А искусство оплачивать труд касается вознаграждения, ведь для этого оно и предназначено. Или врачевание и кораблевождение для тебя одно и то же? Согласно твоему предложению, ты хочешь все точно определить; так вот, если кто-нибудь, занимаясь кораблевождением, поздоровеет, так как ему пойдет на пользу морское плавание, будешь ли ты склонен из-за этого назвать кораблевождение врачеванием?
– Конечно, нет.
– И я думаю, ты не назовешь это оплатой труда, если кто, работая по найму, поздоровеет?
– Конечно, нет.
– Так что же? И врачевание ты не назовешь искусством работать по найму, когда врачующий так работает?
– Не назову.
– Стало быть, мы с тобой согласны в том, что каждое искусство полезно по-своему?
– Пусть будет так.
– Значит, какую бы пользу ни извлекали сообща те или иные мастера, ясно, что они сообща участвуют в том деле, которое приносит им пользу.
– По-видимому.
– Мы говорим, что мастерам, получающим плату, полезно то, что они получают выгоду от искусства оплаты труда.
Фрасимах неохотно согласился.
– Значит, у каждого из них эта самая польза, то есть получение платы, проистекает не от их собственного искусства. Если рассмотреть это точнее, то врачевание ведет к здоровью, а способ оплаты – к вознаграждению; строительное искусство создает дом, а искусство найма сопровождает это вознаграждением. Так и во всем остальном: каждое искусство делает свое дело и приносит пользу соответственно своему назначению. Если же к этому искусству не присоединится оплата, будет ли от него польза мастеру?
– Видимо, нет.
– Значит, ему нет никакой пользы, когда он работает даром?
– Я так думаю.
– Следовательно, Фрасимах, теперь это уже ясно: никакое искусство и никакое правление не обеспечивает пользы для мастера, но, как мы тогда и говорили, оно обеспечивает и предписывает ее своему подчиненному, имея в виду то, что пригодно слабейшему, а не сильнейшему. Поэтому-то я и говорил не так давно, дорогой Фрасимах, что никто не захочет добровольно быть правителем и заниматься исправлением чужих пороков, но всякий, напротив, требует вознаграждения, потому что, кто намерен ладно применять свое искусство, тот никогда не действует и не повелевает ради собственного блага, но повелевает только ради высшего блага для своих подчиненных. Вот почему для приступающих к правлению должно существовать вознаграждение – деньги либо почет или же наказание для отказывающихся управлять.
– Как так, Сократ? – сказал Главкон. – Первые два вида вознаграждения я знаю, но ты и наказание отнес к своего рода вознаграждению: этого я уже не понимаю.
– Значит, ты не понимаешь вознаграждения самых лучших, благодаря которому и правят наиболее порядочные люди, в тех случаях, когда они соглашаются управлять. Разве ты не знаешь, что честолюбие и сребролюбие считаются позорными, да и на самом деле это так?
– Знаю.
– Так вот, хорошие люди потому и не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почета: они не хотят прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почет их не привлекает – ведь они не честолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое великое наказание – это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у власти: они приступают тогда к управлению не потому, что идут на что-то хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходимости, не имея возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше их или им равен.
Если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться от правления, как теперь оспаривают власть. Отсюда стало бы ясно, что, по существу, подлинный правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному, так что всякий понимающий это человек вместо того, чтобы хлопотать о пользе другого, предпочел бы, чтобы другие позаботились о его пользе. Я ни в коем случае не уступлю Фрасимаху, будто справедливость – это то, что пригодно сильнейшему. Но мы еще обсудим это потом.
Справедливость и несправедливость
Для меня сейчас гораздо важнее недавнее утверждение Фрасимаха, будто жизнь человека несправедливого лучше жизни человека справедливого. А ты, Главкон, что выбираешь? Какое из этих двух утверждений, по-твоему, более верно?
– По-моему, – сказал Главкон, – выгоднее жизнь человека справедливого.
– А ты слышал, сколько разных благ приписал Фрасимах жизни человека несправедливого?
– Слышал, да не верю.
– Так хочешь, мы его переубедим, если нам как-нибудь удастся обнаружить, что он не прав?
– Как не хотеть! – сказал Главкон.
– Однако если мы станем возражать ему, слово за словом перечисляя блага справедливости, а затем снова будет говорить он и опять мы, то понадобится вести счет указанным благам и измерять их, а чтобы решить, сколько их привел каждый из нас в каждом своем ответе, нам понадобятся судьи. Если же мы будем вести исследование, как мы делали это только что, когда сходились во мнениях, тогда мы одновременно будем и судьями, и защитниками.
– Конечно.
– Какой же из этих двух способов тебе нравится?
– Второй.
– Ну-ка, Фрасимах, – сказал я, – отвечай нам с самого начала. Ты утверждаешь, что совершенная несправедливость полезнее совершенной справедливости?
– Конечно, я это утверждаю, и уже сказал почему.
– Ну а как ты скажешь вот насчет чего: называешь ли ты одно из этих свойств добродетелью, а другое – порочностью?
– А почему бы нет?
– Значит, добродетелью ты назовешь справедливость, а порочностью – несправедливость?
– Не иначе, дражайший! И я говорю, что несправедливость целесообразна, а справедливость – нет!
– Ну и что же тогда получается?
– Да наоборот.
– Неужели, что справедливость порочна?
– Нет, но она – весьма благородная тупость (εύήυειαν).
– Но называешь ли ты несправедливость злоумышленностью (ϰαϰοήυειαν)?
– Нет, это здравомыслие.
– Разве несправедливые кажутся тебе разумными и хорошими?
– По крайней мере те, кто способен довести несправедливость до совершенства и в состоянии подчинить себе целые государства и народы. А ты, вероятно, думал, что я говорю о тех, кто отрезает кошельки? Впрочем, и это целесообразно, пока не будет обнаружено. Но о них не стоит упоминать; иное дело то, о чем я сейчас говорил.
– Мне прекрасно известно, что ты этим хочешь сказать, но меня удивляет, что несправедливость ты относишь к добродетели и мудрости, а справедливость – к противоположному.
– Конечно, именно так.
– Это уж слишком резко, мой друг, и не всякий найдется, что тебе сказать. Если бы ты утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом, подобно другим, признал бы ее порочной и позорной, мы нашлись бы, что́ сказать, согласно общепринятым взглядам. А теперь ясно, что ты станешь утверждать, будто несправедливость – прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости.
– Ты догадался в высшей степени верно.
– В таком случае не следует отступаться от подробного рассмотрения всего этого в нашей беседе, пока ты, насколько я замечаю, говоришь действительно то, что думаешь. Мне кажется, Фрасимах, ты сейчас нисколько не шутишь, а высказываешь то, что представляется тебе истинным.
– Не все ли тебе равно, представляется это мне таковым или нет? Ведь мое утверждение ты не опровергнешь.
– Оно, конечно, хоть и все равно, но попытайся вдобавок ответить еще на это: представляется ли тебе, что справедливый человек желал бы иметь какое-либо преимущество перед другим, тоже справедливым?
– Ничуть, иначе он не был бы таким вежливым и простоватым, как это теперь наблюдается.
– Ну а в делах справедливости?
– Даже и там нет.
– А притязал бы он на то, что ему следует обладать преимуществом сравнительно с человеком несправедливым и что это было бы справедливо? Или он не считал бы это справедливым?
– Считал бы и притязал бы, да только это ему не под силу.
– Но я не об этом спрашиваю, а о том, считает ли нужным и хочет ли справедливый иметь больше, чем несправедливый?
– Да, конечно, хочет.
– А несправедливый человек? Неужели он будет притязать на обладание преимуществом сравнительно со справедливым человеком также и в делах справедливости?
– А почему бы и нет? Ведь он притязает на то, чтобы иметь больше всех.
– Значит, несправедливый человек будет притязать на обладание преимуществом перед другим несправедливым человеком и его деятельностью и будет с ним бороться за то, чтобы захватить самому как можно больше?
– Да, это так.
– Значит, мы скажем следующим образом: справедливый человек хочет обладать преимуществом сравнительно не с подобным ему человеком, а с тем, кто на него не похож, между тем как несправедливый хочет им обладать сравнительно с обоими – и с тем, кто подобен ему, и с тем, кто на него не похож.
– Это ты сказал как нельзя лучше.
– А ведь несправедливый человек все же бывает разумным и значительным, а справедливый – ни тем ни другим.
– Это тоже хорошо сказано.
– Значит, несправедливый человек бывает похож на человека разумного и значительного, а справедливый, напротив, не похож?
– Как же человеку не быть похожим на себе подобных, раз он сам таков? А если он не таков, то и не похож.
– Прекрасно. Значит, каждый из них таков, как те, на кого он похож.
– А почему бы и нет?
– Пусть так. А скажи, Фрасимах, называешь ли ты одного человека знатоком музыки, а другого – нет?
– Конечно.
– Какой же из них разумен, а какой – нет?
– Знаток музыки, конечно, разумен, а другой – неразумен.
– И раз он разумен, значит, этот человек выдающийся, а кто неразумен – ничтожен?
– Да.
– Ну а врач? Не так же ли точно?
– Так же.
– А как, по-твоему, уважаемый Фрасимах, знаток музыки, настраивая лиру, этим натягиванием и отпусканием струн притязает ли на что-нибудь большее, чем быть знатоком?
– По-моему, нет.
– Ну а на что-то большее в сравнении с другим, не знатоком?
– Это уж непременно.
– А врач? Назначая ту или иную пищу и питье, притязает ли он этим на что-то большее, чем быть врачом и знать врачебное дело?
– Нет, нисколько.
– А притязает ли он на что-то большее, чем тот, кто не врач?
– Да.
– Примени же это к любой области знания и незнания. Считаешь ли ты, что знаток любого дела притязает на большее в своих действиях и высказываниях, чем другой знаток того же дела, или на то же самое в той же области, что и тот, кто ему подобен?
– Пожалуй, я должен согласиться с последним.
– А невежда? Разве он не притязал бы на большее одинаково в сравнении со знатоком и с другим невеждой?
– Возможно.
– А знаток ведь человек мудрый?
– Я полагаю.
– А мудрый человек обладает достоинствами?
– Полагаю.
– Значит, человек, обладающий достоинствами, и к тому же мудрый, не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож, то есть ему противоположен.
– По-видимому.
– Человек же низких свойств и невежда станет притязать на большее и сравнительно с ему подобным, и сравнительно с тем, кто ему противоположен.
– Очевидно.
– Стало быть, Фрасимах, несправедливый человек будет у нас притязать на большее сравнительно и с тем, кто на него не похож, и с тем, кто похож. Или ты не так говорил?
– Да, так.
– А справедливый человек не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож.
– Да.
– Следовательно, справедливый человек схож с человеком мудрым и достойным, а несправедливый – с человеком плохим и невеждой.
– Пожалуй, что так.
– Но ведь мы уже признали, что, кто на кого похож, тот и сам таков.
– Признали.
– Следовательно, у нас оказалось, что справедливый – это человек достойный и мудрый, а несправедливый – невежда и недостойный.
Хотя Фрасимах и согласился со всем этим, но далеко не с той легкостью, как я это вам сейчас передаю, а еле-еле, через силу. Попотел он при этом изрядно, тем более что дело происходило летом. Тут и узрел я впервые, что даже Фрасимах может покраснеть.
После того как мы оба признали, что справедливость – это добродетель и мудрость, а несправедливость – порочность и невежество, я сказал:
– Пусть так. Будем считать это у нас уже установленным. Но мы еще утверждали, что несправедливость могущественна. Или ты не помнишь, Фрасимах?
– Помню. Но я недоволен тем, что ты сейчас утверждаешь, и должен по этому поводу сказать кое-что. Впрочем, если я стану говорить, я уверен, ты назовешь это разглагольствованием. Так что либо предоставь мне говорить, что я хочу, либо, если тебе угодно спрашивать, спрашивай, а я тебе буду вторить, словно старухам, рассказывающим сказки, и то одобрительно, то отрицательно кивать головой.
– Только ни в коем случае не вопреки собственному мнению.
– Постараюсь, чтобы ты остался доволен мной, раз уж ты не даешь мне говорить. Чего ты от меня еще хочешь?
– Ничего, клянусь Зевсом. Если ты будешь так поступать – дело твое, я же тебе задам вопрос.
– Задавай.
– Я спрашиваю о том же, что и недавно, чтобы наше рассуждение шло по порядку, а именно: как относится справедливость к несправедливости? Ведь раньше было сказано, что несправедливость и могущественнее, и сильнее справедливости. Теперь же, раз справедливость – это мудрость и добродетель, легко, думаю я, обнаружится, что она и сильнее несправедливости, раз та не что иное, как невежество. Это уж всякий поймет.
Но я не хочу, Фрасимах, рассматривать это так плоско, а скорее вот в каком роде: признаёшь ли ты, что государство может быть несправедливым и может пытаться несправедливым образом поработить другие государства и держать их в порабощении, причем многие государства бывают порабощены им?
– А почему бы нет? Это в особенности может быть осуществлено самым превосходным из государств, наиболее совершенным в своей несправедливости.
– Я понимаю, что таково было твое утверждение. Но я вот как его рассматриваю: государство, становясь сильнее другого государства, приобретает свою мощь независимо от справедливости или же обязательно в сочетании с нею?
– Если, как ты недавно говорил, справедливость – это мудрость, тогда – в сочетании со справедливостью. Если же дело обстоит, как говорил я, то – с несправедливостью.
– Меня очень радует, Фрасимах, что ты не говоришь просто «да» или «нет», но отвечаешь мне, да еще так превосходно.
– Это я тебе в угоду.
– И хорошо делаешь. Угоди же мне еще вот чем: скажи, как, по-твоему, государство, или войско, или разбойники, или воры, или еще какой-либо народ, несправедливо приступающий сообща к какому-нибудь делу, может ли что-нибудь сделать, если эти люди будут несправедливо относиться друг к другу?
– Конечно, нет.
– А если не будут относиться несправедливо, тогда скорее да?
– Еще бы!
– Ведь несправедливость, Фрасимах, вызывает раздоры, ненависть, междоусобицы, а справедливость – единодушие и дружбу. Не так ли?
– Пусть будет так, чтобы не спорить с тобой.
– Это хорошо с твоей стороны, почтеннейший. Скажи-ка мне вот что: если несправедливости, где бы она ни была, свойственно внедрять ненависть повсюду, то, возникши в людях, все равно, свободные ли они или рабы, разве она не заставит их возненавидеть друг друга, не приведет к распрям, так что им станет невозможно действовать сообща?
– Конечно.
– Да хотя бы их было только двое, но раз уж она в них возникла, разве они не разойдутся во взглядах, не возненавидят, как враги, друг друга, да притом и людей справедливых?
– Да, они будут врагами.
– Если даже, Фрасимах, – удивительный ты человек! – несправедливость возникнет только у одного, разве потеряет она тогда свойственную ей силу? Или же, наоборот, она будет иметь ее нисколько не меньше?
– Пускай себе имеет ничуть не меньше.
– А силу она имеет, как видно, какую-то такую, что, где бы несправедливость ни возникла – в государстве ли, в племени, в войске или в чем-либо ином, – она прежде всего делает невозможным действия этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой, ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливому противнику. Разве не так?
– Конечно, так.
– Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он враг и самому себе, и людям справедливым. Не так ли?
– Да.
– Но ведь и боги справедливы, друг мой?
– Пусть так.
– Выходит, и богам, Фрасимах, несправедливый враждебен, а справедливый им – друг.
– Угощайся этим рассуждением сам, да смелее. Я тебе не стану перечить, чтобы не нажить врагов среди присутствующих.
– Ну так дополни это мое угощение еще и остальными ответами, подобно тому как ты это делал сейчас. Обнаружилось, что справедливые люди мудрее, лучше и способнее к действию, несправедливые же не способны действовать вместе. Хотя мы и говорим, что когда-то кое-что было совершено благодаря энергичным совместным действиям тех, кто несправедлив, однако в этом случае мы выражаемся не совсем верно. Ведь они не пощадили бы друг друга, будь они вполне несправедливы, стало быть, ясно, что было в них что-то и справедливое, мешавшее им обижать друг друга так, как тех, против кого они шли. Благодаря этому они и совершили то, что совершили. На несправедливое их подстрекала присущая им несправедливость, но были они лишь наполовину порочными, потому что люди совсем плохие и совершенно несправедливые совершенно не способны и действовать. Вот как я это понимаю, не так, как ты сперва утверждал.
Нам остается еще исследовать то, что мы вслед за тем решили подвергнуть рассмотрению, то есть лучше ли живется людям справедливым, чем несправедливым, и счастливее ли они. Хотя, по-моему, это уже и теперь видно из сказанного, все же надо рассмотреть это основательнее – ведь речь идет не о пустяках, а о том, каким образом надо жить.
– Так рассмотри же это.
– Я это и делаю. Ну, вот скажи мне, есть, по-твоему, у коня какое-нибудь назначение?
– По-моему, да.
– Не то ли ты считал бы назначением коня или чего угодно другого, что́ может быть выполнено только с его помощью или во всяком случае лучше всего с ней?
– Не понимаю.
– Да вот как: можешь ли ты видеть чем-нибудь иным, кроме глаз?
– Нет, конечно.
– Ну а слышать чем-нибудь иным, кроме ушей?
– Ни в коем случае.
– Так разве неправильно будет сказать, что эти вещи – их предназначение?
– Разумеется, правильно.
– Ну а ветви виноградной лозы можешь ты обрезать садовым и простым ножом и многими другими орудиями?
– Конечно.
– Но ничем не обрежешь их так хорошо, как особым серпом, который для того-то и сделан.
– Это правда.
– Так не считать ли нам это назначением серпа?
– Будем считать.
– Теперь, я думаю, ты лучше поймешь мой недавний вопрос: не будет ли назначением каждой вещи то, что кто-нибудь выполняет только с ее помощью или, лучше всего, пользуясь ею, нежели любой иной вещью?
– Понимаю. По-моему, это и будет назначением каждой вещи.
– Хорошо. А не находишь ли ты, что раз у каждой вещи есть свое назначение, то у нее должны быть и свои достоинства? Вернемся к нашим примерам: признаем ли мы, что глаза имеют свое назначение?