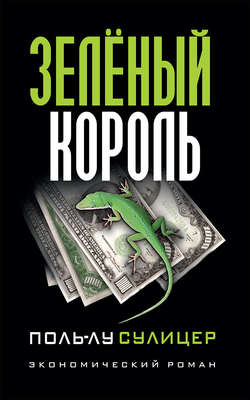Читать книгу Зелёный король - Поль-Лу Сулицер - Страница 4
Глава I
Фотограф из Зальцбурга
Оглавление1
Открыв глаза, Король увидел перед собой лицо военного в совершенно незнакомой форме. Точно не эсэсовской и не фольксштурмовской. О форме русских не могло быть и речи. Король видел русских, правда, только пленных или убитых оберштурмбаннфюрером Хохрайнером. Эсэсовец всегда выпускал пулю в затылок, и на 4 мая 1945 года его личный рекорд в уничтожении мужчин, женщин и детей составил двести восемьдесят три убитых человека. Реб, по утверждению эсэсовца, должен был стать его последней жертвой, несмотря на их «достаточно продолжительные нежные отношения».
Король пришел в сознание за несколько минут до того, как на краю могилы появился этот его военный спаситель. Из небытия он выплывал медленно, каждую секунду отмечая, что еще жив. Сознание возвращалось постепенно. Вначале он вспомнил лицо оберштурмбаннфюрера, целующего его взасос, перед тем как приставить к его виску дуло пистолета. Затем почувствовал лицом дуновение свежего воздуха. Он понял, что лежит в могиле, но голова его почти наверху, на ней тонкий слой земли и что он может выжить и выбраться. Но сразу же после этих мыслей его настигла боль.
Болели затылок, руки и плечи, живот – кожа в этих местах была сожжена негашеной известью. Его тело было в плену обнаженных трупов, и он смог пошевелить лишь левой рукой и слегка шеей. Поперек него, как бы прикрывая, лежал Заккариус, четырнадцатилетний литовец, которого эсэсовец взял в свой гарем в лагере Гроссрозен.
Пошевелив шеей, он освободился от слоя земли, а затем и от руки Заккариуса. И наконец увидел солнечный свет. Он не услышал шагов подошедшего к могиле военного, а увидел его уже в тот момент, когда стоящего спиной человека мучительно рвало. Он еще ничего не осознавал, поэтому, глядя на блюющего военного в незнакомой ему форме, вспомнил о внезапном исчезновении из Маутхаузена спецподразделения и его оберштурмбаннфюрера. Ему и в голову не приходило, что этот военный – американец. Интуитивно он почувствовал, что этот человек из какого-то иного мира. Именно поэтому он решил, что не стоит заговаривать с ним по-немецки. Из других языков он хорошо владел только французским.
Узник начал читать стихотворение на французском, а незнакомый военный его продолжил. Все выглядело так, будто двое мужчин, никогда не видевшие друг друга, произносили строки стихов всего лишь как условный знак, пароль, который помог им встретиться. Незнакомый военный подошел к краю могилы и протянул Ребу руку. Он произнес несколько совершенно непонятных слов, а затем, уже на французском, спросил:
– Должно быть, вы ранены?
– Да, – ответил Реб.
Теперь он хорошо видел лицо этого человека. Он был очень молод, светловолос, с большими голубыми глазами. На воротнике его рубашки блестел золотой значок.
– Вы француз?
– Нет, я австриец, – ответил Реб.
Дэвид попытался вытащить парня из ямы, но сделать это не удалось. Земля, перемешанная с известью, снова обвалилась, оголив тело Заккариуса. Ягодицы и спина мертвеца были полностью сожжены известью.
– O'God![2] – вскрикнул военный, и его снова вырвало.
Когда Дэвид немного успокоился и у него прекратилась рвота, Реб решил, что наступил его черед спрашивать:
– А кто вы по национальности?
– Американец, – произнес военный.
Отвечая на вопрос, Дэвид снова стоял у края могилы и смотрел в огромные голубые глаза пленника.
– Возможно, здесь уцелел еще кто-нибудь?
– Я так не думаю, – ответил Реб. – Они стреляли нам в затылок. – Он произнес эти слова медленно и спокойно, пытаясь пошевелить левой рукой. – В одиночку вам меня не вытащить, я ведь похоронен стоя, – продолжал Реб. – Надеюсь, с вами еще кто-нибудь есть?
– Со мной вся армия Соединенных Штатов, – ответил Дэвид Сеттиньяз.
Его ответ прозвучал как шутка, хотя он не имел ни малейшего желания шутить. Ему просто внушало страх спокойствие узника из могилы. Но какой бы невероятной ни казалась ситуация, Дэвид был почти уверен, что видит в зрачках его светлых глаз задорный блеск.
– Я хочу знать ваше имя и фамилию.
– Мой отец француз. Меня зовут Дэвид Сеттиньяз.
После недолгого молчания Реб мягко, но настойчиво произнес:
– Вы можете отправляться за помощью. И поторопитесь, потому что я задыхаюсь. Я благодарен за то, что вы здесь появились, мне этого не забыть.
Глаза его горели каким-то фантастическим блеском.
2
К могиле Дэвид Сеттиньяз вернулся с врачом, двумя пехотинцами и фотографом. Блэксток принялся фотографировать могилу. Однако снимки эти ни разу не были опубликованы, даже не использовались ни в одном досье. Впоследствии, спустя тринадцать лет, Король выкупил их у Роя Блэкстока и его жены.
По мнению Блэкстока, смертник выжил благодаря не только невероятному стечению обстоятельств. Положение тела Реба Климрода в могиле свидетельствовало о том, что спасать себя он начал с первых секунд погребения. Причем начал этот путь из ада на поверхность еще в бессознательном состоянии.
Он оказался в числе первых жертв, брошенных в могилу и засыпанных затем негашеной известью и землей. На поверхность он пробирался через восемь трупов. Именно столько мальчиков в возрасте от двенадцати до семнадцати лет лежало в могиле. Реб Климрод был девятым – самым старшим. Из них он единственный выжил.
Когда его вытащили наконец из этого месива, Реб тут же потерял сознание. Все были потрясены видом узника-подростка: рост метр восемьдесят, и страшная худоба – вес не более сорока пяти килограммов.
В затылочной части головы, за левым ухом, сидела пуля от пистолета. Она немного срезала мочку, пробила основание черепа и разорвала шейные мышцы, но позвонки задела лишь слегка. Эту пулю врач извлек первой. Были и другие раны, еще более серьезные и болезненные. В теле парня было еще две пули: одна в голени, вторая над бедром. Ожоги от извести покрывали практически все тело. На спине, пояснице и в паху виднелись жуткие следы от ударов хлыста и ожогов сигарет. Множественные шрамы и рубцы были старыми. Лишь лицо юноши было чистым, и на нем не было следов пыток.
Несколько дней подряд он спал практически беспробудно. В это время в лагере случился инцидент. К Стрэчену обратилась делегация бывших заключенных с просьбой избавить их от общества этого «милого эсэсовца». Они обозвали его очень грубо, и требование их было достаточно категоричным. Но маленький рыжий майор из штата Нью-Мексико оставался спокойным, как каменная глыба. Впрочем, у него было полно других забот: здесь, в Маутхаузене, ежедневно умирали сотни людей.
По поводу судьбы парня он вызвал меня и сказал:
– Займитесь им, Сеттиньяз. Без вашей помощи он может умереть.
– Но ведь я не знаю даже его фамилии.
– Этот парень – ваша проблема, – резким тоном ответил Стрэчен. – Выпутывайтесь из этой истории как хотите.
Все это происходило утром 7 мая. Сеттиньяз дал указание перенести парня в барак, куда собрали всех, чья дальнейшая судьба еще не была решена. Дэвид был зол на себя самого, а мысль о том, что спасенный им незнакомый юноша в чем-то виновен, не давала покоя.
Несколько раз он заходил в барак с намерением побеседовать с юношей. Лишь один раз Дэвид застал его бодрствующим. Странный, серьезный и мечтательный взгляд был немым ответом на все вопросы.
– Ты узнал меня? Это я вытащил тебя из могилы…
Молчание.
– Я хочу узнать твое имя и фамилию.
Молчание.
– Ты австриец и должен сообщить о себе своей семье.
Молчание.
– Где ты учился французскому?
Вопрос остался без ответа.
– Я очень хочу помочь тебе…
Юноша по-прежнему лежал лицом к стене, молча, закрыв глаза.
На следующий день, 8 мая, одновременно с сообщением о капитуляции Германии из Мюнхена в лагерь прибыл капитан Таррас.
Джордж Таррас жил в Джорджии, но родился не в Америке. Он родился в Грузии. Еще в Гарварде Сеттиньяз удостоверился, что Таррас – русский аристократ, эмигрировавший в США в 1918 году. В 1945-м году ему исполнилось сорок четыре года. Казалось, что в жизни он преследовал одну главную цель – убедить как можно большее количество жителей планеты в том, что он не самый серьезный и влиятельный человек на земле.
Он питал отвращение к сентиментальной чувствительности, даже абсолютно естественной, а не наигранной, считая ее проявлением элементарной человеческой глупости. Возможно, из-за этого на его лице постоянно присутствовало язвительное выражение, казалось, злая шутка готова была сорваться с уст в любой момент. Он превосходно знал английский, бегло говорил на многих других языках: немецком, польском, французском, русском, итальянском и испанском.
Едва появившись в лагере, он повесил на стенах своего кабинета стенды с самыми жуткими фотографиями, сделанными Блэкстоком в Дахау и здесь, в Маутхаузене.
«Когда мы будем допрашивать этих господ преступников, которые будут выкручиваться и нести нам чушь, мы сможем ткнуть их носом в свидетельства их гнусных преступлений» – примерно так рассуждал Таррас.
Абсолютно решительно он закрыл несколько расследований, проведенных Сеттиньязом.
– Это все мелочи, студент Сеттиньяз. Где дела серьезные?
Дэвид рассказал о вызволенном им лично из могилы юноше.
– Как, вы не знаете даже его фамилию? – удивился Таррас, выслушав известную историю спасения потенциального покойника.
Сведения о спасенном юноше были крайне скудными. Его фамилии не было ни в одном немецком списке узников, прибывших в лагерь в последние месяцы 1944 или первые месяцы 1945 года. В этот момент в Германию и Австрию начали свозить десятки тысяч заключенных, поскольку советские войска вели активное наступление. Многие факты свидетельствовали о том, что юноша находился в Маутхаузене не больше трех-четырех месяцев.
– Все понятно, – с улыбкой сказал Таррас. – Здесь все ясно и понятно. Высокие чины из СС привезли сюда своих юных любовников. Офицеров было несколько, ведь одному не нужно столько мальчиков. Они приехали сюда, в Австрию, чтобы держать оборону до конца. Они укрепили здесь гарнизон. Однако с приближением нашей VII армии они вынуждены были снова отступать, на сей раз в горы, в Сирию и даже в тропики. Следуя их знаменитому порядку, характерному для этой нации, они «позаботились» о бывших избранниках своего сердца, теперь уже абсолютно ненужных, превратившихся в обузу. Они тщательно утрамбовали мальчиков в могиле, засыпав негашеной известью и землей.
В Гарварде неизвестный почитатель Гоголя наградил Тарраса великолепной кличкой – Бульба. Она была очень точна и самого профессора ничуть не смущала. Напротив, он до такой степени гордился своим прозвищем, что подписывал им свои журнальные публикации и даже замечания в конце экзаменационных сочинений.
Его живые глаза в очках в золотой оправе скользили по многочисленным снимкам ужасов, развешанным по стенам.
– Знаете, малыш Дэвид, мы, конечно, можем бросить все дела и заняться этим вашим юношей. У нас ведь всего лишь несколько сотен тысяч военных преступников, которые с нетерпением ожидают нашего внимания. Но это мелочи. Не будем говорить о миллионах: мужчинах, женщинах и детях, которые уже умерли, умирают и еще умрут.
Концовка разговора была очень эффектной. У него была просто страсть или, точнее, садистская потребность к подобным финалам. Своим изощренным сарказмом он любил заткнуть рот собеседнику. Однако было заметно, что рассказ о юном австрийце заинтересовал Тарраса. Поэтому через два дня, 10 мая, он все-таки навестил мальчика. С теми, кто находился в этом бараке, он общался на разных языках: русском, немецком, польском и венгерском. На юношу он бросил всего лишь беглый взгляд. Так мне показалось, но для Тарраса и этого было достаточно.
Чувства, которые испытал Таррас, увидев юного австрийца, были точно такими же, какие испытал и Дэвид Сеттиньяз. Но была все же одна очень существенная разница: он был потрясен не меньше Дэвида и знал почему. Он увидел поразительное сходство глаз чудом уцелевшего незнакомого юноши с глазами знакомого ему человека – физика Роберта Оппенгеймера. С профессором Таррас обменялся несколькими фразами в Принстоне, на званом завтраке у Альберта Эйнштейна. Светлые зрачки в бездне огромных глаз, погруженных в какую-то неведомую глубину, в какую-то отрешенную грезу, непостижимую простому человеческому уму, простому смертному. Тайна гения – это была именно она, и Таррас увидел и узнал ее здесь, в концлагере.
«А ведь этому юноше не больше восемнадцати», – подумал про себя Джордж Таррас.
В последующие дни Джордж Таррас и Дэвид Сеттиньяз занимались непосредственно своими служебными обязанностями по расследованию преступлений в Маутхаузене. Основную часть времени отнимала работа с полицейскими, проводящими расследования по доносам. Они составляли списки тех, кто отвечал за функционирование лагеря. На всех лиц, вошедших в эти списки, нужно было составить досье, содержащие свидетельские показания. Позднее все это будет использоваться в военном трибунале, рассматривающем, в частности, военные преступления в лагерях Дахау и Маутхаузен.
Многие из бывших надзирателей лагеря в Верхней Австрии с приближением американских войск укрылись в ближайших окрестностях. Однако делали они это не особо тщательно, не скрывая своих фамилий и оправдывая свои преступления доблестным повиновением рейху. «Befehl ist Befehl»[3] – это выражение якобы оправдывало все их преступления.
Сотрудников не хватало, и Таррас взял на работу нескольких бывших заключенных. Одним из них был еврейский архитектор Симон Визенталь, прошедший через многие концентрационные лагеря.
По прошествии некоторого времени Дэвид Сеттиньяз напомнил Таррасу о вытащенном из могилы юноше. Его фамилия по-прежнему была неизвестна. Заключенные, выражавшие протест майору Стрэчену, больше не появлялись. Трое самых активных членов – французские евреи – уехали домой. Выдвинутые ими обвинения исчезли вместе с ними. Но дело было заведено, и необходимо было принимать меры. Таррас решил провести допрос лично.
Через многие годы, в совершенно других обстоятельствах он почувствовал устремленный на него взгляд Реба Климрода. Он сразу же вспомнил первое впечатление, которое оставила та их первая встреча в Маутхаузене.
3
Юноша окреп и начал ходить, прошла даже хромота. Он поправился на несколько килограммов, что было очень неплохо для чудом уцелевшего человека. Но он все равно оставался худым, только лицо немного посвежело, приобрело человеческое выражение.
– Мы можем поговорить на немецком языке, – предложил юноша Таррасу. При этих словах американца пронзил взгляд его серых, скорее даже цвета бледно-голубого ириса, глаз. Юноша медленно осмотрел комнату и продолжил по-немецки: – Это ваш кабинет?
В ответ Таррас кивнул. Он испытывал какое-то странное чувство, очень похожее на нерешительность и даже робость. Это новое ощущение его не тревожило, а, напротив, забавляло.
– Прежде здесь был кабинет оберштурмбаннфюрера СС, – рассказывал юноша.
– Вы ведь часто бывали здесь.
Парень продолжал пристально рассматривать фотографии на стене. Ко многим снимкам он подходил очень близко.
– Где сделаны эти снимки?
– Это в Дахау, в Баварии, – ответил Таррас. – Как ваше имя?
Парень стоял за спиной американца, по-прежнему молчал и рассматривал фотографии.
Внезапно Таррас догадался: «Это он специально не сел напротив и теперь хочет заставить меня обернуться. Таким образом он дает понять, что намерен вести разговор по своему усмотрению».
Спокойным и тихим голосом он продолжил:
– Я не получил ответа на вопрос.
– Я – Климрод, Реб Михаэль Климрод.
– Вы родились в Австрии?
– Да, в Вене.
– Когда?
– В 1928 году, 18 сентября.
– Я думаю, что фамилия Климрод не является еврейской.
– Фамилия моей матери Ицкович.
Таррас уже понял связь двух имен юноши. Одно его имя было христианским, а вот имя Реб было достаточно распространенным в еврейских семьях, особенно живущих в Польше.
– Значит, вы Halbjude[4], – сказал Таррас.
Юноша не ответил. Он по-прежнему ходил вдоль стены за спиной у Тарраса. Он двигался очень медленно, подолгу задерживаясь перед каждым снимком на стене.
Парень остановился слева от американца, и Таррас, слегка повернув голову, заметил, что колени у него дрожат. Острое чувство жалости охватило Тарраса в эту же секунду: «Да ведь этот несчастный парнишка едва держится на ногах!»
Реб Климрод стоял к нему спиной. Таррас хорошо видел его тощие голые ноги в солдатских ботинках. Шнурков в них не было, да и ботинки были парню малы. На изможденном, нескладном теле болтались смехотворно короткие брюки и рубашка. На нем видны были следы многочисленных пыток: длинные и тонкие руки юноши усеяны потемневшими пятнами от ожогов сигарет, во многих местах кожа была сожжена негашеной известью. Таррас подумал, что тело этого парня корчилось под пытками тысячи раз, но не потеряло своей гордой осанки. Юноша был стройным, лишь руки его безвольно висели вдоль тела. Но Таррас по своему опыту уже знал, что за этой кажущейся небрежностью скрыта огромная сила воли, умение владеть собой в любой ситуации, на что способны далеко не все взрослые мужчины (в том числе и сам Таррас).
Именно сейчас Таррас понял то, чем так сильно был поражен Дэвид Сеттиньяз: Реба Михаэля Климрода окружала какая-то необъяснимая, большой притягательной силы аура.
Словно спасаясь от чего-то, Таррас продолжил допрос:
– Когда и как вы прибыли в Маутхаузен?
– В феврале этого года, но в какой точно день, я не знаю, где-то в начале месяца.
Голос юноши был серьезным и спокойным.
– Вы прибыли вместе с эшелоном?
– Нет, я прибыл не с эшелоном, – ответил парень.
– Кто еще приехал сюда вместе с вами?
– Те другие мальчики, которые лежали в могиле вместе со мной.
– Кто же доставил вас сюда?
– Офицеры СС.
– Сколько их было?
– Десять.
– Кто ими командовал?
– Оберштурмбаннфюрер.
– Назовите его имя и фамилию.
Реб Климрод стоял в левом углу комнаты. На стене на уровне его глаз висел огромный снимок, сделанный Роем Блэкстоком. В открытой дверце кремационной печи виднелись наполовину обуглившиеся трупы. Благодаря фотовспышке они были хорошо заметны на фотографии.
– Их фамилии мне неизвестны, – абсолютно спокойно ответил Реб Климрод и на этот вопрос американца.
Таррас заметил, как рука юноши зашевелилась и потянулась вверх. Длинными тонкими пальцами он прикоснулся к глянцевой поверхности снимка. Таррасу показалось, что юноша гладит эту фотографию рукой. Через некоторое время парень отвернулся от снимка и прислонился к стене. Он был по-прежнему спокоен, безразличный взгляд его был устремлен в пустоту. Таррас увидел, что на голове юноши начали отрастать волосы, но они были не русые, а темно-каштановые.
– Разве вы имеете право задавать мне такие вопросы? Только лишь потому, что вы американец и выиграли эту войну?
Таррас был ошеломлен и сбит с толку. Он был не в силах хотя бы как-то возразить этому странному юноше.
– Я не считаю, что меня победили Соединенные Штаты Америки, – продолжал Реб Климрод своим спокойным, отрешенным голосом. – Я действительно не считаю, что меня кто-то победил.
Взгляд его уперся в небольшой шкаф, где лежали кучи папок. Туда Таррас поставил несколько книг. «Он рассматривает книги!» – воскликнул про себя американец.
– Мы прибыли сюда в начале февраля, нас привезли из Бухенвальда. До Бухенвальда нас, мальчиков, было двадцать три. Пятерых сожгли в Бухенвальде, еще двое умерли по пути в Маутхаузен. Офицеры, которым мы служили в качестве женщин, застрелили их в грузовике. Они уже не могли идти, все время плакали и из-за выпавших зубов имели уродливый вид. Одному из этих мальчишек было девять лет, а второму немного больше, по-моему, одиннадцать. Офицеры ехали в легковой машине, а мы в кузове грузовика. Время от времени нас заставляли бежать за машинами с веревкой на шее, за которую они нас держали. Это делалось для того, чтобы у нас не было сил не только на побег, но даже на мысли о нем.
Юноша немного отодвинулся от стены. Он продолжал смотреть на книги в шкафу с каким-то гипнотическим напряжением. Но рассказ свой не прервал. В этот момент он напоминал учителя, который излагал урок, сосредоточив свое внимание на птице за окном. Говорил он по-прежнему отрешенно и безразлично к тому, о чем рассказывал.
– До Бухенвальда, куда мы прибыли накануне Нового года, некоторое время мы пробыли в Хемнице. А до Хемница мы были в лагере Гроссрозен. До Гроссрозена, это было летом, мы находились в лагере Плешев. Это в Польше, неподалеку от Кракова.
Реб совсем отошел от стены и стал медленно приближаться к шкафу.
– В Плешеве мы пробыли три месяца. Здесь почти все мальчики умерли от голода. Их фамилии мне неизвестны. До Плешева мы очень долго пробирались через леса… Нет, сначала мы были в Пшемысле… в общем, до и после мы шли очень долго. Мы шли из лагеря в Яновке. Я был здесь дважды: последний раз в мае прошлого года, а до этого еще раз в 1941 году. В это время мне было двенадцать с половиной…
Тарраса впечатлила странная манера рассказчика. Свои воспоминания он начал излагать с конца, словно перематывал пленку назад. Юноша сделал еще несколько шагов и встал прямо перед книгами, стоявшими за стеклом.
– Это ведь ваши книги.
– Да, мои.
– Второй раз в лагерь в Яновке я попал из Белжеца. Именно в Белжеце 17 июля 1942 года погибли моя мать Ханна Ицкович и сестра Мина. Их сожгли заживо, я видел, как они умирали. Разрешите мне открыть шкаф и потрогать книги.
– Да, конечно, – ответил Таррас. Американец был совершенно подавлен рассказом юноши, который продолжал говорить:
– Мине было девять лет, ее живой бросили в печь. Вторая моя сестра, Катарина, родилась в 1926 году. Она была старше меня на два года. Она погибла в железнодорожном вагоне. В этом вагоне были места на тридцать шесть человек, но туда затолкали сто двадцать или сто сорок, они лежали друг на друге до самого потолка. Пол вагона был засыпан негашеной известью. Катарина попала в вагон в числе первых. Когда вагон был забит людьми до отказа, они заперли двери, а вагон отогнали на запасный путь. Целую неделю он стоял на солнце.
Громким голосом юноша прочел:
– Уолт Уитмен. Он англичанин или американец?
– Американец.
– Мне кажется, он поэт, или я ошибаюсь?
– Нет, не ошибаетесь, он такой же поэт, как и Верлен.
Взгляд серых глаз юноши скользнул по лицу американца и снова остановился на книге «Autumn Leaves». Таррас задал очередной вопрос. Ответа не последовало, лишь через некоторое время парень качнул головой и произнес:
– Английским языком я пока не владею, могу произнести только несколько слов. Но я собираюсь его выучить, а также освоить еще несколько языков, в том числе испанский и русский.
Таррас в растерянности никак не мог решить, что же ему предпринять. Пребывая в полной нерешительности, он то поднимал, то снова опускал голову. Все это время он сидел за письменным столом, будучи не в силах встать и пройти по кабинету с того момента, как Реб Климрод вошел в комнату. В процессе допроса он сделал всего лишь несколько записей.
– Возьмите эту книгу себе, – предложил американец.
– Но я не прочту ее так быстро.
– Можете пользоваться ею, сколько понадобится.
– Я очень благодарен вам за это, – произнес Реб Климрод. Теперь он смотрел не на книги, а на американца.
После небольшой паузы юноша продолжил рассказ:
– До Белжеца с 11 августа 1941 года мы находились в Яновке. А до этого мы побывали во Львове, у родителей моей матери Ханны Ицкович. Мать очень хотела повидать своих родных. В Вене она сделала для нас четыре заграничных паспорта. 3 июля 1941 года мы выехали во Львов, а приехали туда 5 июля. Львов был оккупирован, но уже не русскими, а немцами. Моя мать очень надеялась на наши паспорта, но она ошиблась.
Реб прервал свой рассказ и принялся перелистывать книгу. Его действия были машинальными. Пролистав книгу, он наклонил голову, чтобы прочитать название других стоящих на полке изданий:
– Я читал Монтеня.
– Вы можете взять себе и Монтеня, – предложил Таррас.
После этой фразы американец почувствовал, как волнение охватывает его, и он понял почему. Для того чтобы легче было выдержать напряжение при расследовании преступлений нацистов в этом концентрационном лагере, американец привез с собой двадцать книг. Но если бы пришлось выбрать одну, то он взял бы Монтеня.
– Но я выжил, – сказал Реб Климрод.
Таррас, пытаясь совладать с душевным смятением, стал читать вслух названия тех концлагерей, в которых побывал парень. Он разместил их в хронологическом порядке: Яновка, Белжец, снова Яновка, Плешев, Гроссрозен, Бухенвальд, Маутхаузен.
– Вы на самом деле побывали во всех этих лагерях?
В ответ парень равнодушно кивнул. Он закрыл стеклянные дверцы шкафа, а выбранные книги обеими руками прижал к груди.
– Когда и где вы попали в эту группу мальчиков?
Отойдя от шкафа на несколько шагов, он ответил:
– Это произошло в Белжеце 2 октября 1943 года. Нас собрал оберштурмбаннфюрер.
– Тот самый оберштурмбаннфюрер, фамилия которого вам неизвестна?
– Да, тот самый, – ответил Реб и сделал несколько шагов по направлению к двери.
«Вероятнее всего, он лжет», – решил Таррас и пришел от этого в еще большее замешательство. Вернее, все в его рассказе было правдивым, кроме одной вещи. Невозможно было поверить в то, что юноша, обладающий столь феноменальной памятью, не запомнил фамилию эсэсовца, который издевался над ним целых двадцать месяцев – с октября 1943 по май 1945 года.
«Он врет, хотя прекрасно видит, что я все понимаю. Похоже, это ему безразлично, равно как и то, что с ним происходило до сих пор. Поэтому он не предпринимает попыток оправдаться или объяснить, каким образом он все-таки спас свою жизнь. Неужели он не испытывает чувства стыда или ненависти? А может быть, он пребывает в состоянии шока?»
Последнее умозаключение казалось Джорджу Таррасу маловероятным. В состояние шока он не верил. Первая встреча с Ребом Михаэлем Климродом длилась не более двадцати минут. Но даже за это короткое время допроса интуиция подсказала Таррасу, что этот изможденный юноша, который едва держался на ногах, владеет невероятной природной способностью справляться со сложнейшими обстоятельствами. «Он выше всех обстоятельств», – решил Таррас. Американец просто физически почувствовал высочайший интеллект, отражающийся загадочным светом в огромных серо-голубых глазах.
Юноша сделал еще один шаг в сторону двери. Он явно намеревался уйти. Таррас смотрел на его профиль, обладающий какой-то жесткой красотой, и старался продолжить допрос:
– Кто стегал вас хлыстом и прижигал тело сигаретами?
– Ответ вам известен.
– Вероятно, этот офицер издевался над вами все двадцать месяцев.
В полном молчании юноша сделал еще один шаг к двери.
– Вы сказали, что группу в Белжеце сформировал оберштурмбаннфюрер.
– Да, 2 октября 1943 года.
– Сколько там было детей?
– Сто сорок два ребенка.
– Для какой цели их собрали?
Вместо ответа юноша молча покачал головой. «Думаю, он действительно этого не знает и на этот раз не лжет» – в этой мысли Тарас был твердо уверен.
В очень быстром темпе он продолжал задавать вопросы:
– Каким способом вас вывозили из Белжеца?
– На грузовиках.
– В Яновку?
– Не всех, туда отправили только тридцать человек.
– Куда отправили остальных?
– В Майданек.
Последнее название еще ни о чем не говорило Таррасу. Только некоторое время спустя он узнал, что это был еще один лагерь смерти на польской земле, точно такой же, как Белжец, Собибор, Треблинка, Освенцим, Хелмно.
– Этих ребят отбирал штурмбаннфюрер лично? В ней были только мальчики?
– Я отвечаю «да» на оба ваших вопроса.
Реб Климрод проделал два последних шага, отделяющих его от двери, и встал на пороге. Таррас снова увидел его в профиль.
– Я верну вам их, – произнес юноша и погладил пальцами оба книжных тома: Уитмена и Монтеня. – Я верну вам книги. – Он улыбнулся и добавил: – Не спрашивайте, пожалуйста, у меня больше ничего. Оберштурмбаннфюрер доставил нас в Яновку и стал использовать в качестве любовников. Позже, когда продвижение русских ускорилось, он и его сослуживцы убедили администрацию лагеря в том, что, конвоируя нас, они выполняют специальное задание. Именно поэтому они убили не всех, а только тех, кто не мог идти дальше.
– Неужели вы не знаете фамилию хотя бы одного их них?
– Не знаю.
«Он говорит неправду», – отметил про себя Таррас и продолжил:
– Сколько детей привезли вместе с вами в Маутхаузен?
– Шестнадцать.
– Но ведь вас было только девять в той могиле, где нашел вас лейтенант Дэвид Сеттиньяз.
– Сразу же по прибытии в Маутхаузен они убили семерых, оставили только своих любимчиков.
Эти слова были произнесены тихим, ровным голосом. Юноша шагнул через порог и снова остановился:
– Я прошу вас назвать мне свое имя, если это возможно.
– Джордж Таррас.
– Таррас – «т», «а», два «р», «а», «с» – так?
– Да, именно так.
В комнате снова повисло молчание.
– Книги я верну.
После окончания войны Австрия была разделена на четыре зоны. Маутхаузен оказался в советской зоне. Огромное количество бывших узников концлагерей было переведено в лагерь для перемещенных лиц в Леондинге, недалеко от Линца. Это была американская зона, а лагерь размещался в здании школы, в которой учился Адольф Гитлер. Напротив лагеря стоял домик, где долго жили отец и мать Гитлера.
Джордж Таррас и Дэвид Сеттиньяз и их отдел по расследованию военных преступлений также переместились в Линц. Этот переезд занял много времени. Кроме того, они занимались розыском эсэсовцев-надзирателей, скрывающихся в окрестностях Линца.
Исчезновение из лагеря юного Климрода они заметили только по прошествии многих дней.
4
Американской армии была поручена охрана столицы Австрии – Вены. Американские военнослужащие уже целый месяц управляли Внутренним городом, окруженным бульваром Ринг, а также обеспечивали его безопасность. В двери освещенного здания военного комиссариата, расположенного на Кертнерштрассе, показался уже знакомый нам выходец из Канзаса. Он направился к стоящему у здания автомобилю и уселся на переднее сиденье рядом с водителем. Вслед за ним из здания вышли еще три представителя международного патруля – англичанин, француз и русский. Они устроились на заднем сиденье. Это уже был их четвертый ночной объезд города. Машина направилась в сторону собора святого Стефана. В светлеющем небе уже четко вырисовывались его квадратные башни, а зеленые башенки блестели в первых лучах утренней зари.
Патрульный автомобиль медленно двигался по пустынной центральной улице. Наступило утро (пять часов тридцать минут) 19 июня 1945 года. Джип продолжал свой путь и выехал на набережную Франца Иосифа. На противоположном берегу Дунайского канала за полуразрушенными банями Дианы и руинами домов в розовом утреннем небе черным скелетом торчал остов колеса обозрения в парке Пратер. Джип повернул налево, пересек Морцинплац, проехал по Гонзагагассе, спустился южнее и покатил вдоль берега к собору Богоматери. Вскоре показалось великолепное строение в стиле барокко – Богемская канцелярия.
Неожиданно они увидели знакомого юношу. Первым его заметил англичанин, но промолчал.
Англичанин был сердит и раздражен. Он не выносил едкого запаха табака «капораль», который беспрестанно курил француз; он испытывал жуткую ненависть к американцу, который измучил всех своими бесконечными рассказами о бейсбольных матчах и романах с женщинами во время его пребывания в Лондоне до июня 1944 года; он страшно презирал русского, который вовсе им не был, потому что имел узкие щелки вместо глаз, чисто монгольский тип лица и был непроходимым тупицей. Его изводил шофер-австриец, коренной житель Вены, который вел себя крайне цинично, напрочь отвергая факт победы американцев в закончившейся недавно войне.
Заметив юношу, англичанин промолчал, но через несколько секунд его увидел американец и издал удивленный возглас. Все пятеро участников международного патруля устремили свои взгляды на фасад ближайшего особняка.
Перед ними высилось трехэтажное здание с мансардой, с длинным рядом окон на каждом этаже, с балконами на двух уровнях. Центральный балкон поддерживали атланты. Под ним располагалась массивная входная дверь, к которой вела мраморная лестница. Особняк был выдержан в стиле классического венского барокко. Построен он был почти два века назад учеником Иоганна Лукаса фон Хильдебрандта, одного из создателей Хофбурга.
Однако великолепие особняка не произвело никакого впечатления на пятерых мужчин в джипе. Не отрываясь, они следили за юношей. Казалось, что его тело прибито к фасаду и напоминает распятие, зависшее над пустотой. Хотя было видно, что юноша стоит на уровне третьего этажа. Сходство с распятием было потрясающим: невероятная худоба распластанного на фасаде здания тела, на котором болтались брюки и рубашка – слишком широкие и слишком короткие; босые ноги, изможденное лицо с огромными светлыми глазами, излучающими мощнейшее сияние. Рот юноши был искривлен, выражая страдание и невероятное физическое напряжение.
Эта сцена длилась всего лишь несколько мгновений. Удерживаясь за края простенка, фигура двигалась. Луч прожектора поймал ее в последний миг перед тем, как она перелезла через перила балкона. Послышался звон разбитого стекла, едва уловимо скрипнула открывшаяся и закрывшаяся балконная дверь. Затем наступила тишина.
– Это квартирный вор, – абсолютно спокойно заявил шофер-венец. – Несмотря на рост, это мальчишка.
Ситуация была следующей: международный патруль имел право вмешиваться в подобные дела лишь тогда, когда в них участвовали военнослужащие оккупационных войск. Уголовные преступления оставались в ведении австрийской полиции.
Инспектор полиции и сопровождающие его двое сотрудников прибыли через десять минут. Поэтому у Реба Климрода времени было достаточно. Вообще-то, он потерял счет времени. Двадцать, а может, и тридцать минут он слушал голоса и звуки. Они как-то странно выплывали из пространства, смешивались, разделялись и снова накладывались друг на друга.
…Звуки всплыли из глубины его памяти с такой отчетливостью, что Реб задрожал от волнения: радостное топанье Мины по коридорам, музыка Шуберта, исполняемая Катариной на пианино, голос их матери Ханны с явным польским акцентом, от которого она так и не смогла избавиться. Голос матери всегда был тихим, умиротворяющим. От него, словно по воде от брошенного в пруд камня, расходилась кругами атмосфера спокойствия.
В среду вечером, 22 июля 1941 года, этот голос сказал: «Иоганн, благодаря паспортам, которые достал нам Эрих, дети и я имеем возможность поехать во Львов. Мы приедем туда завтра вечером и останемся до понедельника, ведь мои родители, Иоганн, никогда не видели внуков. Во вторник мы вернемся в Вену…»
Ханна Ицкович-Климрод родилась в 1904 году во Львове, где ее отец имел врачебную практику. Она мечтала пойти по его стопам, но это было невозможно: она была еврейкой и женщиной. Это было двойным препятствием к осуществлению ее мечты. Ханна стала изучать литературу в Праге. Образование для студентов-евреев здесь было более доступным. Ее дядя держал в Вене торговлю, и впоследствии она перебралась сюда окончательно под этим весьма сомнительным предлогом и стала изучать право. Профессор Иоганн Климрод был на пятнадцать лет старше Ханны и преподавал у нее право в течение двух лет. Необыкновенно искрящиеся глаза Ханны околдовали профессора, а исключительный ум и чувство юмора сделали остальное. В 1925 году они поженились; в 1926-м родилась Катарина, в 1928-м – Реб, в 1933-м – Мина…
На первом этаже тяжело стукнула входная дверь. Уходя, ее закрыли полицейские. Послышались обрывки переговоров международного патруля. Через некоторое время донесся гул автомобилей, который становился все тише и тише, а вскоре и вовсе умолк. В дом вернулась тишина. Реб предпринял попытку выпрямиться во весь рост, ведь ему пришлось сжаться в комочек. Раньше, маленьким мальчиком, он сотни раз укрывался в этом уголке. В такие минуты он испытывал неимоверное наслаждение от своего добровольного заточения. Мальчик боролся с одолевавшим его чудовищным страхом и успокаивался только тогда, когда полностью преодолевал его. Усилием воли он заставлял себя прижиматься к каменной стене, белой и влажной, по которой двигались непонятные светлые тени. Впрочем, возможно, это просто работало его воображение. Но Реб не включал свет, ему нравилась атмосфера загадочности и таинственности, которую он устраивал сам для себя. При этом он испытывал невероятное чувство страха, сильное до такой степени, что у него начинало трястись все тело. А после… после он снова возвращался в состояние спокойствия и даже блаженства. Преодолев страх, он уже не боялся ни темноты, ни ползущих по стенам светлых теней, ни шорохов.
Под натиском его пальцев доска отошла. Вначале он просунул ногу, потом плечо, а затем полностью протиснулся в платяной шкаф. Именно таким способом он попадал в свою комнату, которая теперь была полупустой. Из этой комнаты он вышел в коридор. Справа была комната Мины, немного дальше – Катарины. Обе были пустыми, впрочем, как и детская, музыкальная гостиная и его кабинет, устроенный для него матерью.
Пустыми оказались и три комнаты, где обычно проживали его друзья, две комнаты их гувернантки-француженки. Из них вынесли все, даже гравюры, на которых были запечатлены любимые места жильцов особняка: Вогезская площадь и Мост искусств, что в Париже, вид Луары в окрестностях Вандома (здесь родилась мадемуазель), узкая бухточка в Бретани, пейзаж в Пиренеях.
На верхних этажах располагались помещения для прислуги. В них Реб обнаружил некоторые признаки того, что здесь проживают или проживали до недавнего времени: две кровати-раскладушки и тщательно упакованный мешок с вещами. В ванной на веревке висело белье цвета хаки.
Реб спустился на второй этаж. Здесь были апартаменты его родителей. Широкий мраморный коридор был той границей, которую и дети, и прислуга переступали только с особого разрешения Ханны. На одном «берегу», где окна смотрели на фасад здания, в ряд располагались общие комнаты: две гостиные, столовая, соединенная с буфетной и кухней. Весь второй «берег» занимала огромная библиотека.
Большая дверь справа, которую распахнул Реб, вела в личные апартаменты Ханны. Это была запретная территория. Спальня была полностью опустошенной, даже обои со стен были содраны. Осталась только огромная кровать матери, она стояла в простенке между двумя окнами, выходящими во внутренний дворик. В этой кровати родился Реб и его сестры. Рядом был будуар матери, тоже опустошенный. Далее был кабинет, где мать работала и где в 1933 году, в промежутке между его собственным рождением в 1928 году и появлением сестры Мины, Ханна подготовила и впоследствии успешно защитила докторскую диссертацию по философии. И эта комната была совершенно пустой.
Вторая половина родительских апартаментов начиналась за ванной комнатой и принадлежала отцу. Здесь сохранилась мебель, но она была чужой. Вместо той, на которой спал его отец-калека, стояла кровать явно для другого человека – большая и высокая. Реб открывал шкафы один за другим и видел в них чужую одежду: военные мундиры, увешанные наградами, в основном звездами. Он нашел на полках стопки чужого белья и развешенные чужие рубашки. В комнате стояла различная обувь, даже походные ботинки со шнурками. Штатская одежда висела отдельно. Реб подошел и потрогал ее. Но все это его уже не интересовало. Взгляд юноши был устремлен на дверь в библиотеку.
Реб тронул дверную ручку, но открыть не решился. С того момента как он проник в дом, прошел по комнатам и увидел, что все разрушено и разграблено, лицо его оставалось бесстрастным. Но сейчас юноша был взволнован, у него даже перехватило дыхание. Он стоял молча, прислонившись к дверной раме и закрыв глаза. На лице у него было отчаяние. Ребу почудился мягкий, чуть шуршащий звук резиновых колес кресла-каталки Иоганна Климрода. Обе ноги у отца отнялись весной 1931 года. Тогда мальчику не исполнилось и трех лет. Ему послышался голос отца, разговаривающего по телефону с компаньоном Эрихом Штейром, дающего указания одному из четверых своих помощников либо одной из троих секретарш. Он услышал, как движется маленький лифт, на котором отец, покинув свой адвокатский кабинет на первом этаже, поднимался на второй этаж в библиотеку или в свою спальню.
Реб явственно услышал слова отца: «Эрих, меня страшит эта поездка во Львов, даже с теми документами, которые вы им раздобыли…»
Юноша усилием воли открыл глаза, распахнул дверь и вошел в библиотеку. В комнате размером восемнадцать на восемь метров стоял полированный стол и колченогий стул. Они были здесь всегда. На полу лежал старый ковер. На деревянных панелях стен, обитых сверху шелком гранатового цвета, были видны пятна от сорванных картин. Несколько книжных полок высотой до четырех метров, огражденных галереей из дубовых перил, были выломаны. Не осталось ни одного экземпляра из двадцати тысяч книг, собранных за сорок лет его отцом Иоганном Климродом, а до него еще четырьмя, а может, и пятью поколениями рода Климродов. Один из его представителей был даже высокопоставленным чиновником при Иосифе II, императоре Германии и Австрии, короле Богемии и Венгрии. В библиотеке хранилась также удивительная коллекция раскрашенных деревянных мадонн. Этим хрупким, улыбающимся, облаченным в парчу статуэткам было четыре с половиной века. В библиотеке Реб не нашел ни одного из этих сокровищ.
В разграбленную библиотеку сквозь закрытые ставни начал проникать свет. Реб покинул эту комнату, где уже слышалось эхо его шагов, и подошел к маленькому лифту. Он приблизился к нему так, как подходят к последнему спасительному прибежищу…
Для того чтобы попасть в Вену именно 19 июня, он преодолел путь в сто шестьдесят километров. Именно таким было расстояние от Маутхаузена до столицы. Юноша передвигался только ночью, а днем отдыхал, в основном спал. На фермах, встречающихся иногда по пути, добывал пропитание. В Санкт-Пельтене он переправился через Дунай, затем пересек Венский лес. Последние тридцать пять километров он шел без передышки и в два часа ночи миновал парк и дворец Шенбрунн.
Через много лет Дэвид Сеттиньяз спросит о причине этой неистовой гонки одинокого путника. Ведь он, так же как и Таррас, мог бы помочь парню добраться до Вены. «Я хотел отыскать своего отца, отыскать сам лично», – только так мог ответить Реб, ответить просто, с выражением напускного равнодушия на лице.
Когда для отца установили лифт, то для того, чтобы его замаскировать, перед решеткой, на обычной деревянной панели, прикрепили дарохранительницу, принесенную в дом из какой-то приходской церкви Тироля или Богемии. На створке была дата – XV век, – поэтому те, кто грабил особняк, не оставили и эту ценность. Осталась лишь ясеневая панель, на которой она была прикреплена.
Реб открыл лифт. Металлическая кабинка была маленькой, точно по размерам кресла-каталки. Оно стояло здесь, абсолютно пустое.
Реб Климрод понял, что отец его погиб. И он заплакал, стоя на коленях перед пустым отцовским креслом.
5
В первом округе Вены, на маленькой улочке Шенкенгассе, затерявшейся среди скопления конных статуй дворца Даун-Кински и «Бургтеатром», находился книжный магазин. Чтобы попасть в него, надо было спуститься на три ступеньки вниз. Их больше не существовало. Магазин состоял из трех помещений с высокими сводчатыми потолками. Свет в них попадал через подвальные окна.
Владельцем магазина был шестидесятилетний человек по фамилии Вагнер. Прежде чем открыть свою книжную лавку, он двадцать лет отработал в Национальной библиотеке во дворце Хофбург. Он был в числе трех или четырех самых известных специалистов Вены по редким изданиям и инкунабулам, чем очень гордился.
Старый книжник вначале не узнал Реба Михаэля Климрода. Ничего удивительного в этом не было. В последний раз Реб приходил в магазин четыре с половиной года назад. Тогда он был маленьким мальчиком, носившим короткие штанишки. Невысокого для своих лет роста, с непокорной прядью волос над высоким лбом. Мальчик учился в школе и приходил в магазин почти каждую неделю, обычно по четвергам. Молча бродил вдоль полок, рассматривал книги на стеллажах и чаще всего уходил так же молча, не проронив ни слова, ни звука. Правда, иногда он подолгу стоял, словно застыв, перед каким-нибудь изданием. Как правило, это были новые книги, только что приобретенные Вагнером. В конце концов это перестало удивлять продавца книг. Порой Реб вскидывал голову и весь его вид говорил: «Эта книга у нас уже есть!» Иногда он спрашивал о происхождении книги или рукописи, времени ее выпуска в свет и о том, сколько стоит заинтересовавшее его издание. Эти вопросы всегда заканчивались одной и той же фразой: «Я расскажу об этой книге своему отцу. Я прошу вас придержать ее до следующего четверга».
Ровно через неделю он приходил снова и объявлял вердикт отца. При этом голос у мальчика был странно отрешенным, тихим и несмелым. Глаза его были мечтательными, когда он объявлял о том, что мэтр Климрод приобретает очередное издание, понравившееся его сыну. В этом случае Вагнер отправлялся в особняк, чтобы заключить сделку, а заодно побывать в сказочной библиотеке, которая каждый раз приводила его в восхищение.
Появившийся в магазине юноша ничем не напоминал мальчишку тех давних дней. Он вырос больше чем на полметра. Твидовый, английского покроя пиджак и брюки кирпичного цвета были ему явно коротки. Обут он был в добротные полуботинки в стиле ришелье, которые в Вене не носили лет десять. Вагнер подумал, что появившийся юноша по внешнему виду скорее англичанин, чем американец.
Реб Климрод спустился наконец пониже того места, где была когда-то третья ступенька. Он уже не стоял против света, и Вагнер уловил в его глазах что-то знакомое. Манера, с какой вошедший юноша стал расхаживать среди книжных полок, тоже показалась Вагнеру знакомой. Вагнер задал юноше вопрос по-английски:
– Вы ищете конкретное издание?
– Я ищу книги моего отца, – ответил Реб на немецком.
В этот момент он находился перед полкой, на которой стояли тридцать два тома Вольтера издания 1818 года. Вагнер сделал резкое движение и замер, словно испугавшись собственной поспешности.
– Вы – молодой Климрод, – произнес он после продолжительной паузы. – Калеб Климрод.
– Реб, я Реб Климрод.
– Вы невероятно повзрослели. И сколько же вам теперь лет?
Реб оставил издание Вольтера и прошел по книжному залу дальше. На полках стояли редкие книги: переплетенные в голубую кожу «Солдатские песни» Кастелли, «Дулина из Майнца» фон Алксингера, «Опасные связи» Лакло и очень редкая книга Абрахама а Санкта-Клара «Иуда, архиплут». На ее корешке виднелась выведенная золотом буква «К». Она была едва видна, и тот, кто не знал о ее существовании, не смог бы ее заметить без помощи лупы.
Реб прошел дальше.
– А почему вы считаете, что я продаю книги вашего отца? – спросил Вагнер. – Ведь я всегда только продавал книги ему, но никогда не покупал у него.
– И в последнее время тоже не покупали?
Этот вопрос был задан абсолютно невозмутимо, хотя продавец книг на несколько секунд пришел в явное замешательство.
– И недавно, и раньше я никогда не покупал книги у вашего отца. Да и ему в последние четыре года я не продал ни одной книги. А вы за все это время не зашли ко мне ни разу. Возможно, вас не было в Вене?
– Да, я путешествовал с матерью и сестрами, – ответил Реб.
Он повернулся к Вагнеру и, улыбнувшись, продолжил:
– Я очень рад, что снова увидел вас, господин Вагнер. У вас по-прежнему великолепные книги. Сейчас у меня мало времени, но я с удовольствием зашел бы к вам поболтать. Можно я зайду сегодня вечером?
– Конечно, я закрываю в семь вечера.
В это время было лишь три часа дня.
– Я приду пораньше, а если не получится сегодня, то завтра утром. Я постараюсь прийти вечером, но если опоздаю, то вы меня не ждите, не держите из-за меня магазин открытым.
В ответ Вагнер улыбнулся:
– Приходите в любое удобное для вас время. Вы всегда мой желанный гость. Передайте своему отцу наилучшие пожелания от меня.
Широким и спокойным шагом Реб пошел по Шенкенгассе. В витрине часовщика он увидел мимолетное отражение Вагнера, поэтому ему не пришлось оборачиваться, чтобы взглянуть еще раз на продавца книг. Он сам вышел за порог магазина, чтобы посмотреть вслед уходящему юноше.
Реб шел очень быстро и вскоре скрылся из поля зрения Вагнера. Он дошел до церкви Меньших братьев, вернулся по Ловельгассе к «Бургтеатру». Отсюда отлично просматривался вход в книжный магазин. Ему пришлось подождать минут тридцать-сорок, чтобы увидеть то, чего он ожидал. У входа в магазин остановилась черная машина, из которой вышли трое мужчин. Их лица были незнакомы, но Реб сделал вывод: люди такой внешности не интересуются книгами, особенно редкими или старинными.
Вагнер, вероятно, предупредил приехавших по телефону и уже поджидал их. Он вышел сразу же, едва они появились, и, жестикулируя, стал что-то рассказывать, показывая рукой в ту сторону, куда ушел Реб. Юноша догадался, что продавец книг описывал приехавшим мужчинам его внешность. Двое из них вошли в книжный магазин, а третий, припарковав автомобиль, укрылся в подъезде дома напротив. Реб понял, что этот будет стоять на стреме.
Вена 1945 года уже не была Веной Иоганна Штрауса и оживленных ресторанчиков в Гринцинге. Имеющее мировую известность золотое венское сердце – das goldene Wienerherz – больше не стучало в ритме вальса. Город был полуразрушенным и полуживым. Несмотря на то что светило июньское солнце, в городе стоял полумрак. Популярный парк Пратер располагался в советской зоне. На его территории было множество подбитых танков, которые начали покрываться ржавчиной и зарастать травой. На Кертнерштрассе, которую можно сравнить по значимости с рю де ля Пэ и Пятой авеню, не уцелело полностью ни одного дома, остались лишь закопченные обломки, первые этажи которых только начали восстанавливать. Жителей на этой улице, как и во всем городе, также было очень мало. Многие погибли или были ранены, многие возвращались в родные дома из разных мест, разбросанных по Европе.
Реб не стал обращаться в австрийскую полицию, а к оккупационным властям тем более. К тому же у него не было никакого удостоверения личности, да и одет он был в украденную гражданскую одежду британского генерала. Хотя все это меньше всего беспокоило юношу. Реб боялся того, что и в полиции могут быть такие же продавцы книг, как этот Вагнер.
Дэвид Сеттиньяз сделал вывод: Реб Климрод знал о том, что его отец погиб, и догадывался, что главная роль в его смерти принадлежит Эриху Штейру.
Эрих Штейр, скорее всего, находился в Вене. В июне 1945 года многочисленные военные преступники, после того как война официально закончилась, просто-напросто разошлись по домам. Точно так же мог поступить и Штейр. Некоторые из преступников даже вновь открыли в Гюнцбурге частные врачебные кабинеты.
Сеттиньяз считал, что Реб навестил Вагнера только с целью установления некоторых фактов. Юноша отлично знал, что еще с 1940 года Вагнер и Штейр находились в достаточно близких отношениях. В результате своего визита он самолично убедился, что те трое, появившиеся в магазине, – наемные убийцы. Их направил Штейр с целью захватить и убить Реба.
Но у самого Реба была совсем иная цель: найти хоть какой-то след Иоганна Климрода. Три дня он прятался в Вене, отсиживаясь то в особняке, то в разрушенных зданиях. В конце концов он нашел женщину из Райхенау, которая помогла ему выйти на зальцбургского фотографа. С этого момента для Реба начался настоящий кошмар.
6
До Пайербаха Реб доехал на двуколке. Прощаясь с крестьянином, который подвез его, Реб сказал:
– Большое вам спасибо за то, что сделали мой путь легче. Надейтесь, и ваш внук вернется, обязательно вернется.
– Да услышит тебя Бог, мальчик мой, – кратко ответил старый крестьянин.
Пожалев парня со сбитыми до крови ногами, бредущего по обочине дороги, крестьянин в двуколке подобрал его в четырех километрах от Нейнкирхена. Реб пошел по извилистой тропинке, которая вела на высоту более чем две тысячи метров к вершинам Ракса и Шнееберга.
Он вышел из Вены на рассвете и добрался до Райхенау поздним утром 23 июня. Большую часть пути, до соборной площади Винер-Нейштадта, он проехал на джипе, где ему удалось найти место. На этой полуразрушенной площади война также оставила свои следы.
Райхенау оказался обычной деревней. В первом же доме, куда зашел Реб, ему подсказали, как и где можно найти Эмму Донин. Направляясь к этой женщине, он пересек небольшой альпийский луг и дошел до хижины, сложенной из полукруглых бревен. Первое, что он увидел, были дети: трое мальчишек, по виду от двух до семи лет, все с золотистыми волосами и голубыми глазами, сидели у большого каменного корыта. Притихшие и неподвижные, с торчащими голыми коленками, они были ужасно грязными.
В весеннем воздухе смешались аромат сырой земли и запах дыма. Реб улыбнулся детям и заговорил с ними. Дети ему не ответили и продолжали смотреть на него затравленно. Он обошел ферму и увидел женщину, которую искал. Она была толстой и очень грубой, с выступающими синими жилами на крепких руках. Она даже бровью не повела на сообщение, что он Реб Михаэль Климрод, сын профессора Иоганна Климрода, адвоката из Вены. Толстыми пальцами она тщательно чистила кукурузный початок, бросая зерна в котел с водой, в которой уже плавали картофель и брюква. Реб увидел ее наполовину лысый затылок и потное темя, к которому прилипли редкие серовато-желтые волосы.
– Вы работали в доме моего отца, – обратился Реб к женщине. – Я хочу узнать, что с ним случилось.
– А почему вы пришли именно ко мне?
Реб ответил, что расспросил о ней у торговца дровами на Шультергассе, улице позади Богемской канцелярии.
Женщина обдумывала сказанное Ребом все то время, пока очищала еще два початка. Потом она подняла котел и отнесла его в хижину, поставила на огонь и наконец сказала:
– Я никогда не работала у господина Климрода.
– Но вы работали в его доме с сентября 1941 года, – настаивал Реб.
Женщина подняла голову и внимательно на него посмотрела:
– Вы пришли, чтобы забрать этих троих малышей, так ведь?
– Вы ошибаетесь.
– Я уверена, что вы пришли за детьми. Их мамаша, эта шлюха, гуляет по Вене с американцами. Она бросила их мне на воспитание практически без средств и еще хочет, чтобы я ухаживала за ними как за принцами.
Послышалось тихое шарканье босых ног, в хижину вошли три мальчика. На лице одного багровел кровоподтек, на ногах всех троих были шрамы от ударов хлыста.
– Я приехал и ради них тоже, – продолжал Реб. – Она просила меня посмотреть, как живут дети. А сейчас ответьте, пожалуйста, на мои вопросы.
Женщина опустила голову и зло спросила:
– Вы не против, если я положу в суп немного сала?
– Я только хотел попросить вас об этом, – ответил Реб, улыбнувшись. Он продолжал напряженно вглядываться в лицо собеседницы и задавать вопросы:
– Кто и когда нанял вас экономкой в особняк Климрода?
– Этого человека зовут Эпке.
– Он представился как хозяин дома?
– Нет.
– Так кто же руководил Эпке и отдавал ему приказы?
– Ну, я уже не вспомню его фамилию.
Реб улыбнулся и покачал головой:
– Ай-ай-ай, ну как же вы так?
– Но я действительно не помню. Внешность хозяина помню, а вот фамилию его нет, не помню, – настаивала женщина. – Это был высокий красивый мужчина. Блондин.
– А какую форму он носил?
– Форма была эсэсовская, – ответила женщина. – Чин генерала, не меньше. Дома он бывал редко.
– Тогда, в сентябре 1941 года, были в доме слуги, которые работали еще до войны? Например, седой старик по имени Антон?
– Да, он работал, но погиб. Незадолго до Нового года его задавил военный грузовик.
– А был ли хоть кто-нибудь еще из старого персонала?
– Нет. Меня и еще четверых слуг нанимал Эпке.
На балке под потолком висел большой кусок сала. Женщина отрезала от него маленький кусочек, потом еще один.
– Отрежьте, пожалуйста, еще один, – сказал Реб, – да побольше, чтобы каждому ребенку было по куску. Положите им еще картошки… Была ли в доме мебель?
– Конечно, была, – искренне удивилась вопросу женщина.
– А не вспомните, были ли в доме книги, много книг?
– Книги были.
– А картины, гобелены, статуи?
– Да, все это было.
– Рядом с библиотекой, где все это находилось, был маленький лифт. Вы видели его, помните?
Женщина заканчивала чистить третью картофелину. Ее толстая рука с острым ножом замерла. Нахмурив брови, женщина копалась в своих воспоминаниях:
– Это такая штука, вроде грузового подъемника? На ней еще была разрисованная доска.
«Этой „доской“ была створка дарохранительницы», – сказал про себя Реб, а женщине он ответил:
– Да.
Она это помнила и даже один раз случайно открыла ее и была потрясена увиденным устройством.
– Вспомните, пожалуйста, когда это было?
– Незадолго до Нового года.
– А если более точно?
– В ноябре сорок первого года, через несколько недель после моего поступления на службу.
Пальцы Реба стиснули деревянную балку.
– Что вы увидели там, в лифте?
– Там стояло только кресло на колесах, – ответила женщина без промедления.
В хижине повисла тишина. В один момент стоявший перед женщиной сильный юноша превратился в беспомощного мальчика с выражением отчаяния на лице. Но женщина этого не видела. Она стояла у печки, раздувая угли и подкладывая дрова.
Реб вышел на улицу. Через некоторое время он позвал детей, и они покорно подошли к юноше. Он раздел их и тщательно вымыл под струей чистой воды.
Реб попросил у хозяйки мыла, но та лишь ухмыльнулась. Он тщательно промыл ссадины и велел детям одеться.
– Так что же произошло дальше с мебелью, книгами, картинами? – попытался продолжить разговор Реб.
– Все это сняли и увезли накануне отъезда хозяина. На трех грузовиках приехали эсэсовцы, погрузили и увезли все – или почти все. То, что осталось, на следующий день забрали венские антиквары. Оставили только стол. Он оказался слишком большим и тяжелым, не пролезал в дверь.
– Присутствовал ли при этом Эпке?
– Так он и командовал всем этим.
– Расскажите мне, какой он внешне.
По тому, как описала этого человека Эмма Донин, Реб понял, что им вполне мог быть один из троих мужчин, что приехали в книжный магазин Вагнера.
– А что же тот, кого вы называете хозяином? Тот высокий и красивый блондин?
– Он приехал вечером на машине с флажком и дал указания Эпке, какие вещи вывозить из особняка. Он же велел рассчитать и отпустить нас.
– Может быть, вам известно, где он сейчас?
В ответ женщина пожала плечами, а в ее глазах промелькнула злая ирония.
– Вы совсем мальчишка, и я вас нисколько не боюсь.
– Нет, вы меня боитесь, – внушительно произнес Реб. – Посмотрите мне в глаза, и вы увидите, что вы очень меня боитесь.
Рука юноши судорожно сжимала садовый нож.
– Я сюда обязательно вернусь, Эмма Донин. Вернусь через две недели, а может, через два месяца, но вернусь, чтобы проверить детей. Если я замечу следы избиения, я перережу вам глотку и отрежу руки. Нет, сначала я отрежу вам руки, а затем перережу горло. Вы разговаривали со стариком, которого звали Антоном, которого, если верить вашим словам, задавил армейский грузовик?
– Он был не особо разговорчив.
– Мне это известно. Но, может быть, он говорил вам или кому-то другому из прислуги хоть что-нибудь о моем отце Иоганне Климроде? Я очень прошу вас, попытайтесь вспомнить.
В этот момент в комнату вошли дети и робко уселись за стол. Все трое со страхом поглядывали то на садовый нож в руках Реба, то на испуганное лицо женщины. Вся эта жуткая картина очень напоминала одну из немецких сказок про людоедов и фей.
После продолжительного молчания Эмма произнесла:
– Однажды он рассказывал о каком-то санатории.
– Туда увезли моего отца в период между июлем и сентябрем 1941 года?
– Да, это так.
– Этот санаторий под Линцем, – продолжала Эмма. – Но Антон произнес какое-то другое название, но какое, я не могу вспомнить.
У Реба под рубашкой была карта, которую он украл у штабного генерала. Он вытащил ее и стал читать все подряд названия на карте, расположенные в радиусе шестидесяти километров вокруг Линца, включая и Маутхаузен. Читал долго, пока Эмма Донин не вспомнила, что это название Хартхайм. Да, это был замок Хартхайм.
7
Из горной деревушки Райхенау Реб спустился в долину. Остаток дня и наступившую ночь он провел в Пайербахе, в доме старика, который подвез его на своей телеге. В эту ночь первый раз за четыре года, прошедших со дня его отъезда с матерью и сестрами во Львов, он ел за домашним столом и спал в настоящей кровати. Старика, приютившего юношу, звали Доплер. У него было трое внуков, все они служили в немецкой армии. На двоих внуков старик получил официальное сообщение о гибели, а третий пропал без вести. Реб рассказал старику о троих мальчиках, брошенных на попечение Эммы Донин. Он попросил старика навещать ребятишек и следить за тем, как Эмма обращается с детьми.
Далее Реб решил, что вернется в Вену. Не для того, конечно, чтобы погулять по улицам города, полюбоваться Богемской канцелярией или еще раз зайти в свой дом. Он искал Эпке, расспрашивал о нем у многих знакомых и совершенно незнакомых людей.
Но все его поиски были напрасными. Человека с такой фамилией никто не знал и ничего о нем не слышал. Иногда юноше казалось, что Эмма Донин его выдумала. Однако даже то, что Реб узнал фамилию этого человека, было уже определенным успехом. Имел значение и тот факт, что ему стало известно о гибели Антона Хинтерзеера, который состоял на службе у Климродов более полувека. Военный грузовик сбил этого «седовласого старика» совсем не случайно, это произошло по указанию Эпке.
В рассказе Эммы Донин присутствовал «высокий и красивый блондин», носивший форму генерала СС, – это был, конечно же, Эрих Штейр. Он, так же как и его слуга Эпке, считал, что Реб Климрод не должен раскрыть их чудовищные преступления, они надеялись, что все это сохранится в тайне.
Замок Хартхайм был расположен неподалеку от крохотной деревушки Алькховен. Такие селения сотнями встречаются в Верхней Австрии. Попасть сюда можно по дороге, проходящей по берегу Дуная и соединяющей Линц и Пассау (Германия). От Линца до Алькховена было всего лишь пятнадцать километров в юго-западном направлении. На восток от Линца находится Маутхаузен.
Замок был выстроен в стиле ренессанс. Громоздкое, мрачное здание имело множество маленьких слепых окон, что свидетельствовало о столь же мрачном и тяжелом характере императора Максимилиана. Просторный двор окружали красивые колоннады. Но даже они не могли скрасить то зловещее впечатление, которое производил замок и четыре венчавшие его башни.
– Там был санаторий, – дрожащим голосом рассказывал Ребу рыжеволосый мужчина. – Точнее, госпиталь. Я был там дважды, в 1942 году и еще один раз в следующем. Они вызывали меня, когда случалось короткое замыкание. Но ничего необычного там я не заметил, – добавил он и, оглянувшись с опаской, мелко затряс головой.
Этот рыжий человек имел электромеханическую мастерскую в центре Линца. Едва взглянув на высокого и худого юношу, он узнал молодого Климрода. Едва только фигура Реба появилась на пороге его мастерской, он вспомнил мальчика, которого офицеры СС постоянно таскали за собой. Однажды он видел его в Маутхаузене – его вели на привязи, как собаку.
Как и все те люди, кто в силу своей профессии соприкасался с концлагерями, он боялся набиравших размах расследований Комиссии военных преступлений. Он бывал в Маутхаузене только в качестве электрика, но все же опасался членов Еврейского комитета, организованного недавно в Линце. Евреи стали теперь очень опасными. Несколько раз он встречал на улицах Линца еще одного бывшего узника Маутхаузена. К тому же жил этот человек совсем по соседству, в доме № 40 на Ландштрассе. Иногда во сне его преследовал пронизывающий взгляд черных глаз Визенталя.
Рыжеволосый человек был уверен в своей невиновности и непричастности к преступлениям нацистов. Он был всего лишь простым электриком. Так за что же можно его винить?
Пришедший к нему парень расспрашивал о Хартхайме. Он был евреем. Рыжий прекрасно помнил, что видел на его полосатой робе желтую букву «J»[5]. Она находилась в центре красно-желтого треугольника, ее нельзя было не заметить.
Вот этот рыжеволосый человек и назвал Ребу Климроду фамилию фотографа из Зальцбурга.
Из Вены до Линца Реб ехал на подножке разбитого вагончика. Небольшие пассажирские составы снова курсировали по отдельным веткам австрийской железной дороги. Оставшиеся до Алькховена четырнадцать километров он проехал на попутном военном джипе и добрался до Линца 30 июня. Его визит в замок Хартхайм остался в секрете, а Таррас и Сеттиньяз не осмелились расспросить его о нем.
О том, что творилось в этом старинном мрачном бастионе, знали только те, кто там работал. Первым, кто раскрыл тайну замка Хартхайм, стал действительно Реб Михаэль Климрод. Первое официальное сообщение об этом появилось спустя шесть лет – в 1951 году. Возможно, произошло это случайно, но существует еще одна версия – вмешательство Симона Визенталя.
Наконец Реб прибыл в Зальцбург. Это произошло 2 июля ночью, и можно считать, что было уже утро 3 июля. Добираясь до города, он преодолел расстояние в шестьсот километров. Третью часть этого пути он прошагал пешком. От рассвета и до полной темноты он шел, шел, пока хватало сил. Спал мало и где придется. Единственный раз он переночевал под крышей во время остановки в доме Доплера в Пайербахе.
Путь был трудным, но еще более трудным и страшным было одиночество. Ведь Ребу не приходилось ждать помощи со стороны. Но он шел с одной только надеждой: узнать, что случилось с отцом.
Фотографа, который жил в Зальцбурге, звали Лотар. Когда Реб постучал в дверь его дома, открыла женщина с седыми, коротко остриженными волосами.
– Да, он здесь живет, но работает в другом месте. Он сейчас в лаборатории, и вы можете туда пойти.
Женщина назвала адрес: Дурхойзер – крытый пассаж за Колокольной башней.
– Вы сможете найти?
– Надеюсь, – с благодарностью ответил Реб.
Его стертые ноги болели, но Реб, стараясь не хромать, направился к площади Старого рынка. Неподалеку от здания аптеки, построенного еще архиепископами Зальцбурга, он увидел машину скорой помощи. Он наткнулся на нее уже во второй раз. Впервые это было на противоположном берегу Зальцаха. Сворачивая с дороги, ведущей из Линца, он заметил машину скорой помощи, припаркованную у въезда на Штаатсбрюкке. Машина стояла кабиной к нему. На переднем сиденье было двое мужчин с очень невыразительными лицами. Казалось, они ждали указания ехать дальше. Это была самая обычная скорая помощь, выкрашенная в цвет хаки, с красным крестом на белом фоне.
Сейчас машина стояла в центре старинного Зальцбурга, но в кабине за рулем никто не сидел. Номер машины был тот же, и даже царапина на переднем бампере была та же самая. С самым невозмутимым видом Реб Климрод пересек площадь, прихрамывая при этом на одну ногу. От Колокольной башни его отделяло метров двести пятьдесят. Он прошел их за двадцать пять минут.
Пассаж Дурхойзер был узким и темным. Поднятыми над головой руками можно было коснуться свода. Реб миновал ряд каких-то темных лавочек, прошел еще метров десять и наткнулся на табличку. На белом фоне черной краской была сделана довольно неаккуратная надпись: «К.-Х. Лотар – художественная фотография». Реб слегка толкнул стеклянную дверь и услышал тонкое дребезжание колокольчика. Юноша вошел и очутился в низкой комнате с каменными стенами и потолком. Вдоль стен тянулись два больших деревянных прилавка, какие бывают обычно у продавцов тканей. Прилавки и виднеющиеся за ними полки были пустыми.
– Я здесь, – голос донесся из дальней комнаты.
Дверной проем, через который можно было пройти в соседнюю комнату, был задернут плотной холщовой занавеской. Реб отодвинул штору и прошел в соседнее помещение. И мгновенно ощутил прикосновение холодного металла к виску. Перед ним стояли четверо мужчин, один из них готов был выстрелить юноше в голову.
– Не двигайся и молчи, – рявкнул второй.
Двоих Реб узнал сразу, ибо видел их в кабине военной скорой помощи. А вот третий подходил под описание Эммы Донин. Эпке, это был Эпке! Четвертого Реб видел впервые.
Они стали спрашивать, почему Реб так долго шел в фотолабораторию, которая находится в нескольких минутах ходьбы от площади Старого рынка.
Ребу Климроду надо было спасаться, и он решил попробовать. Его лицо приняло страдальческое выражение, фигура преобразились. Он стал похож на маленького мальчика, хрупкого и измученного. В его глазах застыло выражение ужаса, он захныкал:
– Я хочу кушать, я устал и не могу идти дальше.
В общем, ему удалось изобразить из себя смертельно перепуганного мальчишку с искалеченными ногами, страдающего и не понимающего, что происходит.
Вместо Тарраса, вышедшего погулять и подышать свежим воздухом, телефонный звонок принял Дэвид Сеттиньяз. Работала только линия военной связи, поскольку гражданскую телефонную связь в Австрии еще не восстановили. Звонил неизвестный военный в чине майора. Его рассказ на английском был путаным и малопонятным. В голосе звонившего человека Дэвид уловил французский акцент и предложил ему перейти на родной язык. Оказалось, что звонит офицер французских войск из города Зальцбург. Дэвид также посчитал необходимым представиться тому, кто звонил. Далее он молча слушал, о чем говорил ему майор. Затем случилось невероятное. Повинуясь какому-то внутреннему душевному порыву, и это будет в дальнейшем иметь для него немаловажное значение, Сеттиньяз впервые сделал ложное служебное заявление:
– Не верьте тому, что говорит этот юноша. Он гораздо старше и опытнее, чем кажется. Относитесь к нему доверительно, ведь он работает на OSS[6], к тому же он один из лучших агентов. Постарайтесь в точности исполнить все, о чем он будет просить.
Дэвид закончил этот неожиданный разговор и повесил трубку. Только теперь он мог по-настоящему обдумать то, что произошло. Он стал искать мотивы, побудившие его совершить откровенную глупость. Он решил, что должен рассказать обо всем Таррасу, чтобы отчасти снять с себя ответственность, а главное, сообщить о ситуации, в которой оказался молодой Климрод.
Четвертым мужчиной, совершенно незнакомым Ребу, был тот, кого он искал, – фотограф Карл-Хайнц Лотар. Высокий полный мужчина с красным лицом и маленькими, почти женскими ручками оказался тем, ради кого Реб преодолел длинный и тяжелый путь. Под каменными сводами было довольно холодно, но по лицу фотографа струился пот и его била мелкая дрожь.
С осени 1940 и до марта 1945 года в замке Хартхайм работали два австрийских фотографа. Один из них до сих пор живет в Линце. Его упоминает в своих мемуарах Симон Визенталь, называя Бруно Брукнером.
Второй фотограф – Карл-Хайнц Лотар. В середине октября 1940 года его вызвали в Gauleitung[7] и спросили, может ли он выполнять отдельные фотоработы, сохраняя их в полнейшей секретности. За работу предложили триста марок в месяц. Лотар согласился, и его сразу на автомобиле отвезли в «санаторий». Так именовали замок Хартхайм.
Комендантом упомянутого заведения был тогда капитан Вирт, получивший впоследствии в качестве вознаграждения за отличную работу должность директора главного управления концлагерями в Польше (Белжец, Собибор, Треблинка).
Через некоторое время пост коменданта в Хартхайме занял Франц Штангль, ставший впоследствии начальником лагеря Треблинка.
Медицинскую часть «санатория» возглавлял врач Рудольф Лохауэр[8] из Линца, а его помощником был доктор Георгий Ренно[9].
Капитан Вирт объяснил Лотару его обязанности: он должен будет обеспечивать фотосъемку высочайшего качества, фотографируя больных, на которых врачи Хартхайма производили опыты. Фотосъемок будет не менее тридцати-сорока в день. Эти опыты ставились для изобретения самых эффективных способов массового уничтожения людей и использования их с целью создания в дальнейшем специальных промышленных технологий. При этом следовало разработать строго научную шкалу страданий, которые может вытерпеть человек, прежде чем его жизнь остановится.
Лотару поручили фотографировать и снимать на кинопленку головной мозг подопытных узников. Их мозг обнажали, вскрывая свод черепа для того, чтобы в момент смерти зафиксировать видимые изменения.
Это была первая, но не самая главная задача «санатория» в Хартхайме. В действительности в замке был создан и действовал центр по подготовке «специалистов», которых по завершении курса «обучения» направляли в различные концентрационные лагеря для уничтожения людей. О его создании было объявлено Гиммлером на совещании в Ваннзее в январе 1941 года (факты свидетельствуют о том, что этот вопрос рассматривался и раньше). Поэтому «санаторий» Хартхайм был не единственным заведением подобного типа[10].
Работать было сложно. Часто Лотару приходилось снимать через небольшое отверстие в двери, когда производились эксперименты с газовыми душегубками. Он долго не мог привыкнуть к запахам кремационной печи. За время своей работы в замке он сфотографировал не меньше двух третей от общего числа людей, уничтоженных в Хартхайме.
Но главным, что его смущало и даже мешало его работе, было то обстоятельство, что большая часть из тридцати тысяч узников Хартхайма были христианами: немцами, австрийцами, чехами, привезенными в Хартхайм в рамках программы «Vernichtung Lebesunwerten Lebens» – «Уничтожение живых, недостойных жизни». Она была разработана по приказу Гитлера, а выполнение ее контролировал Мартин Борман. Эта программа предусматривала уничтожение физически и умственно неполноценных, неизлечимо больных и просто стариков, которых отнесли в категорию «лишних ртов». Среди этих несчастных подопытных не было ни одного еврея, поскольку считалось: честь умереть в «санаториях» Хартхайма, Графенега, Гадамара или Зонненштайна предоставлялась только истинным арийцам[11].
– Ты ведь хотел удостовериться, что твой отец погиб здесь, в Хартхайме, – произнес Эпке. – И это действительно случилось здесь.
– Это неправда, я вам не верю, – произнес Реб убитым, дрожащим от потрясения голосом. – Я знаю – он жив.
На лице Эпке появилось что-то вроде ухмылки. Реб засомневался, что этот человек действительно Эпке. Уж очень он белокурый, скорее белесый, даже брови слились с его прозрачной кожей. Да и говорил он не на чистом немецком. В произношении слышался акцент жителей Прибалтийских государств: Эстонии, Латвии и, может быть, даже Литвы. Глядя на страдающего юношу, Эпке еще раз усмехнулся и покачал головой. На какое-то время Ребу показалось, что перед ним учитель, который недоволен ответом своего ученика.
– Мой отец жив, а вы врете, – уже более уверенно произнес Реб.
Он производил впечатление сильно испуганного подростка. Совершенно обессиленный, он стоял прислонившись к стене, а возле его виска все еще было дуло пистолета. Он обвел взглядом окруживших его четверых мужчин. Глаза юноши остановились на Лотаре, истекающем потом. За спиной фотографа находилось подвальное окно, зарешеченное железными прутьями. Стекло в окне было запыленным, но через него все же можно было рассмотреть, что происходит на улице.
– Надо с этим заканчивать, – произнес Эпке.
Воцарилась недолгая пауза. Собравшись, Реб довольно спокойно произнес:
– Отец оставил мне письмо…
Так же внезапно Реб замолчал, будто поняв, что сказал лишнее. Однако Эпке тут же отреагировал, его блеклые глаза мгновенно оживились.
– Где это письмо?
– Я уверен, что мой отец жив.
Через полукруг подвального окна видны были прохожие на улице, вернее, только их ноги – от обуви до колен. Уличный шум в помещение не проникал. Мужчина в кованых ботинках уже не раз прошел мимо окна. Затем он остановился. По положению его ног было понятно, что стоит он если не напротив подвального окна, то точно напротив дома, в котором находились сейчас Реб и четверо мужчин, взявших его в плен.
Опустив голову, Реб ответил:
– Письмо я оставил в Вене.
– И где же, в каком месте?
– Этого я вам не скажу.
Он произнес эти слова, как обиженный мальчишка. Эпке снова с недоверием посмотрел на юношу.
– Хорошо, – сказал он и, не оборачиваясь к Лотару, дал ему указание: – Найди фотографии его отца.
Толстый фотограф смахнул своими женскими ручками пот с лица.
– Чтобы найти фотографии, я должен знать дату и год.
– Двадцатые числа августа 1941 года, – улыбаясь Ребу, ответил Эпке. – После того как увидишь фотографии, ты расскажешь мне все об этом письме, малыш.
Эпке снова улыбнулся, что было больше похоже на ухмылку. Лотар уже стоял на коленях около одного из шести металлических ящиков. Через несколько мгновений он открыл его, и Реб увидел ряды аккуратно составленных негативов и отпечатков. Пальцы Лотара ловко перебирали этикетки, наклеенные на каждом снимке. Реб стояв опустив голову, в помещении повисло молчание, слышался только шелест бумаги.
– Климрод! Съемка от 21 августа 1941 года, – произнес Лотар.
В этот же момент крепкая рука приподняла опущенный подбородок Реба. Веки юноши были плотно сжаты, а на лице застыла чудовищная гримаса страха. На этот раз ему было не до уловок.
– Открой глаза, мальчик. Ведь ты ради этого отправился в Райхенау, а сейчас пришел из Вены сюда, в Зальцбург.
Реб протянул руку и взял фотографии. Их было три, они были сделаны через застекленный глазок. Его отец с атрофированными ногами совершенно голым ползал по полу, цепляясь ногтями за цементный пол. Видно было, что снимки сделаны с интервалом в пятнадцать – двадцать секунд. На них были зафиксированы стадии наступления удушья. На третьем снимке было отчетливо видно, что изо рта человека течет кровь, и даже виднелся кончик языка, который мученик откусил сам себе.
Державшая Реба рука ослабила хватку, и он рухнул на колени. С невероятным усилием он прислонился к прохладной стене.
– Немедленно сожгите все это, – крикнул Эпке.
Двое мужчин, одетых в форму санитаров, сбили с ящиков замки и облили их содержимое бензином.
– Это твоя личная коллекция, Лотар, – с издевкой сказал Эпке. – Значит, ты собрал ее для себя?
Через несколько секунд раздался выстрел. От удара девятимиллиметровой пулей, выпущенной прямо в рот фотографу, его отбросило на один из уже охваченных пламенем ящиков.
– Пусть сгорит вместе со своими сокровищами, – закричал Эпке и повернулся к Ребу. – А теперь твоя очередь, малыш. Расскажи-ка мне о письме отца.
Ствол пистолета метнулся к голове Реба и уперся в переносицу. Без сомнения, пуля в любую секунду могла лишить его жизни. Однако именно это движение Эпке и спасло Реба. Сотрудники военной полиции, стоявшие у окон фотолаборатории, неправильно поняли смысл его жеста и открыли шквальный огонь по помещению. Две очереди прошили Эпке в ту секунду, когда в подвале загромыхали взрывы вспыхнувшего бензина. Языки пламени осветили стены подвала. Эпке рухнул прямо на Реба. Именно это обстоятельство помогло юноше остаться в живых. Он отделался небольшой царапиной на правом предплечье.
Один из оставшихся мужчин попытался бежать, но был в упор застрелен на пороге стеклянной двери с колокольчиком. Второй бросил в окно канистру с бензином, который мгновенно вспыхнул. Этим он ничего не добился, поскольку сам тут же стал живым факелом, и его из жалости пристрелили ворвавшиеся в помещение полицейские.
Реба вытащили на улицу. Он был весь в крови, но не в своей, а в чужой. Им занялся французский майор. На все вопросы военного и его переводчика-австрийца он отвечал невнятно. Юноша находился в шоке, его речь была бессмысленной. Он лишь смотрел на всех огромными серыми глазами.
Когда Реба отпустили, он сам пришел во французскую военную полицию Зальцбурга, чтобы попросить помощи. После его появления там раздался телефонный звонок, на который ответил Сеттиньяз. Юноша утверждал, что действовал по указанию капитана Тарраса из Линца. Он заявил о военных преступниках, на след которых ему удалось напасть. То, что Реб выбрал именно французскую военную полицию, было не случайно: из трех великих держав именно французы были самыми активными в поисках преступников павшего Третьего рейха.
Через пять часов после случившегося в Зальцбург прибыл Таррас. Он решил лично прикрыть ложь Сеттиньяза, даже если придется выяснять отношения с начальником OSS в Линце. Им был капитан О'Мира.
Таррасу удалось уладить дело, употребив свой едкий сарказм. Этому, кстати, очень способствовал обыск в доме Карла-Хайнца Лотара, в результате которого выяснилось, что женщина, встретившая Реба, здесь вовсе не проживала, а фотографа рано утром увезли трое неизвестных мужчин. Забрали также его ящики, содержимое которых их очень интересовало. Впоследствии они были найдены обгоревшими в фотолаборатории.
– Чем вы недовольны? – спросил Таррас у полицейских Зальцбурга. – Здесь все ясно: фотограф Лотар собрал документы, которые были прямым свидетельством преступлений нацистов. Именно поэтому они так стремились их заполучить и уничтожить. Это ведь ясно как божий день! Наш юный агент нарушил инструкции по выслеживанию военных преступников. Но ведь и его можно понять: его мать и сестры погибли в концлагере в Польше, да и сам он уцелел чудом. Его действия объясняются именно этими фактами. В настоящее время он пребывает в состоянии шока. Ему надо прийти в себя и восстановить силы…
Таррас доставил Реба Климрода в госпиталь в Линце. Он также пытался расспросить юношу о произошедшем. Но Реб все еще был в состоянии шока и не мог внятно произнести даже несколько слов. Его физическое и душевное состояние вызывало беспокойство. Но самым тревожным было то, что потухли его глаза, излучавшие столь дивный свет и так магически действовавшие на Тарраса и Сеттиньяза. У них сложилось впечатление, что у Реба начал проявляться так называемый «синдром концлагерей», которым страдало большинство узников. Пережив первую радость освобождения, они впадали в тяжелейшую депрессию.
Дэвид Сеттиньяз дважды навещал Реба в госпитале, но парень по-прежнему молчал. После бесед с ним у Дэвида сложилось впечатление, что Реб совсем ничего не помнит и не знает о своей семье, об отце, которого он так упорно разыскивал. Он не произнес ни звука о тех людях, которые его чуть не убили. Не заговорил он и об Эрихе Штейре, человеке, который ограбил их особняк и, вероятно, уничтожил его отца. Не заикнулся он и о том, что душа его переполнена чувством ненависти и мести к этому нацистскому преступнику.
Во второй раз Реб Климрод исчез 7 августа 1945 года. Оба американца пришли к единодушному мнению: юношу с загадочными серыми глазами они больше не увидят.
8
Елизар Баразани приехал в Австрию в конце мая 1945 года. Этот невысокий мужчина, худощавый и неизменно галантный, родился в Палестине. Звание капитана он получил, сражаясь в Ливии в составе диверсионных частей армии Ее Королевского Величества. Баразани имел очень четкое задание: вербовать бывших узников концлагерей, предпочтительно молодых и даже совсем юных парней и девушек, и тайно переправлять их в Палестину. Следовало подбирать таких узников, кто способен был использовать силу своей ненависти, приобретенной в концлагерях.
Реба Климрода он увидел 5 июля 1945 года, но не обратил на него особого внимания. Парень имел нееврейскую фамилию и был в таком физическом и психическом состоянии, что в ближайшие несколько недель и даже месяцев не могло идти и речи о его нелегальной эмиграции.
Впрочем, отправиться в Палестину Реб не мог еще и по другой причине. В этот день представитель Еврейской бригады нашел двух других кандидатов. Одного из парней тоже звали Реб, а полностью – Реб Яэль Байниш. Он был евреем из Польши. В концлагерь Маутхаузен прибыл из Бухенвальда в конце зимы 1944 года. Его привезли в эшелоне вместе с тремя тысячами других узников. Вместе с ним в эшелоне находились Симон Визенталь и князь Радзивилл.
Более тысячи человек по дороге умерли. Байнишу было тогда девятнадцать лет.
В палате койки Баразани и Байниша стояли недалеко одна от другой. Они часто общались на идише. На Реба Климрода, также лежавшего буквально в метре, Баразани не обратил особого внимания. Он отлично знал иврит и английский, но на идише изъяснялся с трудом. Именно этим он и привлек внимание Реба Климрода.
Получив предложение перебраться в Палестину, Яэль Байниш тут же дал согласие. Он готов был сделать это немедленно, сразу же, как только позволит здоровье. Перед самым приходом в Маутхаузен танков американской армии эсэсовец ударил его прикладом автомата и перебил шейку бедра. Так Яэль оказался в палате «блока смерти». Но пришло спасение, и его жизнь в настоящее время была вне опасности.
Баразани пообещал парню, что придет через две недели. Он выполнил свое обещание.
– Мне необходимо поговорить с вами, – произнес юноша на иврите.
Баразани обернулся, но в коридоре госпиталя было пусто. Минуту спустя Баразани все же разглядел в углу у колонны высокого худого человека. Он стоял в двух шагах от двери, из которой недавно вышел. Лицо незнакомого юноши ни о чем Баразани не говорило. Однако взгляд его был необыкновенно пристальным, манящим.
– Кто вы?
– Я Реб Михаэль Климрод, сосед по палате Яэля Байниша.
Его разговор на иврите был абсолютно грамотным, хотя слова он произносил довольно медленно, с едва уловимым акцентом, присущим франкоговорящим людям. Иногда он запинался, что обычно бывает, когда человек вновь начинает говорить на почти забытом языке. Он сразу же ответил на главный вопрос Баразани.
– Моя мать Ханна Ицкович родилась и выросла во Львове. Она была еврейкой. Ее и моих сестер держали в Белжеце. Отец научил меня французскому, мать – ивриту и идишу. Я знаю итальянский и немного испанский. Сейчас изучаю английский.
Худое тело парня задвигалось, и он протянул Баразани свою длинную тощую руку, в которой держал книгу Уитмена «Autumn Leaves». Его пристальный взгляд словно загипнотизировал палестинца, он даже почувствовал какую-то неловкость.
– Сколько вам лет?
– Мне исполнится семнадцать 18 сентября этого года.
– А что вам нужно от меня?
– Я очень хочу уехать в Палестину вместе с Байнишем. Возможно, будут и другие желающие.
Возраст юноши не смущал Баразани. Большинство членов организации «Эретц Исраэл» («Земля Израиля») были в том возрасте, который считался достаточно зрелым для борьбы, по крайней мере, для таких подпольных групп, как «Иргун» и «Штерн». Его смущало другое: попытки проникновения в их ряды англичан с целью срыва массовой эмиграции евреев. Этого лондонские политики очень боялись.
– Ты был в Маутхаузене?
– Да.
– Я проверю буквально все, что ты сейчас сказал.
Большие серые глаза парня не мигая смотрели на Баразани.
– Если бы вы этого не сделали, это было бы вашей грубейшей ошибкой. Я не требую ответа немедленно, поскольку не отношусь серьезно к тем людям, для которых вербовка агентов – дело всего лишь нескольких минут. К тому же я еще не совсем здоров.
– А когда же вы сможете уехать?
– Срок вы назвали сами. Тогда же, когда и Яэль Байниш, – через две недели.
Баразани сделал все, как и обещал Ребу. Он организовал специальную встречу в Линце с членами Еврейского комитета, в ряды которого входил и Симон Визенталь. Фамилия Климрод была им незнакома. Лишь один человек сказал, что встречал Реба в Маутхаузене: «Тогда он был загримирован под женщину и находился в окружении офицеров СС». В Леондинге Баразани разыскал мужчин и женщин, которые прежде жили во Львове. Никто из них не знал Ханну Ицкович-Климрод и ее троих детей и не встречал их в июле 1941 года в своем городе.
На следующий день капитан Баразани отчитывался перед своим шефом Ашером Бен-Натаном[12], отвечающим за сбор австрийских евреев в американской зоне влияния. Он высказал свои сомнения насчет Реба Климрода:
– Для своего возраста он слишком умен. Когда я с ним беседую, то испытываю ощущение, будто он взрослый, а я трехлетний мальчишка. Соображает он очень быстро. Когда я задаю ему вопрос, то, не успев договорить, получаю ответ.
– Вот именно это вас и смущает, – с улыбкой ответил Бен-Натан. – Лично мне это тоже мешало бы.
Обсудив ситуацию, они приняли решение, что следует довериться интуиции Баразани.
Ровно через две недели, как и обещал, Баразани появился у Яэля Байниша и Реба Климрода. Он пришел к ним с решением и объявил, что они оба покидают Линц в ночь с 6 на 7 августа.
Капитан Баразани действительно нашел достаточно удачный вариант, согласно которому Байниш должен будет приглядывать за Климродом. Это была первая мера предосторожности.
Вторая заключалась в том, что он отправил в Тель-Авив специальное сообщение, в котором поручал опеку над Ребом Климродом Дову Лазарусу.
Это происходило в час ночи 7 августа 1945 года. Яэлю Байнишу нужна была помощь – у него еще плохо сгибалась в бедренном суставе правая нога. Реб Климрод подал ему руку и помог забраться в кузов автомобиля. Здесь уже находились десять парней и пять девушек в возрасте от семнадцати до двадцати пяти лет. Люди сидели молча. Вскоре задний борт машины закрыли, опустили брезент, прикрыв кузов сзади. Заработал мотор, и грузовик тронулся с места.
…Госпиталь Реб и Яэль покинули задолго до назначенного времени. Они прошли через весь Линц, обойдя при этом центр города, и добрались наконец до первого пункта сбора. Это был портовый пакгауз на берегу Дуная. Здесь к ним присоединились двое парней и одна девушка, однако добираться до последнего пункта назначения решили поодиночке. Они должны были встретиться на южном выезде из города, на дороге, ведущей в Санкт-Флориан.
Ребу Климроду были неизвестны место и время сбора группы, а также условия их перемещения за границу, но он и не пытался это узнать.
Грузовик ехал без остановок более четырех часов. Первая остановка была совсем короткой – только для того, чтобы пассажиры могли справить естественные надобности. Выбравшись из кузова, Реб увидел горы, вершин которых уже коснулось восходящее солнце. Он не знал, что это за горы, не знал их и Байниш, который вообще об Австрии почти не имел представления. Один из мужчин сказал по-польски, что лежащее к северу от Бадгастайна ущелье называется Кламм. Байниш, услышав это, тихонько засмеялся и произнес: «Он отлично понимает польский, не трудись с переводом».
Дальше они ехали еще часа два, наблюдая, как яркое утреннее солнце австрийского лета пробивается сквозь щели брезентового тента. Весь день 7 августа они провели на заброшенной ферме в Игльсе, на склонах Патсхеркофеля. С наступлением темноты, примерно в одиннадцать вечера, снова тронулись в путь. Вскоре проехали Инсбрук, где Реб услышал, как два человека, скорее всего солдаты, разговаривали между собой на французском. Далее они ехали по железнодорожному туннелю в Миттенвальде. Реб узнал эту дорогу, узнал легкий шум реки Инн, которую он отлично помнил. В 1938 году он провел здесь летние каникулы, организованные гимназией, в которой он учился, опережая на два класса своих сверстников.
Создавалось впечатление, что они направляются в Швейцарию, однако перед Ландеком грузовик повернул налево. Оставив позади предгорья Альп, он покатил в сторону Пфундса и Наудерса, к перевалу Решен. Примерно через час машина остановилась, освободилась от своего груза и тут же укатила обратно.
Дальше пошли пешком. Их проводником был молодой парень, совершенно неожиданно появившийся из темноты и на немецком языке приказавший всем соблюдать полную тишину. Три часа они двигались под прикрытием ночи, пока добрались до плохо освещенной гостиницы.
В помещение они проникли не через главный вход, а по боковой лестнице, которая вела на широкий, оформленный в тирольском стиле балкон. Отсюда они попали на второй этаж здания. Здесь уже была группа из двадцати эмигрантов. Следовало соблюдать полную тишину, поэтому всем пришлось снять обувь, чтобы на первом этаже не было слышно шагов.
…Группа постояльцев, прибывших сюда раньше, вела себя также очень тихо. Через некоторое время Реб выглянул в окно и увидел стоящих возле гостиницы мужчин, молодых и не очень. Несмотря на то что люди были одеты в дорогие гражданские костюмы и держали в руках дорогие чемоданы, в их внешнем виде отчетливо прослеживалась военная выправка. Мужчины с опаской вошли в здание. В холле послышались громкие возгласы, которые, впрочем, быстро стихли.
Обстановка была спокойной, по гостинице сновала лишь прислуга.
Яэль вплотную приблизился к Ребу и спросил:
– Ты думаешь о том же, о чем и я?
В ответ Реб молча кивнул. Через пол они слышали, как только что прибывшая группа устраивается на ночлег. Если лечь на пол, вполне можно услышать, о чем говорят внизу, хотя разговоры велись шепотом.
Тонкие черты лица Яэля Байниша, одного из немногих уцелевших узников варшавского гетто, исказила гримаса ненависти.
– Ведь это сбежавшие нацисты! – прошипел парень и заплакал от бессильной ярости.
День 8 августа постояльцы гостиницы провели в страшном соседстве. Реб и Яэль не исключали, что в гостинице, расположенной на перевале Решен, на расстоянии в несколько метров одновременно находились выжившие узники Маутхаузена и других концлагерей и их бывшие палачи – сбежавшие нацисты. Получается, что их кормила одна и та же гостиничная прислуга, а через границу переводили одни и те же контрабандисты.
Реб Климрод знал, что среди них нет Эриха Штейра. Дэвиду Сеттиньязу также было известно, что его там нет и быть не может. Даты не совпадали, хотя маршрут был тот же.
Следующей ночью они переходили итальянскую границу. Но сначала через нее были переправлены сбежавшие преступники-нацисты и только через два часа после них группа евреев.
В Италии Реба Климрода и его спутников, которых было уже больше сотни, ждала ничем не замаскированная колонна грузовиков. Число людей, направляющихся в Палестину, сильно возросло из-за того, что несколько дней назад через перевал Решен переправились еще несколько групп, уже поджидавших остальных на ферме, расположенной на итальянском склоне Альп.
Яэль Байниш был весельчаком, наделенным острым чувством юмора и способностью все высмеивать. В Маутхаузене он мог неоднократно попрощаться с жизнью только за то, что передразнивал походку и манеры охранников. Спускаясь с перевала, он беспрестанно напевал, иногда даже не совсем приличные песни. С большим вдохновением он изображал некоего Шлоймеля, жителя его родной деревни Крешев, недалеко от Люблина в Польше. Этот человек был раввином или кем-то в этом роде.
Внезапно перед ними затормозил и остановился грузовик. Все, даже излишне активный Яэль Байниш, застыли как вкопанные. Грузовики и военная форма говорили о том, что перед ними солдаты 412-й транспортной роты армии Ее Королевского Величества. Благодаря их прикрытию группе удастся преодолеть все преграды, которые создавала им Великобритания. Они перейдут границу и проберутся на юг Италии. Далее они поплывут в «Эретц Исраэл».
В действительности 412-й транспортной роты не существовало. Она была придумана и создана по инициативе Иегуди Арази, резидента «Моссада»[13]. Он находился в Италии, а англичане и их союзники разыскивали этого человека в Палестине. В составе союзников были и британские военные формирования, в личный состав которых были внедрены палестинские евреи.
Среди этих евреев были четыре сержанта. Один из них, Элияху Коэн по кличке Бен-Гур, создал в кибуцах «Палмах» – оборонительный отряд «Хаганы» и ядро будущей израильской армии. Вместе с четырьмя сержантами Арази разработал хитроумный план, главная цель которого заключалась в том, чтобы максимально использовать материальные ресурсы – разного рода снаряжение и продовольствие, принадлежащие армии Ее Величества.
Арази обеспечил радиосвязь между Неаполем и Парижем, Марселем и Афинами. Краденый радиопередатчик работал в городке близ Мадженты, что в тридцати километрах от Милана, обеспечивая контакт с руководителями «Хаганы» в Тель-Авиве.
В Италии Арази создал фиктивную воинскую часть. В его распоряжении находились автомобили и люди, свободно изъясняющиеся на английском. Солдаты и офицеры были одеты в надлежащую военную форму. У всех имелись поддельные документы. Дислоцировалась эта «липовая» часть в большом гараже, расположенном в центре Милана. Этот гараж, кстати, официально принадлежал британской армии. Действовал подпольный цех по изготовлению фиктивных бланков, удостоверений, командировочных предписаний и прочих бумаг, необходимых для документального обеспечения поддельной роты. Вот так была создана и функционировала 412-я часть британской армии[14].
Группа в составе тридцати пяти нелегальных эмигрантов 21 августа 1945 года погрузилась на рыболовецкое судно под названием «Далин». В действительности это судно называлось «Сириус». Настоящим портом его приписки было местечко Монополи, расположенное в южном направлении по Адриатическому побережью. Это первое секретное послевоенное судно через неделю приплыло к берегам Цезареи. На его борту находились знакомые нам герои – Реб Климрод и Яэль Байниш.
2
О боже! (англ.) – Прим. перев.
3
Приказ есть приказ (нем.). – Прим. перев.
4
Полуеврей, согласно нацистской терминологии.
5
От нем. Jude – еврей. – Прим. перев.
6
Управление стратегического обеспечения США (пропаганда, стратегическая разведка, организация диверсий и т. п.). – Прим. перев.
7
Областное управление (нем.). – Прим. перев.
8
Он покончил жизнь самоубийством вместе со всей своей семьей – женой и детьми, в конце апреля 1945 года.
9
Арестован в 1963 году во Франкфурте.
10
Существовало еще три подобных центра: замок Графенег возле Бранденбурга, в 40 километрах от Потсдама, замок Гадамар близ Лимбурга, между Кобленцем и Франкфуртом, замок Зонненштайн в Саксонии.
11
Бывший австрийский министр Альфонс Форбах чудом избежал этой участи. Он, будучи практически инвалидом преклонного возраста, уже был отобран для Хартхайма, но буквально в последнюю минуту спасся: благодаря каллиграфическому почерку его назначили секретарем в Дахау. Начиная с 1943 года в Хартхайм поступали французские военнопленные, так как богадельни и приюты для стариков и инвалидов не присылали достаточного количества подопытных.
12
Будущий посол Израиля во Франции.
13
«Моссад Алиа Бет» – организации, созданная в 1937 году в Тель-Авиве «Хаганой» – отрядами самообороны в еврейских поселениях Палестины. Целью «Моссада» было любыми средствами, особенно путем заселения эмигрантами, укреплять эти поселения. «Алиа» в буквальном переводе означает «взлет».
14
Эту преступную аферу англичане обнаружили лишь в апреле 1946 года, да и то случайно.