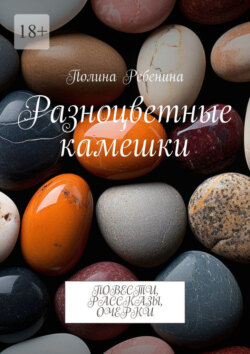Читать книгу Разноцветные камешки. Повести, рассказы, очерки - Полина Ребенина - Страница 5
Голографический мозг
ОглавлениеНачалось мое увлечение деятельностью человеческого мозга еще в то время, когда я училась в 1-м Ленинградском медицинском институте. На пятом курсе мы, студенты, проходили курс психиатрии. Перед нами один за другим проходили пациенты, вполне здоровые физически, но находившиеся во власти странных, чудовищных галлюцинаций. Они жили в собственном бредовом мире. И вылечить их было невозможно, единственное, что помогало, это введение сильнейших успокоительных лекарств – нейролептиков. Эти средства их кипучую бредовую симптоматику притормаживали, хотя болезненные мысли никуда не уходили. Но хорошо было и то, что эти пациенты становились не столь опасными для окружающих.
Это настолько меня поразило, что я решила посвятить свою жизнь исследованию человеческого мозга, чтобы понять его работу, а, следовательно, и природу загадочных психических заболеваний.
Училась я очень хорошо, не знала, что такое оценка четыре, все экзамены сдавала лишь на отлично. Поэтому после окончания института, учитывая мое пожелание, меня пригласили в аспирантуру Института Экспериментальной медицины имени И. П. Павлова, где я занялась изучением мозга на самом высоком профессиональном уровне. Отдавалась этому увлечению страстно, до фанатизма. Освоила сложнейшие методики по вживлению электродов и особых микроканюль – химиотродов в структуры мозга экспериментальных животных и проверяла действие электрической и химической стимуляции на мышление и память. Одна такая операция по вживлению электродов в мозг собаки занимала десять – двенадцать часов. Собрала экспериментальный материал, а потом написала и успешно защитила диссертацию на тему «Функциональное значение стриопаллидарной системы мозга в процессах фармакологического управления памятью».
К стриопаллидарной системе относят базальные ганглии, то есть ядра, лежащие в глубине полушарий головного мозга – хвостатое ядро, скорлупа и бледный шар. Во второй половине XX века считалось, что они являются частью экстрапирамидной двигательной системы, то есть участвуют в тонкой регуляции мышечного тонуса и в координации движений. Однако результаты моих исследований показали совсем другой результат, указав на то, что эти мозговые структуры также принимают участие в процессах краткосрочной и долгосрочной памяти.
Я была приглашена на международный симпозиум в Болгарию, в Софию, с докладом по проведенному мной исследованию. Страшно волновалась, и не только по причине такого представительного форума, но главное из-за того, что полученные мной результаты не вписывались в принятую в то время концепцию о деятельности стриопаллидарной системы мозга. Но мой руководитель, всемирно известный фармаколог академик Сергей Викторович Аничков, меня похлопал по плечу и успокоил:
– Не бойся, докладывай, как есть, экспериментальный результат превыше всего! Помни, Сократ мне друг, но истина дороже!
Конечно, как я и ожидала, посыпались удивленные вопросы: «Однако, что вы говорите? Ведь согласно американским исследованиям эти мозговые структуры отвечают за регуляцию двигательной активности, и, следовательно, никак не связаны с мышлением и памятью!» Пришлось отстаивать мою позицию, противопоставляя этой догме не только мои экспериментальные данные, но и аргументы других исследователей, обнаруженные мной в научной литературе.
Но еще многие годы не покидало меня чувство внутреннего беспокойства и некоторого разочарования. Как же так, ведь не жалела себя, столько времени и сил положила, так старалась быть честной и объективной, но получила неожиданный результат. Почему-то мои эксперименты показывали совсем не в ту сторону, что общепринятая научная концепция. И только, стоящий на недосягаемой высоте авторитет моего руководителя, меня поддержал. Он разбирался во всех тонкостях моей работы, и верил в полученные мной результаты, а все окружающие, в свою очередь, полностью доверяли и не решались противоречить ему.
Время шло, я переключилась на другую научную тематику – занялась геронтологией- наукой о старении, а позднее перешла на практическую врачебную работу. Но иногда, по старой памяти, все-таки интересовалась последними достижениями в области нейрофизиологии и нейрофармакологии мозга. И вот стала замечать, что все больше научных данных свидетельствовало о том, что память не сидит только в гиппокампе, как и эмоции не находятся только под контролем лимбических структур, и даже мышление- не определяется лишь одной корой больших полушарий.
Стали всплывать ортодоксальные факты, указывающие на необыкновенную пластичность и взаимосвязь мозговых структур в выполнении сложных функций. Как, например, объяснить, что Пастер, который вследствие тяжелого инсульта жил лишь с одной половиной мозга, несмотря на это оставался нормально функционирующим человеком и даже гениальным микробиологом. А следовательно, стали все больше признавать взаимосвязь и взаимозависимость различных структур мозга при выполнении сложных центральных функций. А значит, что и стриопаллидарные структуры мозга регулируют не только двигательные реакции, но участвуют в сложных поведенческих актах и психофизиологических реакциях.
Собрав многие факты воедино, Карл Прибрам в конце 20-го века выдвинул теорию о голографической модели мозга. В начале у этой теории было мало сторонников, но к началу нашего столетия она стала широко известной и общепризнанной. И полученные мной когда-то факты вдруг стройно вписались в эту теорию, ведь согласно ей все структуры мозга участвуют в высшей нервной деятельности, и мозг функционирует как единой целое. Значит, память живет не только в гиппокампе, как думали еще двадцать – тридцать лет тому назад, а и в базальных ганглиях, которые я так долго и самоотверженно изучала. Что и требовалось доказать!
Все нейроны имеют древовидные разветвления, и когда электрический сигнал достигает конца одного такого разветвления, он распространяется далее в виде волн, точно таких, какие мы наблюдаем на поверхности воды. Поскольку нейроны тесно прилегают друг к другу, расходящиеся электрические волны постоянно налагаются друг на друга. Создаются нейронные голограммы, которые имеют множественную и тонкую природу. Они должны включать наши ментальные образы, наши надежды и страхи, наши подсознательные предубеждения, личные и культурные предпочтения и нашу веру в духовные и технические достижения.
Когда Прибрам увидел это своим мысленным взором, ему стало ясно, что волны могут создавать бесконечный калейдоскопичный ряд интерференционных картин, в которых и коренится адаптированность мозга к принципу голографии. «Голографический принцип неизменно фигурирует в волновой природе взаимодействия нервных клеток мозга, – пишет Прибрам. – Мы просто не могли себе этого представить».
Во всем мире ведутся интенсивные работы по исследованию мозга, однако, чем больше ученые узнают, тем больше возникает вопросов. Мозг человека загадочен и от разгадки этой тайны мы еще очень и очень далеки. Академик РАН и РАМН Н. П. Бехтерева признавалась: «Всю свою жизнь я посвятила изучению самого совершенного органа – человеческого мозга. И пришла к выводу, что возникновение такого чуда невозможно без Творца».