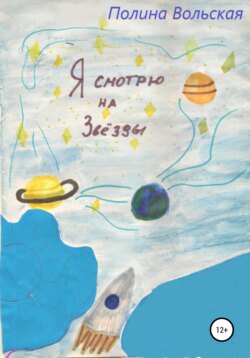Читать книгу Я смотрю на звёзды - Полина Вольская - Страница 17
Поступление в медицинский институт
Оглавление«Жизнь – трагедия для того, кто чувствует и
комедия для того, кто мыслит.»
Жан де Лабрюйер
В 1973 году я закончила 197-ю ленинградскую школу. Училась там 9-10 классы, она находилась на улице Петра Лаврова (ныне Фурштадская). Мы на этой улице и жили, в доме № 15 около метро «Чернышевская». Жила у бабы с дедом, но при каждой возможности ездила к маме и к папе в Борисову Гриву. Очень скучала по семье. В первый медицинский сдала биологию на «5», а химию на «2». Забрала документы, и мой дядя Валерий, психиатр (муж папиной сестры Тамары), устроил меня на работу в институт физиологии им. Павлова в Колтушах. Лаборантом в лабораторию кортико-висцеральной физиологии и патологии. Заведующим там был Курцин. Моей шефиней была Вера Васильевна, неплохая тётка, но с определённым сдвигом. Она познакомила меня с творчеством Владимира Высоцкого – дала послушать магнитофонные записи его песен. Тогда, в 1973 году, о нём вслух не говорили – Высоцкий был неугоден власти. Через меня и папа влюбился в этого гениального барда. Много позже, работая в Эрмитаже я наблюдала стадное увлечение песенным творчеством Высоцкого. Вера Васильевна помогла мне купить на первую зарплату (60 рублей) собаку, немецкую овчарку с родословной. Алдан был крупным чёрным щенком с чепрачными лапами. Очень активный, непослушный и весёлый. Я была счастлива, наконец, у меня появился мохнатый друг. Но когда мы с Вовой поженились и стали снимать квартиру, хозяева запретили жить там с животными и детьми. И вскоре собаку пришлось отдать на службу на финскую границу. Мы с Наташей страшно переживали в связи с расставанием с собакой. А Алдан был озабочен встречей с другими собаками, особенно суками. Их везли с Финляндского вокзала в обычном пассажирском вагоне.
Работая в институте физиологии, я выяснила, что медицина это кровь, гной, рвота, моча, кал, слюни. Это страдания и боль. В лаборатории ставили опыты над собаками. В спинной и головной мозг собак вживлялись электроды. Я, как лаборантка, должна была обрабатывать ватными тампонами с фурацилином раны. За день вокруг инородных тел образовывался гной. Я гуляла с собаками, кормила их сырым мясом, замоченным в молоке с булкой. Ребята – аспиранты приглашали: «Ирина, приходи, мы кролика зарезали, будем его есть и спирт пить!». Присутствовала на операциях, где препарировали собак и кроликов. Сидела, обняв бутылку с нашатырём. Рядом был антропойдник и виварий. Антропойдником заведовал человек с откусанными пальцами. Ему объели пальцы его же обезьяны, которые обиделись, что он надолго уехал. Вернувшись, он взялся за прутья клетки, а шимпанзе укусил его за кисть и долго не отпускал. Фамилия профессора – Фирсов.
Делаю вывод: моя врожденная брезгливость положила крест на медицинскую карьеру.
Карате
«Не повторяется такое никогда»
Осень, 1973-й год. Институт физиологии имени Павлова. Все организации, институты, музеи и библиотеки участвуют в жизни страны, и поэтому сотрудники ездят в колхозы и на овощебазы – помогают сельскому хозяйству. Нас 6 человек, самых молодых, отправляют в колхоз. Живём в бараке, убираем турнепс – двухлетнее растение семейства капустных (кормовая репа). Выращивают его на корм скоту. Мне – 18 лет. Мужики приехали отдохнуть от семей, начинают ухаживать. Один, особо наглый, заваливает меня на топчан, ложится сверху. Я с трудом вырываюсь, ору, приходят люди. Спасаюсь, но ужасно неприятно и чувство незащищённости не покидает до конца пребывания в колхозе. Возвращаемся домой. В метро на эскалаторе со мной заговаривает биолог из нашего института: «Хочешь заниматься карате? Сможешь сама себя защищать». Он был свидетелем той сцены «изнасилования». Конечно, я хочу. Биолог, он же тренер, Володя Кустов, назначил встречу в Мухинском училище, сейчас это училище Штиглица. Он там организовал полуподпольную секцию карате, снимал зал. Надо иметь в виду, что в СССР с конца 30-х годов все восточные боевые искусства были под строгим запретом. Мастера подвергались жестоким и безосновательным репрессиям. Многие были уничтожены как японские шпионы. Советские спортивные функционеры занимались пропагандой превосходства самбо над любыми единоборствами. В СССР существовали только самбо, борьба и бокс. В 1972 году было легализовано дзюдо, предпринимались попытки организовывать секции по занятиям карате в полулегальном режиме. Карате стало легальным видом спорта только во времена «перестройки» в 1989 году.
И вот первая тренировка. Вокруг – одни парни в белых кимоно, я – единственная девушка. Чтобы не выделяться, попросила бабушку сшить кимоно. У неё не было белой ткани, и она сшила из голубой. Заниматься было круто – полубалет, полугимнастика, очень нравилось – хорошая физическая нагрузка плюс растяжка. Приходила в голубом кимоно с длинными распущенными волосами, выглядела эффектно. К нам в секцию просилась страшненькая натурщица из училища, но её не взяли. Мальчики-каратисты были очень галантны и воспитанны. Но наступала другая эра – эра университета и с карате пришлось расстаться. Но это был очень интересный опыт. Однажды аспиранты-генетики из института физиологии позвали в поход. Мама не отпускала. «Они взрослые дядьки, а ты – ребёнок», – говорила она. «18 лет – ничего себе ребёнок». Я тайно собрала рюкзак и двинула в прихожую. Мама наперерез: «Не пущу!» Я разбежалась и с криком: «Поберегись!» снесла всё на своём пути и ушла в лес. Только сама, став матерью, я поняла, что могла чувствовать моя мамочка в этой ситуации.