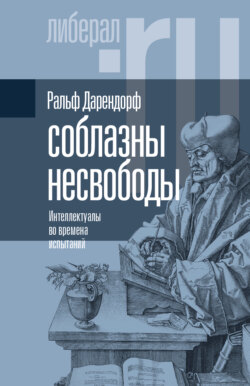Читать книгу Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний - Ральф Дарендорф - Страница 7
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
5. Невосприимчивые к соблазнам: Карл Поппер, Раймон Арон, Исайя Берлин
ОглавлениеНародная общность, вождь и романтическая метафорика преображения, с одной стороны, партия, надежда на построение земного рая и аура религиозности, с другой, – такими были соблазны несвободы в XX в. Сплоченность, наличие вождя и идея преображения были отличительными признаками фашизма; сплоченность, надежда на будущее и идея преображения – отличительными признаками коммунизма. Не слишком удивительно, что публичные интеллектуалы, особенно на протяжении pink decade1 – с первых лет экономического кризиса до пакта Гитлера–Сталина и начала Второй мировой войны, – поддавались либо одному, либо другому соблазну. В эти годы казалось, что повсюду царят бедность, безработица и социальная деградация, а парламенты и правительства бессильны с ними совладать. На всем лежали тени сомнения, оставленные катаклизмом Первой мировой войны: они придавали особенно манящую прелесть обманчивым зорям будущего, целиком сотканного из обещаний.
Не все, однако, поддались соблазнам несвободы, и наше исследование посвящено в первую очередь тем, кто устоял. Наиболее пристального внимания достойны три фигуры: Карл Поппер, Раймон Арон и Исайя Берлин. Все трое принадлежат к одному поколению, рожденному в первом десятилетии XX в. Это публичные интеллектуалы, которые своими сочинениями, докладами, лекциями, заявлениями в печати и т. п. существенно влияли на других. Они следили за пульсом эпохи; эпоха же вынудила всех троих, по меньшей мере на время, покинуть страны, где они родились. Эмиграция стала одной из причин международной известности этих философов, хотя они не слишком заботились о том, чтобы себя обессмертить. Я хорошо знал Поппера, Арона и Берлина и питаю к каждому из них чувство, которого заслуживают эти отзывчивые друзья.
Тут нужно отметить еврейское происхождение всех троих – во всяком случае, из-за гитлеровских гонений они обрели статус евреев заново, поскольку Поппер и Арон были крещены. Соблазн национал-социализма, таким образом, едва ли был для них значим. Они могли бы применить к себе слова Фрица Штерна: «Я был избавлен от соблазна не благодаря собственным заслугам, а потому, что я чистокровный неариец и соблазн для меня исключался в принципе». В следующих разделах нам встретятся другие персонажи, для которых этот фактор не действовал и которые все же старались не поддаваться соблазнам. Особенно показательным примером может служить Норберто Боббио, итальянский философ права и публичный интеллектуал.
Как бы то ни было, роковой день 30 января 1933 г.2 и последовавшие за ним события Раймон Арон пережил в Берлине. К этому времени он находился в Германии без малого три года. В 1930 г. молодой 25-летний философ, окончивший École Normale и получивший звание «агреже» (право преподавания в высшей школе), искал тему для диссертации. Он отправился в Германию, страну Гуссерля и Хайдеггера – и, что не менее важно, Макса Вебера. По рекомендации министерства иностранных дел Франции Арон поступил лектором в Кельнский университет. Немцы, с которыми Арон познакомился, ему нравились, несмотря на ясно ощутимый национализм и веяния времени в целом. Эта симпатия заметна в статьях, которые он начал писать для небольших французских газет. Но главное, о чем свидетельствуют статьи Арона, – это выбор определенного типа интеллектуального восприятия и действия: «С начала и до конца я выдерживал тон наблюдателя и, даже занимая определенную позицию, оставался почти так же холоден»3.
Так было и в дальнейшем, когда Арон сменил место работы, перейдя во Французский институт в Берлине, которым он руководил вплоть до октября 1933 г. (Позже он передал эстафету своему petit camarade4 по École Normale Жан-Полю Сартру, а сам, временно сменив Сартра, занял его место преподавателя философии в лицее Гавра.) В Берлине, таким образом, он пережил захват власти Гитлером, с отвращением слушал первые речи рейхсканцлера, но, стараясь «писать не как еврей, а как француз», опубликовал в те дни статью, в которой один пассаж, как он позже признался, содержал «уступку духу времени»: «Протест здорового жизнелюбия против утонченности и скептицизма не заслуживает ни презрения, ни иронии». Слова, выбранные автором, заставляют вспомнить «критическую» статью Адорно с отзывом о стихах Бальдура фон Шираха. Арона уберег от худшего его «темперамент», так что впоследствии он имел право утверждать: «Ясно, что искушение фашизмом меня не коснулось».
Первая книга Арона – непосредственный результат трехлетнего пребывания в Германии. Говоря точнее, его «Современная немецкая социология» ориентируется на Макса Вебера, чей интеллектуальный тип был Арону особенно близок. Как и Вебер, французский социальный философ пытался соединить в своей работе научный подход и неравнодушие к актуальным проблемам; как и Веберу, это удалось ему лишь отчасти. Наследие Арона включает в себя два с лишним десятка книг (в том числе достаточно объемных) и сотни, если не тысячи, статей и заметок. Здесь в первую очередь можно выделить три тематические области: философию истории, теорию международных отношений и критический анализ ключевых проблем современности.
Друзья Арона, наверное, сожалеют, что его ученые труды по философии истории и международной политике не нашли отклика, на который рассчитывал мэтр. К таким трудам относится, в частности, его двухтомник о Клаузевице и характере войны в прошлом и настоящем. Может быть, дело в чересчур академичном подходе к тематике, требующей более однозначной политической позиции? Или в том, что Арон всегда оставался на периферии scientific community5, которая свойственным только ей мистическим способом определяет, кто достоин включения в университетский канон и кто в него не вписывается?
Так или иначе, известность Арону принесли книги, посвященные актуальным проблемам современности. Среди них «Опиум интеллектуалов», достаточно ранняя критика тех, кто поддался коммунистическому соблазну. «Алжирская трагедия» Арона сделала его одним из основных участников бурных дискуссий о войне в Северной Африке, кончившейся (как он и желал) признанием независимости Алжира. «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе» определили язык целого десятилетия, когда США и Советский Союз представлялись двумя версиями одной и той же модерной социально-экономической модели. Эти и другие его книги пользовались большим успехом, оставаясь бестселлерами в течение года, иногда дольше. Они дополнили газетные статьи, принесшие Арону – по меньшей мере в Париже – репутацию автора, в чьем голосе слышится призвук англосаксонского здравомыслия.
Существует несколько биографий Раймона Арона. Но никто из друзей философа не сомневается, что наиболее долгая жизнь суждена его «Мемуарам»i. На 750 страницах французской версии Арон сумел преодолеть несовместимость различных граней своей жизни и своего мышления, убедительно раскрыв стоявшее за ними внутреннее единство личности. Тем самым он разрешил дилемму, надломившую Вебера, который так и не смог гармонично соединить в себе призвания ученого и политика.
Карл Попперii в начале 1930-х годов был целиком поглощен философскими занятиями. Он работал школьным учителем в Вене и слышал лишь громовые раскаты, доносившиеся из-за границы, – прошло два, даже три года, прежде чем события в Германии затронули его самого. К моменту захвата Гитлером власти 31-летний ученый не нуждался в теме научной работы, она у него была. Поппер, близкий к «Венскому кружку», интересовался пограничной областью на стыке теоретической физики и философии науки; в 1934 г. он опубликовал свой главный философский труд «Логика научного исследования»a. Окончательное (английское) издание этой книги, существенно переработанное и включающее 150 новых страниц, которыми ее дополнил автор, было напечатано в 1958 г. под названием The Logic of Scientific Discovery («Логика научного открытия»).
По образованию и складу ума Поппер был ученым-естественником. Его не привлекали ни преобладавшие в то время антирациональные течения в философии, ни попытки построить достоверную картину мира исключительно на основе изучения языка. Поппера интересовали научные методы и их применение вне границ естественных наук в узком смысле этого слова. Этот интерес натолкнул его на замечательную идею, важную для нашей темы. Она состоит в том, что мы, находясь внутри горизонта неопределенности, не можем приближаться к истине с помощью накопления наблюдений («фактов»), через индукцию, но можем делать это с помощью теорий, через дедукцию. Теории – это прожекторы, освещающие те или иные фрагменты действительности.
Любая теория – всего лишь гипотеза; она может быть ложной, и никакой объем накопленного индуктивного знания не доказывает ее истинности. (Поппер описывает свой «гипотетико-дедуктивный метод».) Напротив, достаточно единственного наблюдения, чтобы доказать ложность теории. Констатация ложности теории дает толчок к развитию новых, лучших гипотез или теорий. Успех познания, таким образом, состоит в опровержении старых теорий и замене их новыми. Наука – процесс проб и ошибок. Подход Поппера не раз оспаривали, но он доказал свою плодотворность, и не только для логики естественных наук.
Благодаря своей книге 33-летний ученый оказался в центре тогдашних философских дебатов. Время, однако, готовило ему другие испытания. Несмотря на все попытки его отца полностью ассимилироваться, Поппер ничего не мог поделать со своим еврейским происхождением. Отец признавался, что не хотел ранить своим еврейством чувства христианского окружения (ложная стыдливость, временами не чуждая и сыну) и тем самым только сильнее ранил чувства других евреев. Вспоминая позже об этих переживаниях ранних лет, Поппер заметил, что антисемитизм одинаково плох для евреев и неевреев. «Любой национализм и расизм – зло, и еврейский национализм не составляет исключения».
В синхронической таблице, представляющей события эпохи, факты личной биографии и научные труды Поппера, для бурных 1933 и 1934 гг. отсутствуют данные в биографической колонке. Поначалу в жизни молодого венского учителя, на досуге занимающегося наукой, ничто не изменилось. В эти годы он начинает ездить за границу, прежде всего в Англию – в Оксфорд и Лондон; поездки открывают ему дверь в широкий мир физики и философии. Поппер чувствует, что дома, в Вене, у него нет будущего. Получив приглашение работать в Кембридже, он его отклоняет: согласие означало бы переход на малопривлекательное положение беженца. Несколько позже, когда ему предлагают штатную должность профессора в новозеландском Крайстчерче, Поппер дает согласие и в 1937 г. отправляется в дальние края. Как ни парадоксально, там он становится публичным интеллектуалом, прежде всего благодаря своему вкладу в war effort6 (его собственное определение) – объемному труду «Открытое общество и его враги». Это двухтомное сочинение, содержащее полемику с Платоном, Гегелем и Марксом, представляет собой не что иное, как результат приложения попперовской научной логики к политике. В этой области, считал Поппер, тоже нужно бороться с догматизмом, на практике приводящим к тоталитаризму, утверждать метод проб и ошибок, не уступая настояниям правителей-философов, иначе говоря – представлениям о том, что государство может быть воплощением нравственной идеи и коммунистического рая на земле. Впоследствии Поппер, хотя его сердце по-прежнему принадлежало естественным наукам, развил эти мысли в статьях и интервью.
В 1933 г. не мог считаться публичным интеллектуалом и Исайя Берлинiii. И в частной, и в общественной жизни этот, без сомнения, блестящий, но крайне застенчивый выпускник философского факультета Оксфорда держался скромно. Как заметил его друг Стивен Спендер, Берлин «дистанцировался от волновавших [его и других] страстей». Это касалось скорее любовных, чем политических перипетий, но и последние, похоже, Исайю Берлина увлекали не чрезмерно. «Какую бы тему государственной жизни ни обсуждали, он старался не включаться в дискуссию», отмечает Ноэль Аннан, а Майкл Игнатьевb справедливо предполагает, что «будучи евреем, иностранцем и аутсайдером, Берлин не считал возможным высказывать свою точку зрения публично».
Для Исайи Берлина, родившегося в 1909 г. в Риге в зажиточной семье, которая в 1919 г. эмигрировала из России, был, так сказать, «заведомо исключен» соблазн коммунизма – второй из тех, что обсуждаем мы. «У меня никогда, – сказал Берлин в одном из последних интервью, – не было прокоммунистических симпатий. Никогда. Некоторые мои ровесники попадали в поле тяготения коммунизма, но для любого видевшего, как я, русскую революцию в действии просто не существовало такого соблазна. До 1919 г. я видел в России по-настоящему ужасные события».
В Оксфорде Берлин сосредоточился на преподавании, причем занял не совсем типичную позицию среди местных представителей аналитической философии. То, чем он интересовался, можно описать как практически ориентированную историю идей. Его складу ума наиболее отвечал жанр эссе. Или даже лекция – он был прирожденный преподаватель и мог фактически без конспекта знакомить слушателей с интеллектуальной историей, ее знаменитыми и менее известными фигурами. Однажды сквозняк унес с лекторской кафедры листок, на котором было что-то написано. Студент, поднявший его с пола, увидел всего два слова: «Руссо. Свобода».
Большинство эссе Берлина было издано с опозданием на несколько лет его учеником и ассистентом Генри Хардиc. Нередко они посвящены персонажам, которые принадлежали не столько к миру Просвещения, особенно ценимому Берлином, сколько к предыстории националистической, даже фашистской мысли, – Гаману, Гердеру, де Местру. Он постоянно возвращается к русским авторам – глубоко почитаемой Ахматовой, Пастернаку, к двум своим любимым писателям – Тургеневу и Толстому. Последнему мы обязаны темой одного из самых прекрасных эссе Берлина, которое называется «Еж и лиса».
В нем Берлин использует притчу Архилоха, отправляясь от не совсем ясной фразы: «Лис знает много секретов, а еж один, но самый главный»7. Этот афоризм служит Берлину для противопоставления двух глубоко различных интеллектуальных типов, а именно тех, чье мышление исходит из единого видения мира, единой ключевой идеи, единого организующего принципа, и тех, кто преследует множество целей, не всегда связанных и порой противоречащих друг другу. Одни центростремительны, другие центробежны, одни сосредоточенны, другие рассеянны. «Первый тип мыслящей и творческой личности – ежи, второй – лисы»8.
В соответствии с этим критерием Берлин классифицирует мыслителей и писателей. Данте относится к ежам, Шекспир – к лисам; Платон и Паскаль – ежи, Аристотель и Эразм – лисы. Выше мы описали Поппера как ежа, преследовавшего одну ключевую идею; но в нем были и лисьи качества, проявившиеся в последние годы жизни. Арон, безусловно, был лисой – но все время пытался написать большой всеобъемлющий труд, и это все-таки относит его к числу ежей. Сам Берлин очень хотел бы стать ежом. В известном смысле он ежом и был. Правда, сквозная тема всех его эссе, посвященных истории идей, – не «Руссо», а «свобода». Берлин, по словам Ноэля Аннана, «поставил под сомнение господствующие шаблонные представления о свободе». О его двух концепциях свободы мы еще будем говорить.
И для самого Исайи Берлина, и для других стало неожиданностью избрание его в 1934 г. – к слову, он был первым евреем, удостоенным этого звания, – стипендиатом All Souls College9 d, которому с перерывами, обусловленными менявшейся исторической ситуацией, он оставался верен всю жизнь. Говоря о молодом стипендиате и его эпохе, биограф Берлина Майкл Игнатьев справедливо замечает: «Уклонение от любой политической ангажированности было для него, конечно, очень желательным, но нереальным вариантом поведения». И все же Берлин был близок к этому настолько, насколько позволяла ситуация 1930-х. Но он оставался убежденным сионистом – единственная проблема, по которой, как он считал, можно занимать ясную позицию. Кроме того, он написал книгу о Марксеe. Любопытный факт: все три мыслителя, не поддавшиеся соблазнам эпохи, уделяли большое внимание Марксу. Биографию Маркса, написанную Исайей Берлином, читают и сегодня. Второй том попперовского «Открытого общества» – беспощадная критика (Гегеля и) Маркса. Том Le Marxisme de Marx («Марксизм Маркса»), опубликованный после смерти Арона его учениками, лишний раз подтверждает его интерес к немецкому философу, сохранявшийся на протяжении жизни. Всех троих увлекал историко-социологический подход Маркса и в то же время отталкивало его догматическое понимание исторической неизбежности, которому, как мы видели, охотно следовали другие интеллектуалы.
Отметив, что «искушение фашизмом» его не коснулось, Арон добавил: «Я мог бы поддаться другому, коммунистическому искушению». Исайя Берлин в силу жизненных обстоятельств этим искушением затронут не был. Что касается Карла Поппера, то он рассказывает в своей автобиографии довольно трогательную историю. В конце Первой мировой войны 17-летний учащийся школы находился под впечатлением от пацифистских выступлений коммунистов. К весне 1919 г. их пропаганда овладела умами Поппера и его школьных друзей. Далее Поппер делает знаменитое признание: «Около двух или трех месяцев я считал себя коммунистом».
Поппер не вступил в партию, а лишь внутренне причислял себя к ней, и продолжалось это недолго. Причиной его отказа от коммунистических убеждений стала, как он сам признается, не вполне ясная история: столкновение полиции с молодыми социалистами и коммунистами в венской улочке Хёрльгассе, повлекшее смерть нескольких демонстрантов. Это событие должно было бы укрепить антикапиталистические настроения Поппера, но произошло прямо противоположное. Он вдруг понял: «Что-то обстоит не так с самой теорией коммунизма», и он несет «часть ответственности» за свои действия10.
Фактически он никаких действий не совершал. Из случившегося Поппер считает нужным сделать полезный вывод: в 17-летнем возрасте он был обычным начинающим интеллектуалом, способным поддаться соблазну, но в нем очень быстро возобладал природный иммунитет. Примечательно, что Арон, описывая свое соприкосновение с радикальным социализмом, также сбивается на пристыженный тон. По его словам, «в 1925 или 1926 году» – точнее не вспомнить – он записался в 5-м округе Парижа, известном квартале интеллектуалов на левом берегу Сены, в социалистическую партию. Ему было 20 лет. «Зачем я примкнул к партии? – спрашивает он в «Мемуарах». – Мне приходится дать ответ, который вызовет у читателя улыбку». Арон объясняет свой поступок желанием сделать что-то для обездоленных, «для народа, для рабочего класса»11. К месту ли здесь улыбка?
Арон, всегда самокритичный, признается даже, что чувствовал некий «долг вовлеченности». Роль «свободного интеллектуала», к которой он вскоре вернулся (членство в социалистической партии не было продолжительным), не могла – по крайней мере, в какие-то моменты жизни – удовлетворять его в полной мере. Но именно эта роль определяла его судьбу до конца дней. На протяжении всей жизни Арон оставался одним из ведущих интеллектуалов Франции и, более того, одним из немногих, кто не соблазнялся «опиумом интеллектуалов» – коммунизмом и другими видами тоталитаризма. После краткой службы в метеорологическом подразделении французской армии он эмигрировал в Лондон. Там он принадлежал к окружению де Голля, не испытывая, однако, восхищения «Генералом», и участвовал в издании La France Libre. После возвращения Арон недолгое время был советником Андре Мальро, министра культуры в правительстве де Голля. Став профессором и позже членом Коллеж де Франс, он сотрудничал в качестве обозревателя и колумниста с Figaro и L’Express.
Карл Поппер вернулся из эмиграции в 1946 г. О Поппере вспомнил и пригласил его в Лондонскую школу экономики тогдашний ее профессор Фридрих фон Хайекf. «Открытое общество» распространялось в рукописи, так что для приглашения имелись серьезные основания. В этом учреждении Поппер работал вплоть до выхода на пенсию, после чего перешел на должность профессора логики и научных методов. Это был довольно задиристый преподаватель, всегда настроенный полемично. Влияние книг Поппера постоянно росло, и политические лидеры, на которых они производили особенно сильное впечатление, обращались к философу за советом, приезжая к нему домой или приглашая к себе. Поппер гордился тем, что его консультации нужны политикам самых разных демократических ориентаций; через них он доносил свои мнения, зачастую далеко не тривиальные, до других людей.
Исайя Берлин остался в Оксфорде и стал легендой. Его лекции пользовались большой популярностью, хотя и не всегда были понятны. О «феноменальном темпе речи» Берлина сообщают многие, не только Ноэль Аннан. «Когда он говорил, его язык едва поспевал за его мыслью». Во время войны Берлина, как многих английских интеллектуалов, привлекли к государственной службе, используя для «умственной» работы: сначала в посольстве Великобритании в Вашингтоне, позже – в Москве. В это время он, старательно избегавший политической ангажированности, все-таки стал публичным интеллектуалом – благодаря не столько своим статьям и книгам, сколько прямым контактам с руководителями страны.
Указать точное положение Поппера, Арона и Берлина в партийно-политических координатах – нелегкая задача. Они сами нередко обыгрывали неоднозначность своих позиций. Бесспорно, Арон и Берлин могли бы – они, впрочем, и смогли – сказать вместе с Поппером: «Свобода важнее равенства»12. Но и значение социальных проблем все трое считали очень важным. В конце первого тома «Открытого общества» Поппер отчасти неожиданно провозглашает программу, сочетающую идеи security and freedom, безопасности и свободы. Забота о нуждающихся и обездоленных, о рабочих оставалась одной из постоянных тем сочинений Арона. Хвала, которую воздает плюрализму Берлин, опирается прежде всего на его одновременное пристрастие к свободе и справедливости. Можно ли сказать, что Поппер, Арон и Берлин были «либерал-социалистами» в том же смысле, что Норберто Боббио? Нет, конечно, – но все же они были либералами особого рода.
1
Розовое десятилетие (англ.).
2
В этот день президент Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером Германии.
3
См.: Арон Р. Мемуары. 50 лет размышлений о политике / Пер. с фр. Л. Ларионовой, Г. Абрамова (с небольшими изменениями). М.: Ладомир, 2002 (https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%90/aron-rajmon/memuari-50-let-razmishlenij-o-politike). Далее мемуары Арона цитируются по тому же изданию (без указания страниц).
4
Товарищ по учебе, однокашник (фр.).
5
Научная общественность (англ.).
i
«Мемуары» Раймона Арона (Mémoires, Julliard: Paris, 1983) – неисчерпаемый источник сведений о личности и творчестве автора. Я цитирую эту книгу в основном по (сокращенному) немецкому изданию: Erkenntnis und Verantwortung (Piper: München; Zürich, 1985). Значимые цитаты: S. 169, 55, 37, 123, 38 (в приведенной последовательности). Много полезной информации содержит биография Арона, написанная Робертом Колхауном. См.: Robert Colquhoun, Raymond Aron (SAGE Publications: London, 1986).
ii
Существует много кратких биографий Карла Поппера, но они, как правило, посвящены в основном его творчеству. Лучше понять личность Поппера помогает его собственная статья в книге The Philosophy of Karl Popper (Open Court: La Salle Ill., 1974), vol. 1, цитаты: p. 83, 25, 27. См. также беседу Поппера с Франком Крейцером: Gespräch mit Frank Kreuzer: Offene Gesellschaft – Offenes Universum (Franz Deuticke: Wien, 1982), особенно S. 9 f.
a
См.: Поппер К.Р. Логика научного исследования / Пер. с англ. под общей редакцией В. Садовского. М.: Республика, 2005.
6
Военные усилия (англ.). См.: Поппер К. Неоконченный поиск. Интеллектуальная биография / Пер. с англ. А. Карташова. М.: Праксис, 2014. С. 124.
iii
Исайя Берлин не оставил автобиографических сочинений, но существует превосходная биография, написанная Майклом Игнатьевым на основе продолжительных бесед с философом: Michael Ignatieff, Isaiah Berlin. A Life (Chatto & Windus: London, 1998). Здесь она цитируется по изданию: Vintage-Ausgabe (2000), см. особенно S. 53, 72.
b
Майкл Грант Игнатьев (род. в 1947 г.) – канадский историк, публицист и политик; биограф И. Берлина. В России изданы две его книги «Русский альбом» (1996) и «Права человека как политика и как идолопоклонство» (2019).
c
Генри Харди (род. в 1949 г.) познакомился с Берлином в Вольфсон-колледже, где изучал философию. Всего под его редакцией вышло восемнадцать томов сочинений Берлина, а также четырехтомное издание его писем.
7
См.: Берлин И. История свободы. Россия / Пер. с англ. В. Михайлина. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 183.
8
Берлин И. История свободы. Россия. С. 184.
9
Колледж Всех Душ (англ.).
d
Оксфордский Колледж Всех Душ существует с 1438 г.; стипендиат колледжа становится одновременно его сотрудником и, получая в течение нескольких лет стипендию, имеет право на бесплатное обучение в любом из колледжей Оксфордского университета.
e
Книга Берлина о Марксе: «Карл Маркс: его жизнь и окружающая среда» (1939).
10
См.: Поппер. Неоконченный поиск. С. 36, 37.
11
Арон. Мемуары.
f
Фридрих Август фон Хайек (1899–1992) – австрийский философ, экономист, один из ведущих критиков коллективизма в XX столетии, лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 г.
12
См.: Поппер. Неоконченный поиск. С. 39–40: «Однако потребовалось какое-то время, прежде чем я осознал, что <…> свобода важнее равенства; что попытка реализовать равенство угрожает свободе и что, когда свобода утрачена, не может быть и равенства несвободных людей».