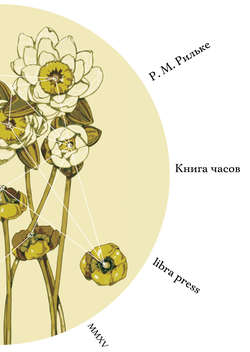Читать книгу Книга Часов (сборник) - Райнер Мария Рильке - Страница 2
Книга об иноческом бытии
ОглавлениеЧас пробил, упал, отдаваясь в мозгу,
сметая сомнения тень:
и в дрожь меня бросило: вижу: смогу –
схвачу осязаемый день.
Ничто – вне прозрений моих – не в счёт:
застыв, каменеет путь.
Лишь к зрелому зрению притечёт
вещей вожделенная суть.
Ничто же мне мелко. По золоту лью –
огромным пишу всё равно,
любя, дорожа им, не ведая, чью
душу отпустит оно.
Круги моей жизни всё шире и шире –
надвещные – вещие суть.
Сомкну ли последний? Но, видя в мире
суть, я хочу рискнуть.
Покуда вкруг Господа, башни веков,
не вскинется дней моих тьма…
Не знаю лишь – сокол я, вихрь с облаков,
высокий ли стих псалма.
Я помню братьев, что в сутанах строгих,
в монастырях, где лавр цветёт весной…
О юных грежу Тицианах многих,
Мадоннах их. – И в них пылает Бог их
Неопалимой Купиной.
А в самого в себя склоняясь, вижу:
Мой тёмен Бог: в меня пустивши корни,
безмолвно ими пьёт мои же соки.
Всего и помню я, что к выси горней
Его теплом расту, оставив ниже
побеги – там, где ходит вихрь высокий.
Твой образ пишем мы не выбирая:
Ты – Свет Рассвета, брезжащих Начал.
Из тех же чаш, где краски, растирая,
мешал святой, лучи сияют Рая:
берём их – в них Тебя он умолчал.
Мы воздвигаем пред Тобой иконы:
в тысячи стен – один иконостас.
И если сердцем видим, умилённы, –
в ладони лик Твой прячем в тот же час.
Люблю мечтать на грани помраченья,
когда в глубины погружаюсь духа,
что жизнь прошла, как в давних письмах глухо
упоминание, как без значенья
туманный смысл преданья и реченья.
Тогда пространства вечного черты
я вижу вдруг, где жизнь вторая в силе.
И я расту из темноты,
шумя ветвями на своей могиле,
где вижу сон, что видел мальчик, или
– так мощно тёплыми корнями схвачен –
печально пел, и в пенье сон утрачен.
Господь, сосед, когда тебя бужу
сердцебиеньем, Боже, – замираю:
услышу ли Твоё дыханье? Знаю,
ведь Ты один. Я в зал вхожу.
Кто даст воды Тебе? Я – рядом, весь
вниманье, слух. И – жаждущий – Ты всюду.
Не сплю я, слушаю. Яви мне чудо.
Я – здесь, я – здесь!
Случайно мы разделены стеной,
но тонкой, Боже. Слух что страх:
я позову, иль это голос Твой – она во прах
падёт, хоть голос тих.
Стена во тьме – из образов Твоих.
Имён Твоих. Икон. И вот – лампада:
чуть вспыхнет свет, каким должны гореть
глубины духа, чтоб Тебя узреть, –
свет бьётся тщетно в серебро оклада.
И чувствам, вне Тебя, погаснув, надо,
как на чужбине, тихо умереть.
Когда б хоть раз так в сердце тихо стало…
И всё случайное, всё, что мешало,
всё приблизительное, хохот рядом,
все чувства с их неугомонным адом,
я смог бы выгнать бодрствующим взглядом…
Тогда б я мог Тобой, Единым Садом
тысячелистным, на краю Вселенной –
на миг улыбки мимолётной – стать,
чтоб жизни всей вернуть Тебя мгновенно
как Благодать.
Живу, под веком подводя черту:
И вихрь – с листа, где Бог, и ты, и я
всё исписали. Кто ж тот ветер – чья
рука листает книгу на лету?
Сверкнёт зарница со страницы новой –
и снова целого даны черты.
Безмолвные, друг друга силы Слова
оглядывают, как из темноты.
Я вычитал из Слова Твоего
безмолвного, из жестов понял,
какими Ты лепил нас, мял в ладони
(лучистые, теплы, премудры жесты) –
Вслух было: жить! А умирать… и здесь Ты
запнулся, тихо повторяя: быть.
Но человек не умер – нет, его
убили. Бездна нам открылась вместо
сфер, не сумевших всплыть:
ведь только крик был, больше ничего.
А голоса, которых ждал Ты столько,
провидя в них опору
себе в ту пору,
над бездной мост, – снесло стремниной крика.
С тех пор наш лепет – жалкие осколки
Праимени велико –
го, и нам, заикам, эти крохи впору.
Померкший отрок Авель рек в ответ:
Аз есмь? НЕТ. Не существую. Что-то мой
мне сделал брат. Собой
мне этот свет затмил,
своим лицом, как присудил
мне Божий свет.
И вот он сам-друг.
Он должен быть здесь, вокруг.
Ведь с ним поступили не так, как со мной.
И все, пройдя мой путь земной,
к нему же пред гнев бегут:
и гибнут в нём, он – земной их суд.
Он – здесь, не спит, ему уснуть невмочь –
что он в ответ?
Обо мне позаботилась Ночь,
а о нём – нет.
Ты – тьма, я рос в Тебе веками,
люблю Тебя я, а не пламя,
что ограничивает мир
и чей эфир
в какой-нибудь из сфер прольёт свой свет,
нам недоступный через толщу лет.
Но всё гребёт, всё подгребает тьма:
меня и зверя, пламя и дома,
свечу – под спуд,
земное ли, небесное –
Молюсь ночам: быть может, рядом, тут,
незримых Сил непостижимый труд.
Ты – Тьма Чудесная.
Я верю не в то, что гремит с колоколен.
Дать волю тишайшим чувствам хочу.
На это не каждый отважиться волен, –
а я невольно тебя получу.
И если я дерзок, Господь, прости.
Я только хочу, чтобы знал Ты наверно:
это лучший порыв мой, о, не упусти,
инстинкт и влеченье, без страха и скверны.
Так молятся дети – лицом в горсти.
И если подымется – устьем ли к морю –
как чувств переполненность, волн толкотня,
растущим в прилив возвращеньем пьяня, –
я верю – Ты здесь, я хвалам своим вторю,
как никто до меня.
И если я высокомерен, молитву наполни мою
по высокой же мере:
и одна она, с сим
– в заоблачной сфере –
предстанет пред Ликом ненастным Твоим.
Я в мире совсем одинок, но всё ж не совсем, не весьма,
чтобы каждый мне час был высок.
Я в мире и мал, и ничтожен, но всё ж не совсем, не весьма,
чтоб мой ум для Тебя был неложен,
как суть сама.
Я вволю ждал Волю, её не неволю заданьем,
а жажду с ней ратных утех:
когда же и время замрёт, беременное ожиданьем,
быть хочу среди тех,
кто тайн Твоих господин,
или – один.
Хочу быть подобьем Твоим, во весь рост Тебя несть,
о, дай не ослепнуть – от вечности глаз не отвесть,
образ Твой удержать, не сгибаясь, не падая.
Весна среди сада я.
И мне не склониться вовеки.
Ибо там я не с Богом, где я согбен.
Я хочу, чтобы тлен
не коснулся ума. Я ведь – образ, я – некий
лик, я пишу на стене,
крупно, медленно, как во сне,
Слово, что я постиг
в ежедневной земной
жажде, мать улыбается мне,
это парусник, бриг,
он пронесся со мной
через вихрь, через смерть, через крик.
Ты знаешь, чего я хочу.
Быть может, всего – во Вселенной:
В падении – тьмы неистленной,
во взлёте – сияния… но умолчу.
А сколько же тех – не хотят ничего –
кто княжит и княжит, а чувство – мертво –
сужденьями мысль утюжит.
Но всякое рад Ты принять существо,
что в жажде лицо заслужит.
И всякому рад Ты, кто мнит Тебя чашею –
ныне и впрок.
Ещё не остыл Ты, Чудесный Урок,
и я окунусь в твою глубь глубочайшую,
где жизнь обнаружится: тихо и в срок.
О, нерукотворный… но – год за годом –
но – атом на атом – тебя мы творим.
Ты – Вечный Собор, кто сомкнёт тебя сводом?
Ты ль – зрим?
Что, Господи, Рим? –
Повержен кумир.
Что, Господи, мир? –
Он рухнет под нами
прежде, чем Храм твой блеснет куполами,
прежде, чем Лик Твой, лучистая пыль,
сверкнёт на мозаике в тысячи миль.
Но, бывает, во сне я твой Трон
созерцаю со всех сторон,
будто строю,
от начала, подножия,
до венчика золотого.
Вижу, Боже, я:
силы утрою –
и ляжет камень замковый.
Ведь был же Один, кто возжаждал так, Боже:
значит, можем и мы, значит, мы плодоносим.
Пусть даже все копи твои забросим:
коль в горах моют золото, что же,
не найдется охотника на лоток? –
Даже если и так, то прорвётся поток
и, взболтав сокровенную взвесь,
вынесет слиток.
Пусть бы мы не хотели, устав от попыток:
Бог здесь!
Кто миротворцем ублажил нелепость
своей судьбы, и благодарно плоть
постиг,
изгнав её хохочущую хоть:
тот празднует иначе – Ты, Господь,
Ты – гость его, покуда вечер тих.
Ты – собеседник, одиночеств друг,
в покоящейся точке монолога,
и всякий круг, – где циркуль ищет Бога, –
вращаясь, время раздвигает вдруг.
С какой за кисти я хватаюсь блажи?
Когда пиш у, не замечает Бог.
Тобой дышу. На грани чувств, далёк,
Ты островками проступаешь. Я же –
твоим очам, и не мигнувшим даже –
пространства ток.
Отныне нет Тебя в твоем сиянье,
где даль мелодией в напоминанье,
как ангелы, ещё Тобой звучит…
Живешь в последнем Ты своём дому:
во мне – ждать эха небу твоему.
А сердце умное молчит.
Аз есмь, Господь, Ты слышишь? Вечный Страх,
не слышишь, как пылаю страха ради?
И, окрыленны, чувства в горнем граде,
что белый свет в твоих очах.
Моя душа в молчанье, как в лучах,
к Тебе припала – ах, Ты не глядишь.
Моей молитвы зреющую тишь
не видишь? – деревом, цветущим к маю.
Ты спишь? – я сон твой, но не донимаю.
Вольно не спать? – Что ж, я – твоя же Воля.
И крепок ей. И властвовать я рад,
молчаньем звезд покоясь и глаголя,
объемля времени чудесный град.
Нет, жизнь моя – не этот час отвесный,
где – видишь Ты – скорей к Тебе спешу.
Я – дерево в пейзаже духа, тесно
сомкнув уста, я – голос бессловесный,
тысячеуст я, и Тобой дышу.
Я – немота между двумя тонами,
они так плохо ладят, между нами:
неверный тон – и смертный стон кругом.
Но в тёмном интервале, временами –
Дух говорит.
И вот: горит псалом.
Когда б ребёнком рос я где-нибудь,
где час всё тоньше, день всё невесомей,
Тебя я праздновал бы в их проёме,
и пальцами Тебя касался чуть,
а не сжимал испуганно, как зверь.
Там я бы мог Тебя терять всечасно,
Ты, безоглядное Здесь и Теперь.
Бросать, как мяч,
в волнующий, прекрасный
миг, чтоб другой, вдруг, покорясь минуте,
летел, горяч,
с Тобою падая в весёлой жути,
ведь Ты – Суть Сути.
Клинком во тьме Ты б мог сверкнуть, и
золотой
каймой кольца, и будь я
там, замкнул бы Твой –
печаткой четкою – огонь,
чтобы рука ещё белей была.
Я б начертал Тебя – стена мала! –
на небесах – гори, моя хвала! –
Твои, Господь, вершил бы я дела,
титан, колосс: тут пламя, там скала,
а там самум, сжигающий дотла –
не так,
иначе всё: Тебя нашла
моя печаль…
Друзья всё дальше – смех
теряется в саду, везде – щеколды,
а Ты… Ты выпал из гнезда, щегол Ты,
птенец, и клюв свой раскрываешь жёлтый –
мне хуже всех теперь, тоскливей всех
(рука моя огромна, как на грех).
Я палец к Тебе подношу с каплей воды из ключа,
и жду, не заставит ли жажда Тебя потянуться за ним,
и чувствую: наши сердца наполняются вместе, стуча,
страхом одним.
Я нахожу Тебя во всём, что стало,
как брату, близким мне, почти моим:
зерном лучишься Ты в пылинке малой,
в великом Ты величественно зрим.
Легчайшая игра, всегда на страже
сил, проступающих сквозь вещь и суть:
взойдя в корнях, в стволах исчезнуть даже,
чтобы, воскреснув, сквозь листву блеснуть.
Голос юного брата:
Истекаю, истекаю,
как сквозь пальцы – течёт песок.
Столько чувств во мне, жажда во мне какая,
в каждой жажде свой промысел: Твой урок.
Не одно я знаю чувство больное,
что ноет – о, пламенея.
Да, но в сердце – всего больнее.
Пусть я умру. Один. Пусти.
Смогу, я знаю,
так страх свой сжать в горсти,
что пульс сломаю.
Вот, Господи, кто вновь Твой строит за́мок:
вчера дитя, наученный от мамок,
как руки складывать пред входом в храм
фальшивым жестом из постылых драм.
Не знает правая, что делать с левой –
дать Богу знак или бежать от гнева?
О, слишком много – две руки.
Ещё вчера – валун на дне реки –
был лоб омыт часов потоком, –
всё только рябь, всё волны на широком
лице воды, но глянет небо оком,
нависнув ненароком, невпопад…
тот взгляд
сегодня погружён в пучины
истории всемирной, дух причины –
под следствием до Страшного Суда…
Нам явят Лик пространств иных глубины:
Свет не от света, Тень – не от лучины,
начнёшься Книгой Ты, как никогда.
Ты – благодать, и Ты её закон,
созрели мы, борясь в Твоём же лоне,
Святая родина, где мы – в полоне,
Ты – лес, в котором мы плутаем, сони,
Ты – песнь, молчальники мы в общем стоне,
Ты – сеть времён
с уловом беглых чувств в конце погони.
Так взялся Ты в бесчисленных бутонах,
в тот день, как, радуясь, посеял нас, –
так зрели в солнцах мы Твоих бездонных,
так разрослись, пробившись в щель и в паз, –
что мог бы в людях, в ангелах, в Мадоннах
Ты в этот тихий завершиться час.
Со склона неба, простирая длань,
прости: во тьме мы строим, Божья Рань.
Мастеровые мы: и строим вместе
Тебя, высокий неоглядный свод.
Но вдруг однажды, словно блик на жести,
блеснёт приезжий мастерством предвестий –
иначе он, нежней, кирпич кладёт.
И мы с лесов сходить не будем шатких,
и молот будет бить до ломоты
в плечах, пока, лучащийся в отгадках
Твой, Боже, час не поцелует хватких,
в лицо нас. Ветер с моря – Ты.
И выше гор – грома́ и грохотанья,
согласный стук кидает стык на стык.
Лишь в сумерки оставим тёмный лик:
и, проступив, забрезжат очертанья.
Как Ты велик!
Ты так велик, что я в Твоей тени
не существую, вопреки завету.
Так тёмен Ты, что моему рассвету
нет смысла брезжить в те же дни.
Высоким валом – Воля эта:
рассвет в ней тонет искони!
Но до чела Господня доросла
моя тоска, мой бедный ангел света,
не узнан, не прощён и без ответа…
до Господа – концом крыла.
Нет, не летать – полёт постыл ему,
где стаи лун безжизненны и дики
и берега скрываются во тьму.
Огромных крыльев огненные блики
раздвинут дуг Твоих надбровных тень,
чтобы открылось вдруг, как ясный день,
действительно ль он проклят, светлоликий!
Тьмы ангелов на свет слетелись, Бога
в сиянье ищут, учит каждый лучик
челом здесь бить лучам светил могучих.
А я, глагол Твой и Твоя подмога,
их вижу: вспять они летят, их много –
тех, кто найти Тебя не чает в тучах.
Да Ты и сам был золотом пленён,
и зазвала Тебя эпоха, спета
молитвами из мрамора и света,
и Ты явился ей как Царь-Комета
челом сияющим на небосклон.
А вспять летишь – и присный век сметён.
Безмолвье уст Твоих во мглу одето,
но мной дышал Ты и во тьме времён.
В те времена он до небес дорос.
О Микеланджело шла речь сейчас.
И я читал: властитель глыб и масс,
он был колосс,
каким громада мира не указ.
Ещё вернётся он, ведь он из тех,
в конце эпохи кто с ней делит грех,
считая ценности: Итог таков!
Тогда всю тяжесть он берёт веков,
бросая в бездну духа своего.
Печаль и радость знали до него.
Но выразил он бытие в объёме,
во всем его единстве кровном, кроме
лишь одного: не покорился Бог.
И оттого в любви его весомей,
сильней и злей был ненависти ток.
Итальянский побег, Господь, дерева Твоего
уже отцвёл.
Как хотел он всего
лишь пораньше плодами украсить ствол,
но цвести устал и остался гол,
и не даст уж плода иного.
Но весну свою там Ты провёл, Господь,
там Твой Сын одевает в плоть
царствие Славы.
Слева – Силы – и справа
обратились к Младенцу – сиянию Слова.
И с дарами текли к нему снова,
и шли за ним,
и хвалу свою, как херувим,
пели всласть.
Ароматная Власть,
Он был Розою Роз,
тем к себе дал припасть,
кто без родины рос.
Прошумел в маскарадах средь метаморфоз
голосами эпохи, сумевшими с Ним совпасть.
И было там любимо Древо
Плода Бессмертного, там Дева,
чей страх так трогательно строг,
цвела из девственного чрева,
распутав сто к Тебе дорог.
Всё приходило с ней в движенье,
в ней Новый Век – Дитя – воскрес;
была царицею в служенье
Мария – чудо из чудес.
И в каждом благовесте звонком
с ней – каждый дом; и вот, Жена,
она была почти ребёнком,
но так в себя погружена,
так им Одним полна, что тыщам
спастись хватило бы, и свет
свидетельствовал: свет был нищим
в сем Винограднике Побед.
Но так же, как тяжесть плодов отшумевшего сада,
колонны, руины, разрушенная аркада,
и псалом без конца и склада
гнетут, – она
в часы иные ликом своим туманным,
не разрешившись ещё Вечно Желанным,
к будущим крестным ранам
обращена.
Улёгся вихрь, бесшумный и кромешный –
а руки пусты.
Увы ей, не родившей Свет Безгрешный.
И ангелов чужой и безутешный
сонм страшен был ей, как во тьме кусты.
Такой писали Деву… Тот, чей гений
у солнца взял влеченье, тот с тоской, –
глядел, как зрело в ней самозабвенней
и чище всех, хотя в Страстях смиренней,
всеобщее: и живописцем пеней
он был всю жизнь, и плач водил рукой.
Покровом был чудесным скорби алой
на горестных губах, когда почти
в улыбку обращалась боль, учти,
что ангельским Семи Свечам нимало
здесь не открылось, хоть века свети.
Но несравненной ветвью в тишине
Бог, Дерево, созреет в той стране,
где весть благую – летнюю – однажды
услышат в шумных кронах, там, где каждый
так одинок, как выпало и мне.
Ведь одинокому открыт Господь,
и многим одиноким не щепоть –
а пригоршни. Лишь одиночке – горе.
У каждого – свой Бог. Но станет вскоре
понятно всем (и мне – в их хоре),
что в бесконечном разговоре,
наитьях, плаче, строгом споре,
в явлéнном бытии-просторе
единый волен Бог волной.
И вот последний гимн земной
в пророке, в старце, в духовидце:
Плодами Бог укоренится,
крушите звонницы – молиться
пристало в час, когда в пшенице
безмолвие встает стеной.
Плодами Бог укоренится.
Тобой и мной.
Не верю, что ничтожной смерти яд,
пусть каждый день над нами торжествуя, –
что он несёт тщеты и тягот ад.
Не верю, что он чем-нибудь чреват;
есть время строить мне, ещё живу я:
роз долговечнее, кровь – вечный сад.
Мой глубже смысл, чем наши игры в страх,
где смерть сама себе чума и пир.
Я – весь тот мир,
где ей упасть во прах.
Как в тех
монахах – смерть глазеет из прорех;
ушли, вернулись, напугали всех,
кто впрямь боится их, друг с другом схожих,
их двое? десять? сотни? без помех
сухих, знакомых, вялых, жёлтых рук
вблизи мы видим мертвенный развод –
вот, вот:
пустой рукав и никого вокруг.
Как быть, когда умру я, Боже?
Кувшин Твой (я разбит – и что же?)
Твое вино (прокисло тоже?)
Я смысл и дух Твой, всюду вхожий,
как будешь без меня, Господь?
Один, отрезанный ломоть,
бездомный снова, как вначале.
Ведь я – ремни Твоих сандалий –
спаду с Тебя, теряя плоть.
Лишишься Ты святейших риз.
Твой взгляд, ложившийся когда-то,
устав, мне на щеку – крылатый
за мной помчится, но к закату
заполыхает мир по скату –
и взгляд на камни рухнет, вниз.
Как быть, Господь? Мне страшно, Святый!
Сквозь сон – хРустящей сажи – шёпот,
Ты – гРусть, нет, бРось, Ты Русь печей.
Не знанье, не веков ручей,
Непостижим Ты, тёмный, опыт,
Из ночи в ночь – в ночи ночей.
Ты – тот молящийся несмелый,
кто всем вещам дал смысл и вес.
Ты – звук псалма, Ты нотой целой
звенишь, подхваченный капеллой,
повторенный в басах небес.
Ты сам себе как тёмный лес:
Ведь Ты не из столпов высоких –
над сонмом царственных свечей.
И не из дам прекраснооких.
Мужик заросший – Ты исток их,
из ночи в ночь – в ночи ночей.
Юному брату:
Вчера дитя, ты хаосом убит:
боясь, что жар растратится незряче –
на радость духу? – нет, мой друг горячий,
на чувственность… ведь ты из чувства сшит,
душой ленивой вожделея стыд.
Страсть мучит, виды на тебя имея,
и плечи голые в уме встают.
В видениях, на лике что лилея,
горит румянец внешних смут.
И змейки чувств, свиваясь в кольца, тлея,
от звуков огненных немея,
удара сердца, словно бубна, ждут.
И вдруг – один ты, жалкий и убогий,
и руки опускаются, и ноги
не слушаются: чуда нет в любви…
………………………………………………………
Но как в предместье тёмном слух о Боге,
вдруг вихрем жар пройдет в Твоей крови.
Юному брату:
Тогда молись, как учит тот, кто сам
из хаоса вернулся чувств, и там,
где были в церкви образы святые,
мозаики дополнил золотые
прекрасным образом, и меч в персты ей
вложил, Воительнице, в помощь нам.
Молись хоть так:
«Ты – смысл глубинный мой,
тебя, поверь, я не разочарую,
в своей крови я вихрь и ветер чую,
но знаю – создан из тоски немой.
Так разыгралась надо мной гроза.
Так жизнь строга в тени её невзгод.
Впервые я гляжу в твои глаза,
Ты – Чувств Восход.
Ты – Дева, ты – чиста.
Была и та, что, трепетней листа,
меня влекла в осеннем одеянье.
Но и с чужбин Ты говоришь, Молчанье.
И неспроста
во все глаза гляжу на холм – в сиянье».
Я славлю Господа молчаньем.
Немые гимны я вздымал
в час откровенный – незвучаньем:
велик в очах Твоих, и – мал.
Ты отличишь меня в темнотах
от тех, что не встают с колен:
форм, сбившихся в стада, и вот их
пасу под вечер на высотах:
язычников, бегущих в тлен.
За ними я слежу, томлюсь,
и слышу, как мосты запели,
и в их топтаниях без цели –
залог, что я ещё вернусь.
Как мне вместить Твой час, чреватый
пространством? – этот час, когда Ты
весь отдавался голосам.
Ничто – как гвозди в язвах, Святый.
Творение Тебе – бальзам.
Теперь Ничто врачует нас.
Нас выпили былые лета,
избавив от горячки, – это
мы в шатком обмороке света
пульс бездны чувствуем подчас.
Ничто – под нами. Ничего.
Лежим, заткнув собою щели.
А Ты растешь без всякой цели
в тени от Лика Твоего.
Все те, кто простирает длани,
минуя время – нищий град –
все, кто их тянет к тихой рани,
в неизреченной глухомани,
вдали дорог, в виду утрат, –
Податель будничных деяний,
Тебя, благовествуя, зрят:
«Есть лишь молитва как основа,
свята творящая рука;
не сотворим себе иного,
чем вымолим, что серп, что слово –
смиренье набожное снова
распустится из черенка.
Как многолико время в раме
веков шумящих. На века
творили вечность мы веками;
наш Бог – земля, он всюду с нами,
рубаха, борода, строка.
Мы – жилы в камне, камни в храме,
твердыня Господа крепка».
Нам имя – свет, и каждый блик
как пробелá в огне.
Что мне сказать? – главой поник,
я увидал, пускай на миг,
Твой тёмный Лик – (что нас воздвиг) –
как в мире вес его велик,
как тёмен он во мне.
Из времени сформировав,
в котором я взошёл,
Ты победил меня, поправ,
и длится тьма Твоя, и прав
Твой гнёт, и не тяжёл.
Не знаешь Ты, кто я такой,
я всё темней, смысл нежный Твой
лелеет жизнь мою.
Но я в Твоём краю:
Ты слышишь, как вхожу рукой
я в бороду Твою.
Вначале было слово: Свет:
все началось. Слова – к разлуке.
Второе: Человек. И в муке
(о, как темны мы в этом звуке!)
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу