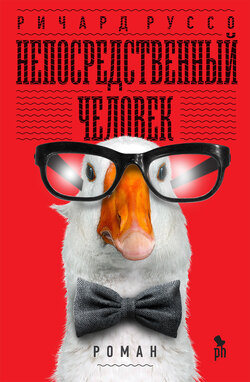Читать книгу Непосредственный человек - Ричард Руссо - Страница 6
Часть первая
Бритва Оккама
Глава 3
ОглавлениеУ подножия нашего холма я свернул, как обычно, влево и побежал прочь от города. Лили сворачивает вправо и бежит в сторону Рэйлтона, утверждая, что на этой дороге вид красивее и не приходится подниматься в гору. Очень в духе Лили – бежать в сторону города, а она бы сказала, что очень в моем духе – бежать прочь от него. Моя логика проста: нет смысла тратить уйму денег на строительство дома в сельской местности, чтобы потом бегать в сторону города, из которого только что удрал. А если бежать в противоположном направлении означает, что ты бежишь прочь, – тем лучше.
Логика Лили, должно быть, сложнее, – впрочем, моя жена и не была никогда поклонницей бритвы Оккама. У нее, учительницы в трещащей по швам системе государственного образования, куда больше причин бежать из города, чем у меня, однако дочь филадельфийского копа воспитана в духе «обернись и дерись». Вместо того чтобы использовать свой статус в школе – постоянную ставку, стаж, очевидный педагогический талант – и добиться лучшего положения, преподавать выпускникам или, как жены многих моих коллег, перебраться в университет, где нагрузка поменьше, Лили опустилась на самое дно общеобразовательного омута и учит отстающих ребят, «дубов», как их именуют другие преподаватели. Нет, наш полный воздуха и света дом в Аллегени-Уэллс не предоставляет Лили укрытие от городского шума, лишь временное прибежище, куда она отступает, чтобы подзарядить аккумулятор для завтрашней битвы. Бегает она медленнее меня, но расстояние преодолевает побольше, и с вершины последнего холма, на который она взбирается перед возвращением, Лили смотрит на Рэйлтон в низине – закопченный, беспорядочно разбросанный, глубоко довольный собой – и видит свою миссию. Правда, я не знаю, так ли это на самом деле. Я даже не знаю, как далеко бегает Лили. Это мне так представляется.
Мой выбор противоположного направления свидетельствует, я полагаю, о более печальной истине – о том, что нам следовало вовсе покинуть Рэйлтон, не ограничиваясь этим трусливым отступлением на жалкие четыре мили. Когда ветер дует из города, он несет темные, как сажа, хлопья, похожие на загрязненный снег. Так что я бегу подальше в зеленые холмы и леса, думая о том, что они простираются, почти непрерывно, до самой Канады, где, как уверяет нас реклама пива, все чисто и девственно.
Примерно в миле по асфальтовой дорожке расположена деревушка Аллегени-Уэллс, всего из двадцати домов, размером примерно как оба Имения Аллегени вместе взятые. Дома здесь меньше, по большей части одноэтажные особнячки на две спальни с мансардой, и они жмутся друг к другу вокруг единственного в деревне перекрестка с пресвитерианской церковью – на ее колокольне как раз вспыхнул свет, когда я вбежал в поселок. За исключением времени служб церковь всегда на засове – возможно, для того, чтобы ее не использовали в качестве пристанища замерзшие и выбившиеся из сил бегуны вроде меня. Я прикинул, не совершить ли мне круг почета вокруг этого строения со шпилем и не повернуть ли обратно. В конце концов, две мили наберутся, а я всего лишь две недели как начал снова бегать. Но боль в носу почему-то придала мне дополнительной энергии, и дыхание вырывалось такими белыми, бодрящими клубами, что я решил свернуть на перекрестке вправо и пробежать еще полмили до того места, где моя дочь Джули и ее муж Рассел начали минувшей осенью строить собственный дом. Пусть моя жена думает, что я бегу от неприятностей, но, с моей точки зрения, неприятности поджидают меня в любом направлении, в том числе в этом.
Дом Джули – запретная тема. Стоит ее затронуть, Лили бросает на меня предостерегающий взгляд и вслух напоминает, что мы договорились не лезть в жизнь детей. В целом я согласен. Я вовсе не хочу мешаться в чужие дела, даже когда чертовски ясно, что кто-то ими должен заняться. Но едва ли было бы такой уж бесцеремонностью ткнуть нашу дочь Джули в очевидный факт: дом, который они с Расселом затеяли строить, им не по карману.
Этот факт бросается в глаза до такой степени, что едва ли мог ускользнуть даже от Джули, ничего не смыслящей в деньгах – ни откуда они берутся, ни насколько их хватает, ни куда они деваются и сколько придется ждать, прежде чем они появятся снова, и что делать до тех пор. Хуже этой ее наивности лишь нежелание признать свою наивность. Если по неосторожности спросишь, как она могла совершить ту или иную глупость, Джули тебе все подробно объяснит. Дом, проинформировала меня дочь, это не просто дом, но и возможность избежать налогов.
– Ты шутишь, да? – спросил я, высматривая приметы шутки, но обнаружил гнев.
– Налоговые льготы нужны тем, кто зарабатывает слишком много денег, – попытался я разъяснить. – А не тем, кто зарабатывает слишком мало. Понимаю, что и с таких доходов тебе не хочется платить налоги, но из этого не следует, что тебе нужны льготы.
Воздействие моей казначейской мудрости на Джули было настолько предсказуемым, что даже я мог бы его предсказать. С самого начала она стояла на том, чтобы не просто построить этот дом, но построить его вопреки всему, хоть ад разверзнись, вопреки реальности и здравому смыслу, поскольку в глазах Джули реальность и здравый смысл – именно такие препоны, которые надо превозмочь. Джули обожает кино и, я так понимаю, насмотрелась чересчур много фильмов, в которых обреченные побеждают и вера вознаграждается. Попытавшись внушить ей здравый смысл, я и сам сделался одной из и без того многочисленных препон, которые моя дочь отважно преодолевала. К тому же она любит и телевизор, и, боюсь, ее мыслительные процессы повреждены рекламой. Как множество американцев, она разучилась понимать простые слова. Не видит ничего абсурдного в лозунге «Ты этого достойна», к какому бы сегменту общества он ни применялся. Верит, что «достойна» астрономических сумм, которые тратит на уход за волосами. У кого-то из подруг большой дом? Так что же, она не имеет права на такой же? Не достойна?
Когда Лили твердит, что нельзя лезть в жизнь выросших детей, она подразумевает, что мы обязаны делать хорошую мину при их плохой игре, даже наедине друг с другом. Будь на то ее воля, мы бы никогда не упоминали поступки наших детей, порой граничащие с безумием, как будто если мы признаем и осудим ошибки, то тем самым сглазим и без того обреченные планы. Будь великодушен, призывает меня жена. Предоставь им шанс проиграть.
Да бога ради. Но противно, что приходится все время притворяться. Мы делаем вид, будто они поступают умно, когда они тупят. Подобного рода притворство, пытаюсь я втолковать Лили, категорически противоречит бритве Оккама, требованию не плодить сущности без нужды. Ложь и притворство, объясняю я ей, всегда влекут за собой новую ложь и еще больше притворства. «Ты должен сделать вид, будто удивлен» – излюбленное светское правило моей жены, с виду безобидное. От меня требуют, чтобы я следовал ему каждый раз, когда кто-то совершает абсолютно предсказуемый поступок, который якобы должен застать меня врасплох. Изображать из себя идиота – почему-то Лили, в отличие от меня, эта роль вовсе не кажется непристойной. Не говоря уж о том, что потом это непременно обратят против меня. («Мы думали, ты что-то заподозришь, увидев столько машин возле дома в свой юбилей. Разве писателю не полагается быть наблюдательным?») У Лили есть, конечно, свои резоны. Главным образом, она боится задеть чувства других людей. И вот я должен изобразить ах какое удивление, услышав о беременности нашей общей подруги через несколько недель после второпях организованной свадьбы.
– Но мои чувства будут задеты, если меня примут за дурака, – твержу я жене. – Разве тебе все равно, что люди подумают обо мне?
А она только смеется.
– Они и не заметят. В других случаях ты же и правда соображаешь довольно туго, так что не отличишь.
И вот мне вменено притворяться, будто затеянное Джули и Расселом строительство не ведет прямиком к катастрофе. Для вящего подтверждения иллюзии, что верим в их здравый смысл, мы одолжили дочери деньги. Я придерживался на этот счет особого мнения, чем раздосадовал Лили, да и сам порой слегка раскаивался в своем жестокосердии. Если в итоге дом разорит их, я буду виноват в том, что не оказал душевной поддержки.
Шансы разориться я оцениваю сейчас как пятьдесят на пятьдесят. Недавно Рассел бросил хорошую работу ради, как он полагал, лучшей, но тут же выяснилось, что крупные государственные займы, необходимые для запуска проекта, который он должен был возглавить, так и не были одобрены. Придется ждать несколько месяцев, сокрушается он. А то и год. На что они будут тем временем жить – не понимаю. Не на зарплату же продавца в отделе рэйлтонского универмага, которую получает Джули. Рассел, специалист по программному обеспечению, немножко подрабатывает фрилансом.
Дом – наглядное свидетельство внезапной перемены их фортуны. С фасада – точная копия нашего дома, и это не случайность: тот же подрядчик, тот же проект. Лили права – иногда до меня и правда медленно доходит. Что-то смущало меня, пока я следил, как новый дом растет из земли, но прошло много недель, прежде чем я нащупал причину: наша дочь воспроизводит наш дом. Лишь при виде двух веранд, спереди и сзади, смутно брезжившее подозрение обрело ясность.
– Как они раздобыли проект, хотел бы я знать, – сказал я.
– Я им дала, – ответила моя жена так, словно уж в такую-то жизненную тайну даже я должен был бы проникнуть без ее помощи.
– Ты дала им план нашего дома? – переспросил я. Ощущение таинственного устройства жизни вовсе не ослабло.
– Это сэкономило им прорву денег.
Имелись и другие преимущества, по словам моей дочери.
– Карл, – рассказывала она, называя по имени нашего подрядчика, – говорит, что уж на этот раз сделает все по уму. Говорит, он помнит все мелочи, которые просрал, когда строил ваш дом. Наш будет безупречен.
Тайна громоздилась на тайну. Как случилось, что моя дочь называет по имени того самого подрядчика, что гонял меня хуже собственных рабочих и совал в карман чеки, не допуская и намека на фамильярность? И с каких пор моя младшая дочь произносит в моем присутствии выражения вроде «просрал»? А самое главное: зачем Джули понадобилась точная копия (пусть безупречная) родительского дома?
– Значит, если мне когда-нибудь надоест жить в собственном доме, где строители то и се просрали, я смогу переселиться к вам? – спросил я.
В ответ моя дочь уперлась руками в худенькие бедра, точная копия своей мамы в той же позе, ничего не скажешь, и заявила:
– Ох, папа, не писай кипятком. Ты прекрасно знаешь, о чем я.
Не писай кипятком?
– Кроме того, – с усмешкой добавила она, – дома не идентичны. В нашем мы обустроим бассейн и джакузи.
Но не обустроили. Во всяком случае, пока. Решили потерпеть с роскошью до лучших времен. Лили проинформировала меня об этом, подчеркивая, что волноваться не о чем, Рассел и Джули более разумны, чем я осмеливался поверить (дом выносим за скобки).
Но когда я, подковыляв к почтовому ящику, окинул взглядом эту постройку, следы отчаяния виднелись повсюду. Проблема отнюдь не сводилась к осевшей груде земли возле наполовину вырытой ямы. О том, что молодые люди перерасходовали и деньги, и терпение банка, свидетельствовало всё. Извилистая подъездная дорожка так и не замощена, участок не выровнен, на окнах нет жалюзи. Над отверстием для дымохода полощется, словно флаг, кусок ярко-голубого брезента. У меня мурашки побежали по коже, а оттого, что их дом так походил на наш с Лили, страх имел отчетливо эгоистический оттенок. Две мысли быстро сменяли друг друга, вторая настигла меня прежде, чем я успел отделаться от первой. Сначала: господи, они это не вытянут. А потом: в некотором символическом смысле я смотрю не на их дом, а на мой собственный, и теперь догадываюсь, о чем Тедди спросил мою жену, когда я глядел на них в кухонное окно. Все ли со мной будет в порядке, вот о чем он спрашивал ее. Во всяком случае, я думаю, что именно об этом.
Машина, следовавшая за мной по пологому склону вверх на холм, на гребне наконец-то меня догнала. Я рысцой свернул на подъездную дорожку к дому дочери, пропуская автомобиль. Но водитель затормозил, комически, на мой взгляд, озабоченный моей безопасностью. Когда машина остановилась и замигала фарами, я сообразил, что это Джули сгоняет меня с дороги, – посигналила, замахала рукой, приглашая следовать за ней к крыльцу. Навещать ее и Рассела вовсе не входило в мои планы, однако раз попался, приходится делать, как велено. К тому же я превысил темп, когда бежал, так что отдохнуть перед обратной дорогой будет нелишним.
– Поглядела я на тебя – до вершины ты вряд ли доберешься, – заявила моя дочь, когда я подтрусил к ней. Она достала из багажника небольшую сумку с продуктами, сунула ее мне и захлопнула крышку.
– Мне летом стукнет пятьдесят, – пропыхтел я. – В один прекрасный день ты найдешь меня распростертым на обочине.
Обычно Джули пресекает мои потуги на черный юмор, но тут она увидела мой нос и ахнула:
– Господи, папа!
Повадки этой девицы мне хорошо известны, поэтому, когда она вытянула тоненький указательный пальчик, чтобы тщательно заточенным и ярко накрашенным ногтем ткнуть в лилово-красную ноздрю, которая от бега, как мне казалось, еще дальше сдвинулась к периферии моего зрения, я успел перехватить изящное запястье. Ток крови ускорился от бега, ноздрю дергало в такт с биением пульса, и даже легчайшее прикосновение таило в себе угрозу.
– Не надо, – взмолился я.
Она пообещала не трогать нос, но велела повернуться, чтобы лампа на крыльце осветила мои увечья, и подалась вперед, внимательно их изучая.
– Жуть! – таков был ее вердикт, и я физически ощутил, как ей неймется поколупать мою рану хотя бы мизинчиком – тоже с длинным ногтем.
– И почему человека так и тянет потрогать что-то мерзкое? – вслух удивилась она.
В самом деле, почему? Что бы сказал по этому поводу Уильям Оккам? Наверняка существует какое-то простое объяснение.
– Где Рассел? – спросил я, чтобы сменить тему. Хотя зять мне нравится, нынче я бы предпочел не застать его дома.
Джули забрала у меня сумку с продуктами и поставила ее на кухонный стол.
– Где-то здесь.
Она выкрикнула его имя. Донесся еле слышный ответ.
– Наверху, – определила Джули.
– Снаружи, – уточнил я. – На задней веранде.
Звук в их доме распространяется так же, как в нашем, несмотря на просранные мелочи. Я знал, что Рассел на веранде, за домом. Чего я не знал, так это что он там делает, – слишком холодно, чтобы расслабляться на веранде.
– Иди сюда! – донесся еле слышный голос Рассела.
Мне вдруг понадобилось в туалет – внезапно, безотлагательно. Примерно десятый раз за день, и при мысли о том, что это может означать, меня прошиб холодный пот. Нет, сказал я себе. Даже не думай в эту сторону.
Мы вышли на заднюю веранду, где Рассел стоял на нижней ступеньке стремянки, прислоненной к карнизу. В одной руке он держал фонарь, направляя его луч на довольно впечатляющее осиное гнездо. Несколько теплых дней на этой неделе – и пожалуйста. В другой руке Рассел держал огромный баллон «Рейда». Судя по виду моего зятя, он уже довольно долго простоял в этой позе.
– Как думаешь, они спят? – спросил он.
Думаю я, что этому человеку не следовало обзаводиться домом. Моя дочь, разглядев осиное гнездо, попятилась к раздвижной двери, явно собираясь улизнуть.
– Не знаю, спят ли осы вообще, – ответил я.
Луч фонарика нащупал меня. Очевидно, пока я не заговорил, Рассел не замечал, что его жена тут не одна.
– Хэнк! – воскликнул он, так обрадовавшись моему появлению, словно обрел во мне союзника.
– Привет, Рассел.
– Господи, что случилось с твоим носом?
– Оса укусила.
– Правда?
– Неужели я стану тебя обманывать, Рассел?
Ответ на этот риторический вопрос, разумеется, «да», но Рассел слишком долго проторчал под осиным гнездом, собираясь с духом, чтобы его опрыскать, страшась нападения, а тут такая страсть с моим носом – запросто оса могла цапнуть.
– У нас дома они тоже всегда устраивают гнездо в этом месте, – заверил я его. – Я специально зашел тебя предупредить. Наверное, и осы у нас одинаковые.
Рассел опустил фонарь, но я видел, что он купился.
– Лишь бы носы у нас не сделались одинаковыми, – вздохнул он. – Уродливее твоего никогда не видал.
Луч фонаря вернулся ко мне для дополнительного осмотра. На этот раз я приподнял руку, отгораживаясь от бьющего в глаза света и от любопытного зятя.
– Будь у меня такой мощный фонарь, я бы тоже сумел разглядеть в тебе какое-нибудь уродство.
– Джули! Подержи фонарь, а я их опрыскаю.
– Ищи дурака, – сказала Джули.
Я подошел, взял фонарь, направил свет на гнездо.
– Готов? – спросил Рассел. Голос угрюмый, полный решимости и страха.
– Ты не бывал на войне, верно? – вопросом на вопрос ответил я.
– Так и ты не бывал, – парировал он. – Во Вьетнаме ты служил писарем.
Не совсем точно. Я служил писарем во время Вьетнама.
– Я каждый год читаю со студентами «Алый знак доблести», – сказал я. – Опрыскивай гадов – и пошли в дом.
Рассел поливал серый, словно бумажный, конус, пока тот не заблестел и с него не закапали излишки спрея. Внутри никакого движения. Я заподозрил, что мы воюем с прошлогодним гнездом.
– Так бы я хотел умереть, – заявил удовлетворенный своей работой Рассел.
– Задохнуться от инсектицидов? – удивился я.
– Не-а. Во сне.
– Учитывая, сколько ты спишь, шансы неплохие, – сказала Джули.
Мы вернулись в кухню – единственное во всем доме полностью меблированное помещение. Спасибо и на том, что дочь с зятем не стали копировать внутреннюю обстановку нашего жилища. Возможно, в этом вопросе мы как раз что-то просрали. Или у Джули включается собственное воображение, когда дело касается столов, стульев, диванов. У нас кухня-остров, а они поставили недорогой стол из дерева и стекла со сложным геометрическим узором – сразу и не поймешь, удалось вытереть с него капли овсянки или нет.
Рассел присел к столу, Джули занялась кофе, а я наведался в их ванную и замер перед унитазом, словно средневековый пилигрим. Несколько минут назад мне казалось, что я раздуваюсь, вот-вот лопну, а теперь эти внутренние ощущения опровергались тем, что вернее всего назвать слабой и тонкой струйкой. У меня камень, вот чего я опасаюсь. Отца камни преследуют всю его взрослую жизнь, началось раньше, чем у меня, когда ему было тридцать с небольшим. Терзали они и отца моего отца, а мой прадед умер от заражения крови, когда камень размером с манго перекрыл его уретру и запертая моча чуть ли не из глаз у него сочилась. Я давно откладываю обследование в надежде, что обойдусь и без. А теперь придется поехать в больницу, сделать рентген, выслушать диагноз, получить направление на операцию.
Не столько скальпель хирурга страшит меня, сколько сам этот комический недуг. Коллеги сочтут, что это в моем духе: обзавестись болезнью, как нельзя более пригодной для шуток. «И это пройдет, – будут они твердить, – пройдет и выйдет». После сегодняшнего увечья я твердо намерен хранить свой камень в секрете и как-то продержаться до конца семестра. А когда все разъедутся, тогда и разберусь с ним. Может, удастся сделать операцию в Нью-Хейвене, где живет наша дочь Карен. Или операция вовсе не понадобится – в большом городе найдутся и другие методы. Я где-то читал, что появилась совершенно новая технология, камни дробят направленным ультразвуковым лучом.
Жалкая струйка иссякла, давление на мочевой пузырь слегка ослабло. Стряхнув последние капли, я вернулся в кухню, к изысканному обществу дочери и зятя.
Сев за стол, я ощутил грозовые разряды в атмосфере. Джули и Рассел переговаривались приглушенными голосами. Шрам под глазом у Джули – много лет назад она перелетела через руль первого своего велосипеда – полыхал, и на меня обрушились грусть и вина, чувства не справившегося со своими обязанностями родителя. Шрам совсем маленький, метка в уголке глаза, напоминание о том, что в жизни случаются вещи намного хуже. Когда моя девочка счастлива, шрам исчезает. Но гнев, разочарование или усталость тянут уголок глаза вниз, и в такие моменты – вот и сейчас – Джули выглядит злобной. Будь с нами Лили, она бы сумела нежно дотронуться пальцем до шрама – такой сигнал она подавала Джули из года в год: улыбнись, усилием воли стань снова красивой.
Если во время моего отсутствия были сказаны какие-то обидные слова, их произнесла Джули, а не Рассел. Это было ясно по его лицу. Теперь, когда я мог повнимательнее рассмотреть Рассела, он показался мне погрузневшим. Он всегда был в форме, фигура подтянутая, хотя никаким спортом не занимался. Но за месяц-другой с тех пор, как он остался без работы, Рассел набрал фунтов десять. И он слегка растрепан. Стрижется он обычно коротко, модно, волосы укладывает гелем. Если застать его в тот момент, когда они с Джули намылились куда-то пойти, волосы у него будто мокрые. Под конец вечера они приобретают более человеческий вид и Рассел начинает смахивать на Тома Сойера. Сейчас же волосы отросли и висели безжизненными космами. Только тут я спохватился: хотя мы живем так близко друг от друга, я уже месяц не видел ни Джули, ни Рассела. Лили извещала меня об их новостях точно так же, как о событиях в жизни другой нашей дочери, Карен, которая благоразумно живет в Нью-Хейвене в квартире на третьем этаже, и эта квартира не имеет ничего общего с домом ее родителей.
– Давненько я от вас новостей не слышал, – сказал я Расселу. – Что нового?
– Ну, Хэнк, – вздохнул Рассел, – мы должны вам слишком много денег, чтобы наслаждаться задушевными разговорами.
Что было на это сказать? Тем более что я даже не знал толком, сколько именно мы им одолжили. Наверное, правильнее всего было бы ответить «не переживайте об этом», но мне бы не хотелось, чтобы меня поймали на слове, особенно если моя жена проявила еще большую щедрость, чем мне известно.
– Выплаты по ипотеке растут, – сказала Джули. – Сбережения тают. Доходы падают.
– Как и настроение одной избалованной молодой женщины, – проворчал Рассел, глядя через мое плечо на Джули, собирающую чашки и блюдца. – Извини, Хэнк. Это прозвучало так, будто я критикую твой метод воспитания, да?
– Ничего подобного, – возразил я. – Девочек воспитывала Лили. Я преподавал «Алый знак доблести».
– Хотя заслужила этот знак мама, – сказала Джули, разливая кофе в причудливые чашки, я впервые их видел. – Менструация – вот подлинный алый знак доблести.
Мы с Расселом обменялись взглядами. Из трех феминисток в семье Деверо Джули всегда была наименее глубокомыслящей, зато наиболее откровенной.
– Наверное, мне следовало повнимательнее отнестись к этому, – покаялся я. Нет, я не шовинист, но могу играть эту роль.
Джули тоже присела к столу, насыпала себе в кофе три ложки сахара.
– Поздно, папочка. – Она погладила меня по руке. Лучше бы Рассела погладила, таким вот жестом «я же просто над тобой подшучиваю».
Заметив, как Джули приласкала меня, Рассел отвернулся.
С минуту мы молча пили кофе. Я наконец перестал потеть после пробежки, и нос уже не так пульсировал. Несмотря на эмоциональное напряжение, царившее в кухне, все же я чувствовал себя здесь как дома – возможно, потому, что все здесь походило на наш дом, Лили и мой. Вот кого здесь недостает – Лили, понял я. Будь она тут, рассеялись бы грозовые разряды, порожденные нехваткой финансов у Джули и Рассела. Какая-то у нее природная способность смягчать, внушать уверенность, что совсем уж плохо дела обернуться не могут – по крайней мере, не в ее присутствии. Даже в детстве Карен и Джули переставали при ней ссориться, словно знали, что эмоциональное равновесие их матери необходимо для всеобщего блага. Говорят, точно так же Лили действует на своих отстающих учеников, на эти «дубы». Та еще компания, многие из них попадают за решетку и оттуда пишут Лили извинения: «Воткнув нож в Стэнли, я вовсе не хотел проявить неуважение к вам и к тому, чему вы пытались нас научить, как жить правильно. Понимаю, вы во мне разочарованы, ведь и я то же самое». Лили – такой человек, что лишается сна, прочтя какую-нибудь двусмысленность, вроде только что приведенного предложения, и ее ребята понимают вроде бы и это – даже те из них, кто не сумел бы найти слово «двусмысленность» в словаре, хоть посули им за это бесплатную поездку на Багамы.
– И как же ты заполучил такой нос? – спросил наконец Рассел.
Зная, что правда прозвучит еще более абсурдно, чем предшествовавшая ей ложь про укус осы, я все же ответил:
– Это сделал со мной поэт. – И невольно ухмыльнулся, отметив, что таки признал Грэйси поэтом.
– Злобный какой поэт, – сказал Рассел.
– Вообще-то обычный. Поэты всегда злобненькие.
– В отличие от писателей, – сказала Джули и на этот раз действительно застала меня врасплох.
Единственный мой роман вышел в год ее рождения, и хотя мы никогда ей этого не говорили, вполне возможно, что Джули была зачата, когда мы праздновали известие, что мою рукопись приняло издательство. Преувеличивает ли моя дочь, наделяя меня писательским статусом, как я только что наделил статусом поэта Грэйси, или же она в самом деле и после двадцатилетнего молчания верит в меня? Может, она засчитывает мне и колонку? Не видит особой разницы между ней и романами? По правде говоря, я уже редко именую себя писателем даже мысленно, хотя все время что-то пишу – рецензии на книги и фильмы для «Зеркала Рэйлтона», очерки из серии «Душа университета». Но я не опубликовал и даже не написал хотя бы рассказ за долгие годы после выхода романа, встреченного до смешного восторженной рецензией в «Таймс» (позднее выяснилось, что она была инспирирована моим отцом, который водил дружбу с издателем) и канувшего затем в ту безымянную могилу, куда отправляются книги, не сумевшие поднять заметную рябь в литературной заводи. И кажется, не я один перестал воспринимать самого себя как писателя. На Рождество я впервые с выхода «На обочине» так и не дождался поздравления от моего литературного агента Венди, хотя, возможно, я лишился ее благосклонности из-за глупого письма, отправленного в прошлом году. Венди проинформировала всех клиентов, что в связи с возросшими расходами на ведение дел в Нью-Йорке она впредь будет брать не 10, а 15 процентов комиссионных. Наверное, не увидела юмора в моем саркастическом отказе платить ей дополнительные пять процентов от нуля. Неужели я сам себе так подстроил, задумался я, что люди, которые меня знают, отказываются принимать меня всерьез, а у почти незнакомых мои иронические выпады вызывают серьезный, жесткий отпор?
Неважно, сам факт, что дочь по-прежнему считает меня писателем, ободряет, хотя опять-таки свидетельствует о ее незнании жизни.
– Теннисные корты почти просохли, – сказала Джули.
Летом мы с ней играем в теннис – азартно и неуступчиво – вплоть до глубокой осени, пока позволяет погода. На стороне моей дочери возраст и талант, и она великолепно отбивает, держа ракетку обеими руками, так что легко могла бы меня разгромить, если бы только не отвлекалась, – а на меня она отвлекается. Одно из моих преимуществ в этой игре – единственное, если верить Джули – владение отвлекающими приемами. Она терпеть не может разговоры во время игры, вот я и изобретаю различные темы для обсуждения. Знай болтаю, пока Джули не завизжит: «Заткнись, черт побери!» – это значит, что ее терпение на исходе, и тут уж мне достаточно просто играть. Наши поединки озадачивают Рассела, он слишком славный парень, чтобы понять суть спорта или соревнования, и слишком бестолковый, чтобы усвоить инструкции. Когда он начал всерьез ухаживать за Джули и вздумал произвести хорошее впечатление на меня, он предложил мне сыграть в баскетбол один на один. Состязание вышло настолько односторонним, что обе зрительницы, Лили и Джули, после матча набросились на меня.
– Тебе непременно нужно было его унизить? – возмущалась Лили.
– Я вовсе этого не хотел, – оправдывался я. – Наоборот, старался поддержать игру.
– Хоть бы один мяч позволил ему забросить, – хмурилась Лили. – Один мяч. Что, небо рухнуло бы?
– Он же все время перебрасывал мяч через щит, – напомнил я. – Четыре раза мне пришлось лазить на крышу.
– Ты бы еще через его голову мяч в корзину вколотил, – сказала моя жена.
– Такая возможность не раз представлялась.
Тут Рассел вступил в разговор – и заступился за меня.
– Хэнк прав, – вздохнул он. – Я никудышный игрок. Из рук вон. Совсем никуда. Зря я попросил тебя сыграть.
– Выберем другой вид спорта, где мы на равных, – предложил я.
– Вряд ли, – кротко улыбнулся он. – Баскетбол мне давался лучше, чем все остальное.
Это была наша первая и последняя игра.
– Берегись, этим летом твой отец снова будет в форме! – предупредил я Джули. – Связки зажили, я уже по две мили в день пробегаю.
– Почему вы с мамой никогда не бегаете вместе? – спросила дочь таким серьезным тоном, что на миг я растерялся. Все слова я отчетливо разобрал, но ее тон предполагал какой-то иной вопрос, что-то вроде «Почему вы с мамой спите в разных комнатах?». Тонко настроенный радар моей дочери уловил какую-то фигню. В отличие от своей сестры, Джули никогда не могла похвастаться последовательным мышлением, но с малолетства была способна к леденящим кровь прорывам интуиции.
Или, может, она просто хочет знать, почему Лили и я не бегаем вместе. Подобное объяснение устроило бы Уильяма Оккама, и мне следует довольствоваться им.
– Ей не подходит мой темп, – ответил я, допивая кофе и толчком отправляя фарфоровую чашку вместе с блюдцем на середину стола.
Рассел снова расплылся в улыбке:
– Ты для нее слишком медленный или слишком проворный?
– Не говорит, – улыбнулся и я.
– Ты должен знать такие вещи, – сказала Джули. – Должен проявлять внимание к своей жене.
Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что эта реплика адресована более Расселу, чем мне, и, судя по выражению его лица, он тоже так это воспринял. Вновь повисло молчание, и когда зазвонил телефон и Джули отошла снять трубку, я даже приободрился, но тут услышал: «Да, он здесь. Хочешь с ним поговорить?» Пауза. Видимо, не хочет. Джули слушала, и ее лицо становилось все мрачнее. «Я скажу ему», – пообещала она и повесила трубку. Рассел приподнял бровь, выражая мне сочувствие. Он еще молод, но уже достаточно долго женат, чтобы чуять неприятности.
– Возвращайся домой, – велела Джули. – Мама говорит, тебе дозванивается мистер Квигли. Говорит, ты знаешь, что это значит.
Увы, знаю, и если Билли Квигли рвется поговорить со мной, это само по себе достаточная причина оставаться там, где я сейчас сижу.
– Мама говорит, он ей не верит, что ты не дома.
Я встал, отодвинув стул.
– Когда Билли дома, по его понятиям, все должны быть дома, – сказал я, несколько упрощая логику моего пьющего коллеги. Беда в том, что Билли достаточно умен, чтобы понимать, как бы я хотел увильнуть от разговора с ним, но слишком пьян, чтобы припомнить, что я всегда отвечаю на его звонки, хочу я того или нет.
– Я тебя подвезу, – вызвался Рассел.
– Не надо. – Джули покачала связкой ключей на мизинце. – У тебя трудный был день. Отдыхай.
Рассел выдержал эту парфянскую стрелу как мужчина, даже не поморщился. Поморщился за него я.
– Хэнк, – сказал он, оставшись сидеть, – гляди в оба.
Опасность повсюду, вот что он хотел сказать.
Мы поехали на «эскорте» Джули.
Я готов был нарушить одно из немногих простых правил, по которым живу, и спросить, все ли у них с Расселом хорошо, но она меня опередила:
– Что это за собеседование у мамы в Филадельфии?
– Не то чтобы она всерьез к этому присматривалась, – начал я. – Но в следующем году директор ее школы уходит на пенсию. Школьный совет мог бы прояснить, кого они видят преемником, если на членов совета слегка надавить.
– А если не прояснят? Она согласится на ту, другую работу?
– Мне кажется, ты не тому человеку задаешь вопрос.
Мы остановились на перекрестке у пресвитерианской церкви. Шпиль вознесся высоко, окружающие деревья голы, и недостает лишь снега, чтобы вышла литография Курьера и Айвса. Джули смотрела на эту картину, будто ее не видя.
Мы застряли на распутье – буквально, – словно мы оба вдруг перестали ориентироваться. Если бы сзади подъехала машина, водитель решил бы, что мы ошиблись на предыдущем повороте и теперь либо склонились над картой, либо сверяемся со звездами. Твердь небесная полна ими, весело подмигивающими, намекающими, что дорог перед нами – мириады, в то время как на земле перед нами было всего три дороги, две из них неверные (и мы знали какие).
– А что будешь делать ты? Уйдешь из университета? – Не дождавшись мгновенного ответа, она добавила: – На этот раз я тому человеку задаю вопрос?
– Нет, его тоже следует задать твоей матери.
И тут Джули застала меня врасплох. Не говоря ни слова, моя дочь стиснула ладошку в кулак, развернулась на сиденье и со всей силы врезала мне в левый бицепс. Нет, оказывается, это еще не со всей силы – второй удар был сильнее, настолько, что я вынужден был перехватить ее руку у запястья, прежде чем огрести в третий раз.
– Гады! – завизжала она. – Вы решили развестись!
– Что ты несешь, Джули?
Она уставилась на меня так, словно многолетний опыт подсказывал: мне доверять нельзя. Я отпустил ее руку, демонстрируя, что я-то ей доверяю, и она ударила меня снова, хотя уже не так больно.
– Ты должен объяснить мне, что происходит.
– Понятия не имею, – честно признался я. – Ты говорила с сестрой?
Едва задав этот вопрос, я убедился, что угадал верно. Карен в целом девочка достаточно разумная, но почему-то всегда пребывает в уверенности, что ее родители вот-вот разведутся. Когда она училась в старших классах, родители нескольких ее близких друзей прошли через жестокий развод, травмировав собственных детей, и Карен тоже была потрясена, осознав, что подобное может случиться и с ее родителями. С тех пор она все время напряженно следила за опасными симптомами, и почти все, что она видела, от легкого препирательства до вполне благожелательной беседы, которую не понимала или к которой присоединялась с опозданием, Карен трактовала как знамение надвигающегося распада семьи. И разумеется, будучи старшей, Карен и Джули втянула в свои переживания.
– Мама всегда рассказывает ей то, чем со мной не делится, – пожаловалась Джули. – Меня это вымораживает.
– Что же она рассказала Карен? – Я действительно хотел бы это знать.
– Карен не говорит. И это меня тоже вымораживает. Как будто у них закрытый клуб и мне туда хода нет.
– Ты выдумываешь всякое. И твоя сестра тоже. Все у нас с твоей мамой в порядке.
Она обожгла меня взглядом:
– Откуда тебе знать? Ты никогда не замечаешь, если маме плохо, если она грустит.
– Когда это она грустит?
– Вот видишь.
Сзади подъехал автомобиль, водитель ждал, пока мы тронемся.
– Просто я… я, наверное, не переживу, если вы разведетесь именно сейчас, понимаешь? – пробормотала Джули.
Не знаю, очень ли дурно с моей стороны сожалеть, что у моего отпрыска полностью отсутствует чувство юмора? Либо рядом со мной сидит подменыш, либо в моих генах где-то на молекулярном уровне случилась поломка. Не может же дочь Уильяма Генри Деверо Младшего произносить такие фразы на полном серьезе? Будь с нами в машине Лили, она бы сказала, как мило, что наша дочь так переживает за брак своих родителей и старается его спасти, но я сомневался.
Машина сзади посигналила, Джули опустила окно, высунула свою прелестную головку и заорала:
– Отвали нахер!
К моему изумлению, машина сделала полный разворот и двинулась обратно, откуда приехала.
– Послушай, – сказал я, – если вам с Расселом нужны деньги…
Моя дочь уставилась на меня, будто ушам своим не веря:
– Разве мы говорим о деньгах?
– Я и сам не пойму, о чем мы говорим, – сознался я. – Твоя мама едет на собеседование в Филадельфию. Там она повидает твоего деда, выяснит, как он поживает. В понедельник вернется. Окей? Никаких тайн тут нет. Ты в курсе всего.
Джули пристально всматривалась в меня. Мы так и торчали на перекрестке. Наконец она завела мотор.
– Сомневаюсь, что я в курсе всего. – Нехотя, в пол-лица, она одарила старика-отца улыбкой. – Разве что настолько же в курсе, насколько и ты.