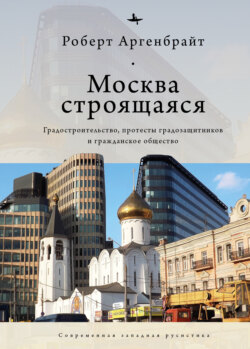Читать книгу Москва строящаяся. Градостроительство, протесты градозащитников и гражданское общество - Роберт Аргенбрайт - Страница 7
Глава первая
Обустройство города
Обустройство места
ОглавлениеЕсли человек пытается сравнить две сложные ситуации, он скоро обнаруживает, что очень обременительно держать в голове все детали этих ситуаций. Он использует сокращения в виде имен, знаков и образцов <…> Но если он забывает о совершенных замещениях и упрощениях, то вскоре скатывается в пустословие, употребляя слова вне связи с объектами. И он не заметит, когда имя, которое он отделил от первого объекта, начнет ассоциироваться с другим объектом [Липпман 2004: 202].
Гуманитарной географии издавна были свойственны разногласия по поводу основных терминов и фундаментальных объектов изучения. В этом отношении для гуманитарной географии нет терминов более важных, чем «пространство» и «место». И поскольку эти понятия в данной сфере до сих пор не устоялись, здесь необходимо дать представление о месте и пространстве, а также о взаимоотношениях между ними. Очевидно, что эти понятия не являются противоположными. В некоторых случаях они используются как синонимы, однако есть веские причины попытаться провести между ними различие.
Исчерпывающее внимание постмодернизма к дискурсу повлекло за собой «пространственный поворот» во многих научных областях. Естественно, гуманитарная география не могла остаться в стороне. К сожалению, многие географы трактуют «социальное пространство» в качестве всеобъемлющего понятия, подобно «обществу», против чего возражает Латур, а до него – Дьюи и Липпман. Считается, что в социальном пространстве находятся каждый из нас и любая вещь {every thing). Порой это буквально воспринимается как «всё» {everything), что, как заметил Дьюи, означает «ничто».
Социальное пространство можно рассматривать как сумму всех мест, способ сосредоточить внимание на «структурных» элементах, из которых они состоят. Но даже такой подход может давать статичную картину. А кроме того, он побуждает к злоупотреблению понятийными «сокращениями» и, как следствие, к «разбору логических взаимоотношений разнообразных идей, уводящему от фактов человеческой деятельности» [Дьюи 2002: 11]. То, что Э. Томпсон писал о своей научной области, следовало бы, на мой взгляд, отнести и к общественной географии: «История – не фабрика по производству “больших теорий”» [Thompson 1978: 46]. И то, что Томпсон высмеивал в работе Л. Альтюссера, сплошь и рядом можно увидеть сегодня: «Системы и подсистемы, элементы и структуры маршируют строем по странице, притворяясь людьми» [Thompson 1978: 75].
С моей точки зрения, наибольший интерес для гуманитарной географии должны представлять создание и воссоздание места. Чтобы обустроить место проживания, мы привлекаем людей и вещи, которые не имеют между собой ничего общего, и создаем уникальную совокупность с более или менее определенными размерами, формой, местоположением и продолжительностью, но обязательно связанную с другими местами и временами. Опираясь на А. Лефевра [Лефевр 2015], П. Каннаво возражает против идеи, что место – всего лишь сцена:
Место – не просто вместилище для вещей и отношений. Нет никакого предсуществующего пространства, содержащего в себе место. Напротив, место – это совокупность предметов и отношений, человеческих и нечеловеческих, социальных и экологических, которые накрепко связаны между собой, по крайней мере на какое-то время [Cannavo 2007:20].
Чем место отличается от пространства? Географ И-фу Туан предложил одно из объяснений в книге «Пространство и место»:
На практике значение пространства часто сливается со значением места. «Пространство» более абстрактно, чем «место». То, что начинается как недифференцированное пространство, становится местом, когда мы лучше узнаем его и наделяем ценностью [Tuan 1977: 6].
Знакомство с местом означает, что вы в каком-то смысле делаете его своим, но определение пространства как «недифференцированного» и подразумеваемое условие, что «ценность» – дело сугубо личное, приводят к проблемам. Два человека могут смотреть на один и тот же дом, и первый будет считать его местом, а второй – пространством. Для одного дом – это дом. Человек эмоционально привязался к этому месту как к своему жилищу, чувствует свою принадлежность к нему и делает его частью своей личности. Для другого дом – объект недвижимости, профессионально оцененный в определенную сумму денег. В глазах риелтора дом – это имущество, принципиально ничем не отличающееся от ему подобных, за исключением специфических особенностей, влияющих на его рыночную стоимость как товара. Оба человека ощущают ценность дома, но в первом случае она является делом личной привязанности, а во втором – экономического расчета[5].
Р. Сэк считает, что «мир полон мест, но <…> когда мы быстро передвигаемся и не обращаем на них большого внимания, они имеют тенденцию сливаться, так что наш опыт – это опыт движения в пространстве» [Sack 1997:31][6]. Движение изменяет опыт: личная причастность к месту становится абстрактным взглядом на пространство. Но Сэк утверждает, что в реальности пространство – не более чем то, что определено естествоиспытателями: фундаментальное понимание физической реальности. Согласно Сэку, «это пространство не является культурным артефактом; оно не сконструировано культурно» [Sack 1997: 32]. Это земное пространство «абсолютных» местоположений, с которыми мы имеем дело, используя координатную сетку[7]. Всё где-то находится, и местоположение чего-либо может рассматриваться как место, но Сэк считает такие места «вторичными» (secondary).
Когда место, а не только находящиеся в нем вещи, является фактором – когда оно влияет, воздействует и контролирует – это первичное место. Первичные места включают в себя человеческие поступки и намерения и обладают способностью изменять вещи <…> Первичное место более искусственно или культурно сконструировано, чем вторичное. Это не означает, что первичное место, или его сила, – в чистом виде понятие. Напротив, первичные места имеют основанием физическую реальность, а также фактическое расположение и взаимодействие вещей в пространстве. Их сила заключается в том, что они могут также менять это расположение и взаимодействие [Sack 1997: 32].
В противоположность этому «социальное пространство» – абстрактное понятие, представление о мире извне, как если бы можно было вырваться из реального пространства [Sack 1997:86]. Зачастую данная точка зрения на пространство инструментальна, это прицельный взгляд, вроде «видения государства» [Скотт 2005], или застройщика, градостроителя, генерала. Каждый в определенной мере «видит» подобным образом, когда пытается мысленно нарисовать отдаленные места или пройти по незнакомой местности. «Социальное пространство» может служить вместилищем для знаний или представлений о «невидимой среде» [Липпман 2004], вместилищем, которое мы, учителя географии, стремимся заполнить с теми же шансами на успех, что и Сизиф. Но пространства могут являться результатом редуктивного анализа, часто функционального или идеологического по своей природе.
Сэк призывает нас
задуматься о том, как конкретное событие или процесс (например, образование, работа, бедность или такие категории, как смысл, природа, социальные отношения и самость) проявляются как череда мест {series of places) [Sack 1997: 255][8].
Для понимания значимости места идея самопроявления «как череды мест», возможно, наиболее наглядна. Как пишет Дж. Мэлпас, самость не существует отдельно от процесса проживания и деятельности в местах, но, напротив, «структура субъективности вписана в структуру места» [Malpas 1999: 35]. Место неизбежно принимает участие в непрерывном формировании идентичности человека и взгляда на других людей. Когл завершает свою замечательную книгу «Странные места» напоминанием о том, что «человеческое тело всегда локализовано, ведет определенную жизнь в определенном месте, бок о бок с другими, хорошо это или плохо» [Kogi 2008:143]. Совместное проживание в одном месте способствует формированию коллективной идентичности, которая исключительно важна для возникновения общественного движения [Polletta, Jasper 2001; Greene 2014].
Латур задает вопрос: «Где на самом деле производятся структурные эффекты?» [Латур 2014: 245]. Ответ: в местах, а не в каком-то огромном так называемом социальном пространстве. Это вовсе не означает, что места полностью самодостаточны. Как пишет Когл, «потоки нарушают целостность мест не более, чем еда нарушает целостность тела животного, а разговор – целостность личности человека» [Kogi 2008: 61]. Можно сказать, что места создают пространственные эффекты, поскольку все связи между местами, которые, как представляется, образуют социально-пространственную структуру, должны быть произведены в самих местах. Здесь уместно привести выражение Латура: «структурирующее место» [Латур 2014: 247].
Альтернативой является взгляд на места как на части целого – социального пространства. Но это целое, которое мы не можем увидеть, измерить или описать отдельно от «этого», являющегося всем, или всего, находящегося в «этом». Более того, подобный подход делает общество под личиной социального пространства скорее причинной силой, чем динамикой одномоментных итогов бесчисленных активных связей людей и вещей. Социальное пространство становится константой, а места рассматриваются как проявления, вариации, примеры или символы внутри него. Начинать объяснение с «социального пространства» значит ошибочно отождествлять следствие с причиной.
Тогда с чего же начать? Латур призывает практиков ACT – «социологов ассоциаций» – начать с «картографии разногласий по поводу образования групп» [Латур 2014: 47]. Мой подход в данном исследовании заключается в том, чтобы проследить за разногласиями по поводу организации городской среды. Я отношусь к месту не как к вещи, а как к процессу, то есть как к определенным образом созданной и локализованной комбинации процессов. Места должны быть обустроены, и они продолжают существование лишь в том случае, если их поддерживают и иногда переустраивают – энтропия не дремлет. Места, как подчеркивает Латур, состоят не только из человеческих существ и других биологических форм, но также из неодушевленных предметов. Изучая фактическое обустройство среды обитания, гуманитарная география уже довольно давно имеет дело с реально существующими комбинациями того, что Латур называет «несоизмеримым». Региональная география, например, предлагает бесчисленные примеры изучения мест, которые можно представить как имеющие собственный уникальный характер, но состоящие из различных людей и предметов, имеющих связи, которые выходят за пределы места и момента. Трудность всегда заключалась в том, чтобы отразить динамику формирования региона, не ограничиваясь статистическим описанием выявленных особенностей.
Предметом основного внимания данного исследования является противодействие разрушению материального культурного наследия, принудительному переселению жителей и уплотнительной застройке. В случае с сохранением наследия в действие вступают различные несоизмеримые величины. Заметную роль играют конкретные физические характеристики здания. Для начала, чем хуже его состояние или накопленный износ, тем выше затраты на реставрацию. Решающим фактором могут стать физические характеристики местности, например геологические и гидрологические условия. Важен и внешний облик здания – это также физическая характеристика, но при этом обладающая и культурным значением. Является ли здание образчиком массовой застройки или последним в своем роде – разница существенная. А внешний облик – лишь одна из составляющих истории, которую можно поведать о старинном сооружении, чтобы внушить общественности чувство любви или неприязни.
Крайне важно и относительное местоположение объекта: близость к Кремлю и Красной площади гарантирует значимость постройки в глазах общественности. Помимо конкретного физического местоположения здание может присутствовать и в коллективном «пейзаже памяти» {memoryscape) [Yoneyama 1994; Phillips, Reyes 2011]. Люди привязываются к местам, где живут; история места – это и их история. Понимание того, чем является город или район и во что он не должен превращаться, возникает из образа(ов) города, который сложился у жителей. Специфическая привязанность к общему месту делает это место «силой», как утверждает Сэк. Такие образы можно использовать для мобилизации градозащитников на местном уровне и привлечения поддержки со стороны[9].
В случае двух последних типов локального противодействия застройке наиболее значимая комбинация «несоизмеримостей» – сочетание различных точек зрения на спорные места. Жители защищают свои дома и округу – места, где они проживают физически и к которым привязаны эмоционально. Город «видит как государство», то есть рассматривает здания и пространства как возможности для развития (и, возможно, личного обогащения), а не как жилые дома и их окружение. Однако свою роль играют также физические характеристики местности и относительное местоположение.
На редевелопмент заметно влияют колебания экономической активности. Городским строительством ведают фактический режим управления и формальная политическая структура, а они по ходу дела меняются. Помимо этого, большое влияние оказывают соответствующее законодательство и, что еще важнее в случае с Москвой, профессионализм и независимость судебной власти или их отсутствие. Население может сохранять приверженность старым социальным «траекториям», способам взаимодействия и достижения целей, но появляются и новые возможности, например Интернет. И вероятно, труднее всего оценить влияние на процесс переустройства территории личных качеств людей. Необходимо учитывать все вышеперечисленные несоизмеримые факторы, насколько позволяют имеющиеся данные.
Наиболее последовательный агент переустройства Москвы – городское правительство. При Лужкове редевелопмент осуществлялся торопливо и в массовых масштабах; он подпитывал городскую казну, а городские чиновники делали на нем состояния. Но даже в период более рационального и профессионального правления мэра Собянина городская власть не может избежать участия в обустройстве городской среды. В этой связи Каннаво основывает свое замечательное исследование «Работающий ландшафт» на предположении, что «вся деятельность по созданию и сохранению мест по сути является политической» [Cannavo 2007: 210]. Кроме того, усилия местных градозащитников могут иметь более широкие последствия. Когл утверждает, что «градозащитная политическая деятельность важна и сама по себе, и как потенциальное средство для развития чувства гражданской сознательности» [Kogi 2008: 123]. В контексте путинской России и в свете советского прошлого любая политическая деятельность приобретает повышенное значение.
В следующей главе рассматриваются «призрачный переходный период» и современная политическая обстановка в России с акцентом на местной градозащитной оппозиции. Туда же включен краткий «путевой дневник» с беглыми зарисовками посещенных мной мест, которые наложили неизгладимый отпечаток на мое понимание Москвы.
5
Если я правильно понимаю Лефевра, то «дом как жилище» иллюстрирует у него «пространство репрезентации», а «дом как товар» – «репрезентацию пространства» [Лефевр 2015: 54-59].
6
Блестящее объяснение того, как это произошло, см. в [Schivelbusch 1986: 33-44].
7
«Абсолютное местоположение» в этом смысле не имеет никакого отношения к концепции Лефевра об «абсолютном пространстве», «произведенном кровными, территориальными, языковыми сообществами» [Лефевр 2015:62].
8
Хроногеография («география времени»), основы которой были заложены Т. Хегерстрандом, представляет собой детально разработанный подход к пониманию «жизни как череды мест». В этом отношении сильное влияние на мое мышление оказала работа А. Преда [Pred 1981а; Pred 1981b; Pred 1984].
9
См., например, выдающееся исследование М. М. Закировой, посвященное роли привязанности к месту и устоявшимся образам города в борьбе с уплотнительной застройкой исторических кварталов Санкт-Петербурга [Закирова 2009].