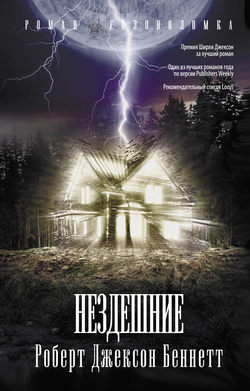Читать книгу Нездешние - Роберт Джексон Беннетт - Страница 4
Обратите внимание
Глава 2
ОглавлениеМоне Брайт доводилось бывать на затрапезных похоронах, но эти, признаться, брали первый приз. Побили даже похороны ее кентуккийской кузины, которой могилу копали вручную на крошечном церковном кладбище. Там, конечно, шло все по старинке, но хоть могильщики были из членов семьи и старались, чтобы церемония получилась достойной. А здесь, на жалком глухом кладбище для неопознанных бродяг, кроме нее только могильщик – местный подрядчик с маленьким экскаватором, остановивший дребезжащую колымагу прямо на краю открытой могилы. Даже мотор не выключил, бросил работать вхолостую. Он сидит на приступке кабины и, утирая пот, довольно свирепо поглядывает на Мону. Видно, как он складывает в столбик сумму, мечтая чудом сменять этот унылый денек на перепихон в ближайшем мотеле.
Мона интересуется, где ждет его следующая работа. Застигнутый врасплох, могильщик задумывается.
– Ну, в Бейтоне надо выровнять площадку под парковку.
«Господи, – думает она. – В два копает могилу, в три ровняет парковку. Нашел папаша местечко, где отдать концы».
– Вы еще кого-то ждете? – спрашивает могильщик.
– Сомневаюсь.
– Ну что ж. Тогда продолжаем представление.
– А священник будет или что-нибудь такое?
– Я думал, вы его пригласили.
– Значит, автоматически даже гражданской панихиды не полагается? – Мона угрюмо хмыкает. – Я думала, здесь Божья страна.
– Только не за бесплатно, – возражает могильщик.
Название места: город Монтана, Техас – звучит издевкой, в этом «городе» всего два светофора. Один не работает, но здесь ему этого в упрек не ставят. У Моны была возможность перевезти отца в Биг-Спринг, тот побольше, как комар больше блохи, но она не видела причин платить лишнюю монету, чтобы прикопать отца, Эрла Брайта Третьего, в эту забытую богом землю. Что ни говори, тот был жутким скрягой, и ей казалось правильным зарыть его так же сквалыжно и недоброжелательно, как он прожил жизнь.
Могильщик забирается в экскаватор.
– Хотите что-нибудь сказать?
Подумав, Мона качает головой:
– Все уже сказано.
Пожав плечами, он подает машину вперед. Мона из-за зеркальных очков бесстрастно смотрит, как комковатая глина обнимает гроб.
Пепел к пеплу, прах к праху та-там, та-там, та-там…
Эрл, конечно, не догадался оставить завещания, так что все его имущество уходит в сложный и таинственный мир судов о наследстве. Вернее, сложным он был бы в других местах, а здесь судья собрался на этой неделе поохотиться на оленей, так что время на рассмотрение соответственно урезали, поскольку все честно и кому какое дело.
В назначенный час Мона добросовестно является в суд – зал с низким потолком, провонявший пережаренным кофе. Похоже, по совместительству он служит для собраний ветеранов внешних войн. При виде Моны возникает короткое замешательство, поскольку Эрл был белее снега, а Мона вся в мать, совершенная мексиканка. Но Мона к этому готова – как иначе, в Техасе-то, – а подобающие документы и соответствующие имена в общем и целом развеивают все сомнения. Затем переходят к делу. Так сказать. Судья присутствует, но сидит ноги на стол, с головой уйдя в газету. Мона не против. Чем проще, тем лучше, ей ведь нужно вполне определенное сокровище, с которым Эрл нипочем бы не расстался даже на старости лет, – вишневый «Додж Чарджер» 1969 года, гордость и радость многих лет его жизни, к которой Мону никогда не допускали. Девчонкой она часто мечтала посидеть на кожаных креслах, почувствовать, как оживает от толчка педали мотор, как вибрация поршней отдается в мостовую и ей в руки. Раз, в шестнадцать лет, она жарким летним вечером попробовала увести машину. Успела выгнать из гаража, и тут он ее поймал. Шрам виден до сих пор.
Так что на ее лице расцветает очень горькая улыбка от сообщения серолицего чиновника, что, да, автомобиль до сих пор зарегистрирован на мистера Брайта и, поскольку покойный не указал, кому он должен отойти, она вправе на него претендовать, если пожелает.
– Господи, как я желаю, сэр! – отзывается Мона. – Чертовски желаю.
– Хорошо. – Он делает отметку в бумагах. – А остальное имущество?
Этого она не ожидала. Судя по тому, как он жил, отец едва наскребал на существование в этом крошечном городишке.
– А какое еще было имущество? – спрашивает она.
– О, кое-что было, – отвечает чиновник. Машина, например, сдана на хранение вместе с другими предметами, которые, если она пожелает, перейдут к ней. Мона пожимает плечами – почему бы и нет. Имеется небольшая сумма наличными – деньги она берет. И ему еще принадлежат несколько земельных участков, говорит чиновник. Землю Мона отвергает: она прекрасно понимает, что всю землю, которая чего-то стоила, отец давно продал и жил на проценты: что осталось, сбыть не удастся. Чиновник кивает и говорит, что тогда остается вопрос о доме.
– Нет, сэр, не нужен мне клоповник, в котором он жил, – отказывается Мона.
– Что ж, это к лучшему, поскольку этот дом ему не принадлежал, – отвечает чиновник. – Он был взят внаем. Речь идет о доме, оставшемся ему в… – он сверяется с бумагами, – в Нью-Мексико.
– Где-где? В Нью-Мексико? Впервые слышу, что у него там был дом.
Чиновник переворачивает бумагу, показывает ей.
– Видимо, прежде и не было, – объясняет он. – Дом оставили ему, но он не вступил во владение. В его случае имущество перешло от некой… Лауры Гутьеррес Альварес?
При этом имени Мона лишается дара речи. Секретарь еще бормочет что-то о законах штата Нью-Мексико и едином законе о наследстве, но Мона вряд ли слышит хоть слово.
«Мама? – думает она. – У мамы был дом? У мамы был дом в Нью-Мексико?»
Понемногу шок оборачивается яростью. Как мог старый мерзавец ей не сказать! Она годами одолевала его расспросами о матери, которой почти не помнила – только обрывки детских воспоминаний о худенькой, дрожащей женщине, вечно плакавшей и смотревшей в окно, но никогда не выходившей за дверь. Мона и не знала, что у матери прежде была жизнь за пределами их тесного дома в Западном Техасе; но вот вылинявший шрифт старинной пишущей машинки утверждает, что есть бумаги о распоряжении ее матери, в котором, в свою очередь, говорится об иной жизни, далеко отсюда, о жизни до Эрла, до рождения Моны, до тех горьких лет, что она провела рабыней отца, в другой стране.
– Что еще вы можете о нем сказать? – спрашивает она.
– Ну… немногое. В оригинале завещания ничего больше нет. Оно совсем простое. Полагаю, ваш отец так и не принял наследства.
– Вообще? Так и сидел на нем…
– Похоже на то. Срок действия завещания ограничен… – он заглядывает в документ, – тридцатью годами.
Это сообщение почему-то беспокоит Мону.
– Тридцатью после смерти Эрла?
– Гм, нет. – Чиновник снова заглядывает в бумаги. – Тридцатью от даты смерти вашей матери.
Мона закрывает глаза, бранится про себя.
– Что, – удивляется чиновник. – Что-то не так?
– Да, – говорит Мона. – Значит, оно истекает… – она подсчитывает в уме, – через одиннадцать суток.
– О! – Секретарь тихо присвистывает. – Ну что ж, полагаю… стоит поторопиться.
Мона посылает ему первоклассный взгляд: «Без глупостей!» и, прищурившись, читает адрес дома: «1929, Ларчмонт, Винк, NM 87207».
Мона хмурится.
«Винк, – думает она. – Что еще за Винк?»
Тот же вопрос вертится в голове, когда она едет в Биг-Спринг на склад, где хранятся вещи отца. Он даже вытесняет мысли о «Чарджере». Ей всегда казалось, что об отце и знать-то нечего – а что там было, кроме оскорбленного молчания, запаха кордита и бокала «Серебряной пули» в волосатом кулаке? – а теперь ей приходится призадуматься. Если все это правда, если мать действительно оставила ему дом в далеком городке, он должен был хоть что-то об этом знать, верно? Не бывает ведь, чтобы унаследовал дом, выбросил его из головы и забыл, правда?
Уже у склада ее осеняет: если кто так и мог, так именно ее папаша – вполне в его духе.
Управляющий складом смотрит на нее с подозрением. Не только потому, что она просит открыть чужую ячейку и в доказательство своих прав долго возится с документами и множеством ключей, но и потому, что именно эту ячейку не открывали больше двух лет. В конце концов он сдается – правда, Мона подозревает, что его упрямство вызвано скорее нежеланием отрываться от стула, чем профессиональной гордостью, – и ведет ее через лабиринт ящиков и металлических дверей к одному из самых больших помещений в дальнем конце.
– Он и впрямь помер? – спрашивает кладовщик.
– Помер и впрямь, – подтверждает Мона. – Я его видела.
– Если так, вы должны все вывезти в течение недели, просто чтоб вы знали, – сообщает он и, отперев, с лязгом открывает подъемную дверь.
У Моны округляются глаза. Секретарь суда сказал, что на складе хранится «часть» имущества, и, помнится, употребил выражение: «кое-что». А ей открывается внушительная груда барахла, и от одной мысли в ней копаться Мона чуть не падает в обморок. Тут за дюжину дней и на четверть не разберешь.
Кладовщик вручает ей тяжелый фонарь и тележку, чтобы все это вывозить. Хорошо, что у Моны здесь старый грузовичок, определенно пригодится. Впрочем, она очень скоро высматривает у стены что-то продолговатое, с закругленными изгибами, окутанное толстым брезентом. Под складкой просматривается шина, и сердце у нее так и подскакивает.
На разбор коробок уходит больше получаса, но вскоре из-под бежевого упаковочного картона проступают мощные очертания «Чарджера». Расчистив место, она срывает брезент, и облако пыли, взлетев, расползается по ячейке и проходам. Пыль такая густая, что залепляет стекла очков. Дождавшись, пока уляжется, Мона их снимает, открыв круги чистой кожи на запыленном лице.
Она моргает. «Чарджер» стоит перед ней. Она его не видела пятнадцать лет, а он словно ни на день не состарился. Будто только что вывалился из воспоминаний. Даже пыль не запятнала насыщенного красного цвета, наполнившего складское помещение веселым румянцем.
Мона тянется потрогать его, увериться, что это на самом деле, но запинается о картонную коробку, опрокидывает ее носком туфли и сама падает, не успев ни вскрикнуть, ни удержаться. Цементный пол взлетает навстречу и бьет ее в лоб.
Бьет крепко, на мгновение в глазах мелькает черное море с зелеными светящимися пузырями. Потом свет выравнивается, она слышит, как рядом катится по полу фонарик. Из темноты сгущаются формы, чистые серые грани, сложенные друг на друга, и на одной грани слово: ЛАУРА.
Мона соображает, что лежит на пыльном полу, щекой на цементе, а ногами на раздавленной коробке. Фонарик, застрявший в складках брезента, бросает луч на башню коробок. Но Мону интересует не освещенная им коробка, а та, что под ней, с выведенным маркером словом «Лаура». И еще, цела ли ее голова.
Сев, Мона ощупывает лоб. По нему стекает струйка крови, пальцы влажно блестят.
– Зараза, – бранится она и ищет, чем бы промокнуть. Не найдя ничего подходящего, отрывает уголок пыльной газеты и приклеивает ко лбу. Бумага прилипает.
Она совсем забыла про «Чарджер» у себя за спиной. Она снимает коробки, стоящие поверх «Лауры», и откидывает клапаны.
И снова моргает. В голове бьется пульс, все становится размытым. В темноте содержимого коробки не разглядеть. Мона подбирает фонарь и светит внутрь.
Там сплошные бумаги, как и во всей ячейке. Но таких бумаг она не ожидала найти у папочки. Слишком официальный у них вид, слишком… технический. У многих в угловых штампах инициалы КНЛО и какой-то логотип, и на многих графики, числа, уравнения.
Потом Мона замечает что-то у стенки коробки. Блестящий уголок фотографии наверняка. Вытащив, она рассматривает снимок.
На ней четыре женщины во дворике за домом сидят вокруг чугунного столика. Все нарядные, держат бокалы с коктейлем и смеются в камеру – судя по расплывчатым теням и мягким краскам, это старая модель «Поляроида». Фон у них за спинами впечатляет: совсем рядом высокие сосны, а за ними стена розоватых утесов с полосами тусклого багрянца.
Три женщины Моне незнакомы. Но четвертую она узнает, хотя в жизни не видела у нее такого счастливого лица. Для Моны это лицо всегда было испуганным и грустным, глаза вечно шарили по комнате, словно искали невидимого чужака. Но, несомненно, на фото ее мать, не на один десяток лет моложе той, какой знала ее Мона, может быть, не на одну жизнь моложе, еще не скованная годами болезни и безрадостного брака.
Мона переворачивает карточку. На обороте синими чернилами размашисто выведено: «РОЗОВЫЕ ГОРЫ – ПИТЬ ВСЕГДА МЫ СКОРЫ!»
Снова перевернув, Мона вглядывается в лица. Мысль, что ее дрожащая мать, больше жизни нуждавшаяся в темных пустых комнатах, могла весело выпивать с подружками, просто не укладывается в голове.
Мона зарывается в содержимое коробки. Там еще снимки, вероятно, с той же пленки, с тех же посиделок. Все сделаны у одного и того же дома, и Мона сперва думает, что дом сложен из камня или глины, а потом уж вспоминает, что там ведь строят из адобы[2], верно? Большей частью видны только углы и кусочки стен, но на фото, где ее мать, одетая в нарядное узкое платье, встречает подружку на переднем крыльце, Мона видит фасад.
Она подносит карточку ближе к глазам. На стене у передней двери номер дома. Мона щурится и даже в тусклом свете, на расплывчатом снимке, угадывает цифры 1929.
– Тысяча девятьсот двадцать девять, Ларчмонт, – бормочет Мона. Перебирает фото, впитывая в память людей, виды, но особенно мать и большой дом, хозяйкой которого та, как видно, была в прекрасной стране, в окружении счастливых подруг.
Теперь это дом Моны – если она вовремя успеет в Винк. До сих пор она того не сознавала, но, наткнувшись вместо невнятных старых документов на картинки, поняла, что это значит. Дом, которого она никогда не видела, о котором даже не подозревала, мог бы принадлежать ей. У Моны выдалась неудачная пара лет, так что довелось поскитаться и пожить в съемном жилье – раз в ночлежке Корпус-Кристи и даже в кузове своего фургончика – и мыться в туалетах заправочных станций, и мысль о своем доме представляется ей совершенно безумной.
В дверь стучат, показывается голова кладовщика.
– У вас все нормально? Мне послышался крик.
Мона поворачивается к нему, и он немного отступает под сверкающим взглядом невысокой темноволосой пропыленной женщины с обрывком газеты на лбу и засохшей под ним струйкой крови. Моне не видно, что на газетной бумаге яркий заголовок: «ВЛАСТИ В ШОКЕ».
– Все хорошо, – отзывается она севшим от пыли голосом. И кивает на «Чарджер»: – Где бы мне раздобыть для него бензин и механика?
На разборку остатков имущества Эрла уходит целый день. Многое Мона оставляет на складе – пусть вывозят на свалку. Большая часть бумаг относится к покупке земли – видимо, ее отец пытался пробиться в спекуляцию недвижимостью, но не преуспел. На удивление много призов за боулинг – но ни одного за первое место. И еще фотографии. На снимках преимущественно он и его семья. Эти Мона выбрасывает. Те, на которых он, Мона и ее мама, оставляет, по крайней мере на сегодня, и дает себе слово утром их тоже выбросить.
Старый грузовичок удается сбыть за 250 долларов, и, честно говоря, она считает, что покупатель переплатил, хотя ему и не скажет. «Чарджер» почти не потребовал забот механика – завелся как по волшебству. Черти бы взяли ее отца за множество разных дел, но с машиной он был молодец. Одна беда – шины; конечно, в мастерской Биг-Спринг на такие классические машины сервиса не нашлось, а рыскать по округе Мона не в настроении, так что, подвергнув механика безжалостному допросу, она покупает колеса, которые «послужат», пока она не найдет подходящих. Почти наверняка на это уйдут все доставшиеся по наследству наличные, но Мона не сомневается, что дело того стоит. Дождавшись, пока механик закончит работу, она загружает в машину свое скудное имущество и последним переносит главное: «Глок-19» в кобуре и коробку патронов.
К заходу солнца Мона богата, как много лет не бывала. Мало того что при ней больше тысячи долларов, так еще шикарная машина, коробка с бумагами и фотографиями матери и распроклятый дом в Нью-Мексико.
Она садится за руль и размышляет.
Осталось одиннадцать дней, если не меньше. Придется заняться этим всерьез.
Заночевав в мотеле, она заказывает барбекю навынос и ест, сидя на кровати и читая то, что осталось от матери. Многого – почти ничего – Мона не понимает. Выглядит как распечатка данных со старых компьютеров – из тех, у которых, в ее представлении, экраны черные с зелеными буквами. Числам нет конца, и среди них попадаются слова, тоже ни хрена не понятные: там и тут разбросаны «космические контузии», и еще что-то «афазное», и много невразумительных рассуждений про «бинарные состояния». Есть и другие бумаги, переписка между отделами той же лаборатории КНЛО – Кобурнской национальной лаборатории и обсерватории, к названию которой всегда прилагается эмблема-логотип, атомная модель какого-то элемента – Мона догадывается, что водорода, – заключенная то ли в каплю воды, то ли в луч света.
И оказывается, мать когда-то там работала, может быть, инженером. На нескольких записках стоит «Альварес» и даже «д-р Альварес». Мона весь день удивлялась, но это поражает ее больше всего – она представить не может, что у матери была докторская степень хоть в какой науке, а тем более в такой передовой.
Она просматривает несколько старых семейных фото из отцовских. Дольше всего задерживается над тем снимком, что был сделан перед их шлакоблочным домиком. Дом такой же маленький, белый и обшарпанный, как ей помнится, пропитан солнцем и пылью. Мона с Эрлом и матерью стоит у двери, слабо улыбается – снимали по дороге в церковь. Мона не представляет, кто бы мог фотографировать – неужели кто-то из соседей? – но даже на этом давнем отрезке семейной истории она угадывает хрупкость в глазах матери – готовность сломаться.
Мона помнит, когда в последний раз видела мать. В смысле живой. Как раз там, где сделан этот снимок. Ей запомнился жаркий рыжий день, когда мать решилась выйти на крыльцо – впервые за много месяцев – и подозвала игравшую во дворе Мону, которой еще семи не исполнилось. На матери был голубовато-зеленый банный халат, и волосы еще влажные, и Мона запомнила, как смутилась, когда ветер задрал матери полу халата и Мона увидела волосы у нее на лобке и поняла, что мать под халатом голая, совсем голая, как ночная бабочка. Мать подозвала ее к себе, а когда Мона подошла, встала на колени и зашептала ей на ухо, что любила ее, любила больше всего на свете, но остаться здесь не может и как ей жаль. Она не могла остаться, потому что она не отсюда, из других мест, и теперь должна вернуться. Перепуганная Мона спросила, где это, и если недалеко, можно ли ей будет приходить в гости, а мать шепнула, что нет, это очень-очень далеко, но просила не тревожиться, она когда-нибудь вернется за своей девочкой и все будет прекрасно. Потом мать велела остаться во дворе, просто ждать, пока приедет скорая и обо всем позаботится, и еще раз призналась в любви, поцеловала Мону и ушла внутрь.
Последнее, что запомнила Мона: мать уходит по длинному темному коридору, пошатываясь на худых бледных ногах и бессмысленно ощупывая уши. Потом, хотя Мона не видела (мать о ней позаботилась), Лаура Брайт обмотала голову двумя полотенцами, залезла в ванну, задернула занавеску, приставила к подбородку мужнин дробовик и раскрасила аквамариновый кафель душа сырой простой материей, составлявшей ее мозг и душу.
Судя по приготовлениям, мать явно собиралась проделать все чисто, но на цементной затирке осталось розовое пятно и не сходило, сколько бы отец ни отскребал. Мона после этого возненавидела дом и обрадовалась, когда отец перешел на другую работу. И по сей день Мона не забыла, как выглядела мать, извиняясь перед ней на крыльце: она много лет не казалась такой здоровой и разумной. Только потом, став копом, Мона узнала, как необычно для женщины самоубийство при помощи огнестрельного оружия, особенно такого разрушительного, как дробовик. Это ее по сей день беспокоит.
Она все время забывает, что через одиннадцать дней исполнится тридцать лет. Пусть с тех пор она прожила целую взрослую жизнь, все равно кажется, что это было вчера, что Мона все ждет на газоне перед крыльцом, когда же мать позовет ее в дом.
Кроме этого момента и коротких обрывков других, она почти не помнит мать. Но в комнате захудалого мотеля, слушая из-за стены программу «Рискуй!», Мона признается себе, что мать ее была не просто грустная женщина не в своем уме. Как ее занесло в Западный Техас и в жизнь Эрла Брайта, Мона не представляет.
Но она решает, что в этом нужно разобраться. Она поедет в городок в Нью-Мексико и узнает, чем занималась там мать, что превратило ее в памятный Моне слезливый человеческий обломок. А в Техасе Мону ничто не держит: после развода ее побросало, и хотя, когда она подавала в отставку, хьюстонская полиция дала понять, что ее возвращению будут рады, Мона больше не хотела быть копом. Она привыкла плыть по течению, сменять комнаты дешевых мотелей, дышать дизельным топливом и запахами дешевого пива. Один бог знает, сколько долговых расписок она заполняла, чтобы продержаться месяц или два. Объездила Техас и Луизиану, в припадке отчаяния заглянула и в Оклахому, измерила много миль, но так и не знает, нашла ли что-нибудь в пути. Уж точно ни дома, ни машины, ни призрака истории матери.
Отпихнув от себя бумаги, Мона принимается подстригать и подпиливать ногти на ногах (она всегда заботится о ногах) и смотрит, как меняют цвета просвеченные неоновой рекламой занавески.
Она думает, как доберется, думает, что за город такой – Винк и почему она ни разу о нем не слышала. И гадает, найдется ли там что-нибудь еще о незнакомке, которую она откопала в картонной коробке.
2
Испанское название саманного кирпича, изготовленного из глины с добавлением соломы или других волокнистых веществ и высушенного на солнце.