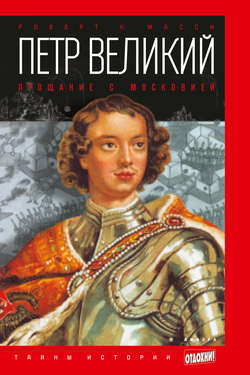Читать книгу Петр Великий. Прощание с Московией - Роберт Масси - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Старая Московия
Глава 6
Петровские потехи
ОглавлениеВ годы правления Софьи некоторые церемониальные обязанности по-прежнему могли выполнять только Петр и Иван: ставить подписи на важных государственных бумагах, присутствовать на торжественных пирах, церковных праздниках и официальных приемах иностранных послов. В 1683 году, когда Петру было одиннадцать лет, двое соправителей принимали послов Карла XI, короля Швеции. Секретарь посла, Энгельберт Кампфер, так описал этот прием: «В Приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах под иконами сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными каменьями. Старший брат, надвинув шапку на глаза, опустив глаза в землю, никого не видя, сидел почти неподвижно; младший смотрел на всех; лицо у него открытое, красивое; молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью. Удивительная красота его поражала всех предстоявших, а живость его приводила в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник подал верющую грамоту и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший, Петр, не дав времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, стремительно вскочил со своего места, сам приподнял царскую шапку и заговорил скороговоркой обычный привет: «Его королевское величество, брат наш Каролус Свейский по здорову ль?»[32]
А вот что писал в 1684 году, когда Петру было двенадцать лет, один немецкий врач: «Затем я поцеловал правую руку Петра, причем он, слегка улыбаясь, подарил мне дружелюбный, милостивый взгляд и немедленно протянул руку, в то время как Ивана необходимо было поддерживать под локти. Петр необыкновенно хорош собой; природа словно решила проявить в нем все свои возможности, и действительно, у него столько природных дарований, что наименьшее из его достоинств – то, что он царский сын. Он наделен красотой, пленяющей всех, кто его увидит, и умом, который, несмотря на его юность, не имеет себе равных».
Ван Келлер, голландский резидент, уже в 1685 году, тоже разливался соловьем: «Юному царю пошел тринадцатый год. Природные задатки благополучно и успешно развиваются во всем его существе; он высокого роста, наружность его изящна; он растет на глазах, и столь же быстро расцветают его ум и понятливость, принося ему любовь и привязанность окружающих. Он имеет такую сильную склонность к военному делу, что, когда он достигнет зрелости, мы можем с уверенностью ожидать от него смелых поступков и героических деяний».
Рядом с Петром Иван производил жалкое впечатление. В 1684 году, когда Петр болел оспой, австрийского посланника принимал один Иван, поддерживаемый под руки двумя дядьками и говоривший едва слышно. Во время аудиенции генерала Патрика Гордона, шотландского воина на русской службе, в присутствии Софьи и Василия Голицына, Иван выглядел совсем болезненным и слабым и всю беседу просидел, уставив глаза в пол. В течение всего Софьиного регентства Петр с Иваном оставались в прекрасных отношениях, хотя встречались только по формальным поводам. «Врожденные любовь и взаимопонимание двух государей стали еще сильнее, чем прежде», – писал ван Келлер в 1683 году. Конечно, Софья и Милославские тревожились за Ивана. На нем зижделась их власть, и от него зависело их будущее. Возможно, он проживет недолго, и если не оставит наследника, путь к престолу для них будет отрезан. Так что, несмотря на подслеповатость, косноязычие и слабоумие Ивана, Софья решила, что ему следует жениться и постараться стать отцом. Иван подчинился и взял в жены Прасковью Салтыкову, бойкую девушку из знатного рода. Дела у Ивана и Прасковьи сразу пошли на лад: у них родилась дочь, и можно было надеяться, что в следующий раз появится сын[33].
Нарышкиных, находивших мрачное удовлетворение в болезнях Ивана, эти события ввергли в уныние. Петр все еще был слишком молод, чтобы жениться и тягаться с Иваном по части продолжения рода. Все их упования возлагались на юность и здоровье Петра; в 1684 году, когда он болел оспой и лежал в жару, они были в отчаянии. Им оставалось лишь терпеть Софьино правление и ждать, пока высокий, ясноликий сын Натальи достигнет зрелости.
* * *
Политическая опала Нарышкиных обернулась личной удачей для Петра. Затеянный Софьей переворот и отстранение от власти нарышкинской партии освободили его от всех государственных забот, за исключением редких церемониальных обязанностей. Он получил свободу жить как хочется и расти на вольном деревенском воздухе. Некоторое время после стрелецкого бунта царица Наталья оставалась с сыном и дочерью в Кремле, в тех самых покоях, где они поселились после кончины Алексея. Но постепенно, с усилением Софьи, обстановка делалась для них все более тягостной и гнетущей. Наталья по-прежнему глубоко скорбела о гибели Матвеева и своего брата Ивана Нарышкина и опасалась, как бы Софья не нанесла нового удара по ней и по ее детям. Но опасность была не слишком велика; по большей части Софья вовсе не обращала внимания на свою мачеху. Наталье выделили небольшое содержание, которого вечно не хватало, так что униженная царица была принуждена обращаться за дополнительными суммами к патриарху или к другим представителям духовенства.
Чтобы поменьше бывать в Кремле, Наталья стала больше времени проводить в Преображенском, любимой даче и охотничьем дворце царя Алексея на берегу Яузы, милях в трех к северо-востоку от Москвы. При Алексее, любителе соколиной охоты, Преображенское составляло часть его огромного охотничьего хозяйства, и там сохранились тянувшиеся длинными рядами конюшни и сотни клеток для ловчих птиц и голубей – их добычи. Сам дом, ветхое деревянное строение с красными занавесками на окнах, был невелик, но зато стоял среди зеленых полей и рощиц. Взобравшись повыше, Петр мог подолгу смотреть на зеленые холмы, луга и поля, засеянные ячменем и овсом, на серебристую реку, вьющуюся среди березовых рощ, на разбросанные тут и там деревушки с белыми церквами, увенчанными синими или зелеными маковками.
Здесь, в лесах и полях Преображенского, на берегах Яузы, Петр мог, сбежав из классной комнаты, от души предаваться забавам. С самого раннего детства он больше всего любил играть в войну. При Федоре для Петра специально устроили в Кремле маленький плац, где он муштровал своих юных товарищей по играм. Здесь же, на просторах Преображенского, для этих увлекательных упражнений места было сколько угодно. Только, в отличие от большинства мальчишек, играющих в войну, Петр мог обратиться за необходимым снаряжением в государственный арсенал. Записные книги Оружейной палаты свидетельствуют, что обращения эти поступали частенько. В январе 1683 года он запросил обмундирование, знамена, две деревянные колесные пушки с окованными железом стволами на лошадиной тяге – и все это требовалось доставить немедленно. В свой одиннадцатый день рождения, в июне 1683 года, Петр сменил деревянные пушки на настоящие, из которых ему позволили салютовать под присмотром пушкарей. Он пришел в такой восторг, что почти ежедневно с тех пор гонцы мчались в Оружейный приказ за порохом. В мае 1685 года уже почти тринадцатилетний Петр затребовал шестнадцать пар пистолей, шестнадцать карабинов с сошниками в латунной оправе, а вскоре – еще и двадцать три кремневых ружья и шестнадцать пищалей.
К тому времени как Петру исполнилось четырнадцать и они с матерью окончательно поселились в Преображенском, его военные игры превратили эту летнюю дачу в настоящий взрослый военный лагерь. Первый маленький отряд «петровских солдат» составили товарищи его детских игр, определенные к нему на службу, когда он достиг пятилетнего возраста. Их отобрали из разных боярских семей, чтобы у царевича была своя свита – маленькие конюшие, спальники и стольники, но, по сути дела, все они давно стали просто друзьями. Еще он пополнял ряды своих солдат за счет огромного и теперь оказавшегося не у дел штата прислуги отца, царя Алексея, и брата Федора. Куча людей, особенно из числа сокольников Алексея, по-прежнему числилась на царской службе, хотя делать им было абсолютно нечего. Здоровье Федора охотиться не позволяло, Иван еще меньше годился для этой царской потехи, а Петр ее не любил. Тем не менее вся эта орава продолжала получать от государства жалованье, кормилась за счет казны, так что Петр решил привлечь кое-кого из них к своим потехам.
Ряды петровских солдат росли также благодаря тому, что молодые дворяне сами просились к нему на государеву службу – кто по собственному побуждению, кто по настоянию отцов, жаждавших снискать расположение молодого царя. Мальчиков из других сословий тоже принимали, и потому сыновья подьячих, конюхов и даже холопов оказались в одном строю с боярскими сынками. Кстати, среди юных добровольцев безвестного происхождения был один мальчик годом младше царя – Александр Меншиков. В конце концов на территории Преображенского собралось три сотни подростков и юношей. Они жили в казармах, постигали солдатскую науку, изъяснялись солдатским языком и получали солдатское жалованье. Петр относился к ним как к любимым соратникам, и впоследствии из этих-то молодых дворян и конюхов он создал свой славный Преображенский полк. Вплоть до падения российской монархии в 1917 году Преображенский оставался первым полком русской императорской гвардии. Его полковником всегда был сам царь, и больше всего преображенцы гордились тем, что их полк основал Петр Великий.
Вскоре все квартиры, имевшиеся в маленьком селе Преображенском, заполнились, а мальчишеская армия Петра продолжала разрастаться. В соседнем селе Семеновском построили новые казармы; впоследствии размещенная там рота превратилась в Семеновский полк – второй из полков российской императорской гвардии. Оба будущих полка насчитывали по триста солдат и включали в себя все роды войск – пехоту, кавалерию и артиллерию, – совершенно как в настоящей армии. Для них возвели казармы, полковые дворы, конюшни, на складах снаряжения регулярной конной артиллерии раздобыли конскую сбрую и зарядные ящики, из регулярных полков откомандировали пятерых флейтистов и десять барабанщиков – подавать сигналы и отбивать дробь на петровских потешных учениях. Придумали и сшили для солдат обмундирование по западному образцу: черные сапоги, черные треуголки, штаны и расклешенные, доходившие до колен камзолы с широкими обшлагами на рукавах; для Преображенской роты – темно-зеленые, бутылочного оттенка, для Семеновской – густо-синие. Был сформирован командный состав – штаб-офицеры, унтер-офицеры и сержанты, а также создана интендантская часть, служба управления и даже казначейство – туда были набраны те же юные солдаты. Потешные – так их стали называть, – как настоящие солдаты, подчинялись строгой воинской дисциплине и подвергались самой суровой муштре. Вокруг своих казарм они выставляли караулы и сменялись на часах. Постепенно набираясь опыта, они стали совершать долгие марши по окрестностям, вставали на ночь лагерем, рыли окопы и высылали дозоры.
Петр с восторгом погрузился в эти занятия, стремясь с полной отдачей участвовать в каждом деле. Вместо того чтобы сразу же возложить на себя чин полковника, он записался в Преображенский полк рядовым, барабанщиком, и уж тут мог всласть наиграться на своем любимом инструменте. Со временем он присвоил себе звание артиллериста, или бомбардира, чтобы палить из самого шумного и самого разрушительного орудия. Ни в казарме, ни в походе он не допускал, чтобы его выделяли среди других солдат. Он выполнял те же обязанности, что и они, так же стоял днем и ночью на часах, спал с ними в одной палатке и ел из одного котла. Если возводились земляные укрепления, Петр работал лопатой. Если полк выходил на парад, Петр шагал в строю, ничем, кроме роста, не выделяясь.
Проявившееся еще в отрочестве нежелание Петра занимать высшую должность в каком бы то ни было армейском или флотском подразделении осталось у него на всю жизнь. Впоследствии, отправляясь в поход со своей новой русской армией или уходя в плавание с новым флотом, он всегда выступал как младший командир. Он стремился к продвижению по службе – из барабанщиков в бомбардиры, из бомбардиров в сержанты и в конце концов в генералы, а на флоте в контр-, а затем и в вице-адмиралы, – но только если чувствовал, что его опыт, умение и заслуги достойны поощрения. Поначалу это объяснялось отчасти тем, что в мирное время на учениях барабанщикам и артиллеристам было куда веселее и удавалось производить гораздо больше шума, чем майорам и полковникам. Но кроме того, царь был искренне убежден, что должен пройти всю школу воинской службы снизу доверху. А уж если сам царь поступал таким образом, то кто бы осмелился претендовать на командную должность лишь на основании своего титула. Петр ввел этот порядок с самого начала – в первую очередь смотреть не на знатность, а на способности и мастерство, постепенно внушая российской знати, что каждое поколение обязано собственными заслугами добиваться чинов и почета.
Петр взрослел, и его игра в войну постепенно усложнялась. В 1685 году, чтобы поучиться строить, оборонять и штурмовать укрепления, юные солдаты почти год трудились над возведением маленькой земляной крепости на берегу Яузы в Преображенском. Как только она была готова, Петр обстрелял ее из мортир и пушек, чтобы проверить, можно ли ее разрушить. Крепость вновь отстроили, и со временем она разрослась в укрепленный городок, названный Прешпургом, где имелся гарнизон, городское управление, суд и даже потешный «король Прешпургский», которого изображал один из товарищей Петра и которому сам царь в шутку подчинялся.
Для столь серьезных военных игр Петру требовались советы профессионалов. Даже при самом горячем желании юнцам не под силу строить и бомбардировать крепости совершенно самостоятельно. Источником необходимых технических знаний стали офицеры-иностранцы из Немецкой слободы. Все чаще эти иностранцы, которых сначала приглашали в качестве временных инструкторов, получали постоянные офицерские должности в потешных полках. К началу девяностых годов XVII века, когда две роты превратились в Преображенский и Семеновский гвардейские полки, почти все полковники, майоры и капитаны были иностранцы, и лишь сержанты и рядовые – русские.
Некоторые полагают, что Петр, разворачивая эти потешные войска, имел замысел создать военную силу, которую в один прекрасный день мог бы использовать для ниспровержения Софьи. Вряд ли это так. Софья отлично знала, что происходит в Преображенском, и не была серьезно обеспокоена. Если бы она ожидала опасности с этой стороны, никто не выполнял бы заявок Петра на оружие из арсеналов Кремля. Но пока Софья могла рассчитывать на преданность двадцатитысячного стрелецкого войска, размещенного в Москве, шестьсот мальчишек Петра ничего не значили. Софья даже предоставляла Петру целые полки стрельцов для участия в потешных баталиях. Любопытно, что в 1687 году, как раз когда Петр готовился к крупномасштабным полевым учениям, Софьины войска выступали в первый поход против крымских татар. Стрельцам, солдатам и иностранным офицерам, прикомандированным к Петру, приказали вернуться в армию, так что потешные маневры пришлось отложить.
* * *
Все в эти годы привлекало любопытство Петра. Он просил то часы с боем, то статую Христа, калмыцкое седло, большой глобус или ученую обезьянку. Ему было интересно, как действуют всякие устройства, нравилось видеть и чувствовать инструменты в своих больших руках; он наблюдал, как мастеровые работают этими инструментами, а потом повторял их приемы и наслаждался, вгрызаясь в дерево, обтесывая камень, отливая металл. В двенадцать лет он обзавелся верстаком и научился владеть топором, долотом, молотком. Он сделался каменщиком, освоил тонкое искусство обращения с токарным станком и отлично точил по дереву, а потом и по слоновой кости. Он узнал, как набирают, печатают и переплетают книги, и полюбил звон кузнечных молотов, высекающих искры из раскаленного докрасна железа.
Одним из следствий этого вольного отрочества на просторах Преображенского оказалось то, что нормальному образованию Петра настал конец. Покинув Кремль, полный для него ненавистных воспоминаний, он оторвался от ученых наставников, воспитавших Федора и Софью, и от всех обычаев и правил царского обучения. Живой и любопытный, он убегал вон из дома, чтобы учиться практическим делам, а не отвлеченным предметам. Петр больше постигал в лугах, лесах на реке, чем в классной комнате, и больше привык к пищалям и пушкам, чем к перу и бумаге. Он много этим приобрел, но и потери были велики. Он почти не читал. Его почерк и грамотность остались на том ужасающем уровне, который простителен разве что в раннем детстве. Петр не учился никаким иностранным языкам, и лишь позже нахватался кое-каких обрывков голландского и немецкого в Немецкой слободе и в заграничных поездках. Ему было неведомо богословие, философия никогда не волновала и не развивала его ума. В десять лет Петра взяли из школы, и целых семь лет он пользовался неограниченней свободой. Конечно, как всякого своенравного и смышленого ребенка, его во все стороны влекло любопытство; поэтому он и без наставников многому научился. Но он был лишен постоянной, упорядоченной тренировки ума, упорного последовательного движения от простых дисциплин ко все более сложным, приближающим к освоению того искусства, которое древние греки почитали наивысшим, – искусства управлять людьми.
Образование Петра, направленное любопытством и прихотью, соединявшее полезные познания вперемежку с бесполезными, определило его интересы и устремления как личные, так и царские. Многие из свершений Петра, наверное, не осуществились бы, учись он в Кремле, а не в Преображенском, ведь традиционное систематическое обучение может не только развить способности, но и подавить их. Впоследствии Петр сам ощущал пробелы в своем образовании и горько сетовал на его недостаточную глубину и законченность.
Случай с астролябией отражает типичную для него манеру приобретать знания – всегда в порыве увлечения и по собственному выбору. В 1687 году, когда Петру было пятнадцать, князь Яков Долгорукий накануне своего отъезда во Францию с дипломатической миссией упомянул при царе о том, что когда-то у него был иноземный инструмент, «которым можно было измерять расстояние и площадь, не сходя с места». К несчастью, инструмент украли, но Петр попросил князя купить ему такой же в Париже. По возвращении Долгорукого в Москву в 1688 году Петр первым делом спросил, привез ли тот, что он просил. Принесли коробку, извлекли из нее сверток, развернули; там оказалась астролябия, изящно выполненная из дерева и металла, но никто из присутствующих не знал, как ею пользоваться. Начались поиски знающего человека, которые быстро привели в Немецкую слободу. Им оказался седой голландский инженер по имени Франц Тиммерман. Взяв прибор в руки, он мигом вычислил расстояние до ближайшего дома. Послали слугу измерить расстояние шагами, и тот доложил цифру, близкую к названной Тиммерманом. Петру загорелось, чтобы его тоже научили. Тиммерман согласился, но предупредил, что сначала ученику придется одолеть арифметику и геометрию. Когда-то Петр изучал основы арифметики, но позабыл за ненадобностью, и даже не помнил вычитания и деления. Теперь же, подхлестываемый желанием освоить астролябию, он погрузился в изучение множества предметов: и арифметики, и геометрии, а заодно и баллистики. И чем дальше двигался он вперед, тем больше тропинок открывалось перед ним. Он опять заинтересовался географией и принялся разглядывать на большом глобусе, принадлежавшем его отцу, очертания России, Европы и Нового Света.
Тиммерман как наставник годился лишь на время: он двадцать лет провел в России и отстал от последних европейских технических новшеств. Но для Петра он стал и советником, и другом, и царь буквально не отпускал от себя пыхающего трубкой голландца. Тиммерман немало повидал, мог объяснить устройство разных механизмов, мог ответить хотя бы на часть вопросов, непрестанно возникавших у этого высокого, бесконечно любознательного юноши. Вместе они бродили по окрестностям Москвы, заходили в поместья и монастыри, забредали в деревушки. Одна из таких прогулок в июне 1688 года ознаменовалась прославленным эпизодом, имевшим необыкновенно важные последствия и для Петра, и для России. Они с Тиммерманом бродили по царскому имению неподалеку от села Измайлово. Среди строений позади главной усадьбы был амбар, набитый, как объяснили Петру, всяким старьем и запертый уже много лет. Охваченный любопытством, Петр велел отпереть дверь и, невзирая на запах плесени, принялся изучать содержимое амбара. В сумраке его внимание сразу привлекло что-то большое. Это оказался старый, трухлявый бот, лежавший вверх дном в углу. Размерами он был примерно со спасательную шлюпку на современном океанском лайнере – двадцать футов в длину и шесть в ширину.
Петр, конечно, и раньше видел корабли и лодки. Ему известны были громоздкие, с небольшой осадкой суда, на которых русские перевозили товары по своим широким рекам; он видал также лодки поменьше, на которых катались для развлечения в Преображенском. Но все это были чисто речные суда, плоскодонные, наподобие барж, и с квадратной кормой; ходили они на веслах, либо их тянули на канатах бредущие вдоль берега люди или животные, либо их просто несло течением. Сейчас перед ним была совсем другая лодка. Ее глубокий, округлый корпус, тяжелый киль и острый нос явно предназначались не для рек.
– Что это за судно? – спросил Петр у Тиммермана.
– Это английский бот, – отвечал голландец.
– А где его употребляют? Чем он лучше наших судов? – осведомился Петр.
– Если на него поставить новую мачту и паруса, он сможет ходить не только по ветру, но и против ветра, – сказал Тиммерман.
– Против ветра? – Петр был поражен. – Разве так бывает?[34]
Он хотел сразу же опробовать бот, но Тиммерман поглядел на гнилые доски и настоял на основательной починке – а тем временем изготовят мачту и паруса, Петр его непрестанно торопил, поэтому Тиммерман нашел еще одного почтенного голландца, Карстена Бранта, приехавшего в Россию в 1660 году, чтобы строить корабль на Каспийском море по заказу царя Алексея. Брант, который раньше был плотником в Немецкой слободе, явился в Измайлово и взялся за работу. Он заменил негодные доски, законопатил и просмолил днище, поставил мачту, оснастил судно такелажем и парусами. Бот на катках доставили на берег Яузы и спустили на воду. На глазах у Петра Брант поплыл по реке, меняя галсы и используя бриз так, чтобы идти не только против ветра, но и вверх по течению медленной реки. Вне себя от восторга, Петр кричал, чтобы Брант вернулся к берегу и взял его на борт. Он вспрыгнул на палубу, ухватился за румпель и под руководством Брандта стал лавировать против ветра, «что мне паче удивительно и зело любо стало», писал царь годы спустя в предисловии к Морскому уставу[35].
С тех пор Петр каждый день отправлялся в плавание. Он научился ходить под парусами, но Яуза была очень узка, а ветер нередко слишком слаб, чтобы маневрировать. К тому же ботик без конца садился на мель. Самым близким крупным водоемом, девяти милях в поперечнике, было Плещеево озеро близ Переславля, в восьмидесяти пяти милях к северо-востоку от Москвы. Но хотя Петру позволялось, как беззаботному юнцу, резвиться в полях, он все же был царем и не мог без серьезной причины удаляться от столицы на такое расстояние. Впрочем, причину он быстро нашел. В июне в Троице-Сергиевой лавре отмечают церковный праздник, и Петр отпросился у матери поехать туда и участвовать в церемониях. Наталья позволила. Едва закончилась служба, Петр, недосягаемый для чьих-либо запретов, поскакал напрямик через леса на северо-запад, к Переславлю. Как было условлено заранее, его сопровождали Тиммерман и Брант.
Стоя на берегу озера, Петр вглядывался вдаль, а летнее солнце припекало спину и сверкало на воде.
Противоположный берег был едва различим. Да, тут можно идти под парусом целый час, даже два, не меняя галс. Петру хотелось бы поплыть немедленно, но лодки не было, и вряд ли удалось бы перетащить английский бот из Измайлова в такую даль. Он повернулся к Бранту и спросил, возможно ли здесь, на берегах озера, построить новые суда.
– Да, мы можем здесь строить корабли, – ответил старый плотник, оглядывая пустынные берега и густой лес, – но нам многое понадобится.
– Это не важно, – возбужденно проговорил Петр, – у нас будет все, что нужно.
Петр был настроен сам участвовать в постройке кораблей на Плещеевом озере. Это значило, что нужно не просто еще раз, не спросясь, наведаться на озеро, но получить разрешение надолго здесь поселиться. Он вернулся в Москву и принялся осаждать мать. Наталья сопротивлялась и требовала, чтобы он пробыл в Москве хотя бы до Петрова дня, когда праздновались его именины. Петр остался, но на следующий же день после праздника он с Брантом и еще одним старым голландским корабельным мастером по имени Корт поспешил на Плещеево озеро. Они выбрали место для своей верфи на восточном берегу, поблизости от дороги из Москвы в Ярославль, и начали рубить избы и причал для будущих кораблей. Валили, сушили и тесали лес. От зари до темна Петр наравне с другими работниками изо всех сил пилил и стучал молотком под руководством голландцев, и скоро были заложены пять судов – два маленьких фрегата и три яхты с закругленным носом и кормой на голландский манер. В сентябре начали расти остовы кораблей, но ни одного не успели закончить прежде, чем Петру пришлось возвращаться на зиму в Москву. Он уезжал неохотно и просил голландских корабельщиков остаться и приложить все старания, чтобы к весне корабли были готовы.
* * *
Случайно найденный старый бот и первые плавания под парусами по Яузе породили у Петра две страсти, во многом определившие его характер и всю его жизнь: одержимость морем и стремление учиться у Запада. Как только он стал царем на деле, а не по названию, он устремился к морю, сначала на юг, к Черному, потом на северо-запад, к Балтийскому. Понукаемая этим удивительным морским мечтателем, огромная сухопутная страна, спотыкаясь, побрела к океанам. Это было непривычно и в то же время неизбежно. Ни одна великая держава не может существовать и процветать без выхода к морю. Но удивительно то, что идея вывести страну к морю выросла из романтических мечтаний подростка.
Пока Петр плавал по Яузе с верным Брантом у руля, увлечение водной стихией соединялось и переплеталось в нем с восхищением Западом. Он сознавал, что стоит на иностранном судне и что учит его иностранный наставник. Голландцы, которые починили бот и теперь показывали, как им управлять, представляли передовую, по сравнению с Московией, техническую культуру. Голландия располагала сотнями кораблей и тысячами моряков, и для Петра Тиммерман и Брант воплощали Голландию. Они были его героями. Он стремился держаться поближе к обоим старикам, чтобы учиться у них. В те годы они и были для него Западом. Ему же предстояло стать олицетворением России.
* * *
К концу 1688 года Петру исполнилось шестнадцать с половиной, и он был уже не мальчик. Сидел ли он на троне в парчовом одеянии или в пропотевшем зеленом камзоле рыл окопы, тянул канаты, забивал гвозди, перебрасываясь с плотниками и солдатами крепким словцом, – это был взрослый мужчина. Во времена, когда человеческая жизнь была коротка и поколения стремительно сменяли друг друга, мужчины нередко становились отцами в шестнадцать с половиной лет. Это в особенности относится к принцам крови, чьей первейшей обязанностью было обеспечить престолонаследие. Что требовалось от Петра, понятно: пора жениться и произвести на свет сына. Его мать остро чувствовала это, и даже Софья не возражала. Тут уже не до соперничества Нарышкиных и Милославских – речь шла о наследнике престола из рода Романовых. Царевна не могла вступить в брак, а у царя Ивана рождались одни дочери.
Были у Натальи и более личные причины. Ее тревожил растущий интерес сына к иноземцам; это увлечение не шло ни в какое сравнение с хорошо знакомой ей умеренно прозападной атмосферой дома Матвеева или с обстановкой при дворе Алексея в последние годы его правления. Ведь Петр абсолютно все свое время проводил с этими голландцами, и они обращались с ним как с подмастерьем, а не как с государем. Они приохотили его к винопитию, курению и к иностранным девицам, которые вели себя далеко не так, как взращенные взаперти дочери русской знати. Кроме того, Наталью всерьез заботила безопасность Петра. Эта его пальба из пушек и плаванье на лодках могли плохо кончиться. Он подолгу отсутствовал, ускользая из-под ее надзора, водился с неподходящими людьми, рисковал жизнью. Нет, ему пора жениться! Пригожая русская девушка, простая, скромная и любящая, отвлечет его, внесет в его жизнь новые интересы – не все же ему бегать по полям да бултыхаться в реках и озерах, пора остепениться! Хорошая жена сделает из Петра мужчину, и если повезет – этот мужчина скоро станет отцом.
Петр принял материнскую волю без сопротивления – не потому, что вдруг сделался покорным сыном, а потому, что все это его мало интересовало. Он не возражал против традиционного съезда претенденток в Кремле; не возражал, чтобы мать их рассортировала и выбрала самую подходящую. Когда это было сделано, он взглянул на избранницу, не выразил недовольства и тем утвердил выбор матери. Так, без малейших усилий, Петр приобрел жену, а Россия – новую царицу.
Ее звали Евдокия Лопухина, и было ей двадцать лет – на три года больше, чем Петру[36]. Говорили, что она хороша собой, хотя портретов Евдокии в этом возрасте не сохранилось. Застенчивая, ко всем почтительная – тем-то она и понравилась будущей свекрови. И роду она была хорошего, происходила из почтенного, весьма приверженного старине московского семейства, ведшего родословную с XV столетия и успевшего породниться с Голицыными, Куракиными и Ромодановскими. Евдокия воспитывалась в строгом православии, была почти необразованна, от всего иностранного ее бросало в дрожь; она искренне верила, что угодить мужу очень просто, – достаточно стать его главной рабой. Румяная, полная надежд и беспомощная, стояла она рядом со своим высоким юным женихом, когда их венчали 27 января 1689 года.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
32
Петр был так высок, крепок и энергичен, что показался шведам шестнадцатилетним, хотя ему было всего одиннадцать.
33
«Дела пошли на лад» не сразу, как думает автор, а лишь пять лет спустя после свадьбы – первая дочь Мария родилась 24 марта 1689 г. Современники были склонны считать, что «дела наладил» стольник Юшков, пользовавшийся впоследствии особым вниманием царицы Прасковьи, родившей еще четырех дочерей, среди которых была и императрица Анна Ивановна. – Примеч. ред.
34
В основе этого диалога лежит рассказ Петра из Предисловия к Морскому уставу. – Примеч. ред.
35
Неизвестно, откуда в действительности взялся знаменитый бот, который Петр окрестил «дедушкой русского флота». Петр считал, что бот английский; по одной легенде, его прислала в подарок Ивану Грозному королева Елизавета I. Другие полагают, что его построили в России при царе Алексее голландские плотники. Важно одно – это было небольшое парусное судно западного образца.
Помня, какую роль этот ботик сыграл в его жизни, Петр непременно хотел сохранить его. В 1701 г. его забрали в Кремль и хранили в здании возле колокольни Ивана Великого. В 1722 г., когда завершилась наконец долгая война со Швецией, Петр приказал перевезти ботик из Москвы в Санкт-Петербург. Часть пути предстояло тащить полуторатонное судно волоком по бревенчатому настилу, и поэтому петровские распоряжения проникнуты особой заботой: нужно было доставить бот в Шлиссельбург, по дороге не сломать его и для этого двигаться только днем, особенно «быть осторожны на плохой дороге». 30 мая 1723 г., в пятьдесят первый день рождения Петра, прославленный бот вышел по Неве в Финский залив, где был встречен своими «внуками», боевыми кораблями российского Балтийского флота. В августе того же года бот поместили в специально выстроенный для него домик в Петропавловской крепости, где он оставался больше двух столетий. Ныне петровский ботик является самым знаменитым экспонатом Военно-морского музея в бывшем здании Биржи на стрелке Васильевского острова в Петербурге.
36
Если точно, Евдокия была старше Петра на два года – она родилась 30 июня 1670 г., а он 30 мая 1672 г. – Примеч. ред.