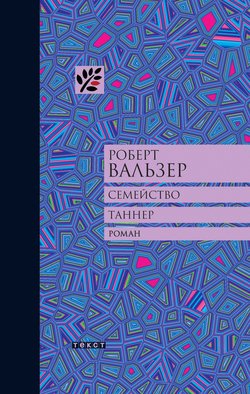Читать книгу Семейство Таннер - Роберт Вальзер - Страница 4
Глава третья
ОглавлениеСледующим утром художник вынул из папки свои пейзажи, сначала достал всю осень, затем зиму, и все настроения природы ожили вновь.
– Это лишь малая часть того, что я видел. Глаз у художника быстрый, рука же медлительная, нерасторопная. Сколько всего мне еще надо создать! Зачастую мне кажется, я сойду с ума.
Все трое – Клара, Симон и художник – стояли вокруг картин. Говорили немного, причем только восторженными возгласами. Как вдруг Симон метнулся к своей шляпе, лежавшей на полу, яростно нахлобучил ее на голову и с криком «Я опоздал!» бросился вон из комнаты.
– Вы опоздали на целый час! Для молодого человека это совершенно недопустимо! – сказали ему в банке.
– Но раз уж так получилось? – ершисто возразил провинившийся.
– Как, вы еще и прекословите? Ну что ж! Дело ваше!
О поведении Симона доложили директору. Тот решил уволить молодого человека, призвал его к себе и сообщил об этом тихим, прямо-таки добродушным голосом.
– А я даже рад, что все кончилось, – сказал Симон. – Возможно, кто-то считает, что тем самым нанесет мне удар, сломит мой дух, уничтожит меня и все такое прочее? Напротив, он меня возвышает, льстит мне, вновь, по прошествии очень долгого времени, окрыляет надеждой. Я не создан быть пишущей и счетной машиной. Я охотно пишу, охотно считаю, с окружающими веду себя благоприлично, охотно выказываю прилежание и с готовностью подчиняюсь, коль скоро это не ранит мне сердце. При необходимости я бы сумел подчиниться и определенным законам, но здесь я с некоторых пор такой необходимости более не усматриваю. Когда нынче утром опоздал, я лишь рассердился и был раздосадован, но вовсе не испытывал честной, совестливой тревоги, не упрекал себя, ну, разве только попенял, что так и остался трусливым глупцом, который, едва пробьет восемь, вскакивает и идет, как часы, которые заводят и которые идут, коли заведены. Спасибо, что вам достало энергии уволить меня, и сделайте милость, думайте обо мне как вам угодно. Вы конечно же человек, достойный уважения, заслуженный, солидный, но, видите ли, я тоже хочу быть таким, потому-то хорошо, что вы отсылаете меня прочь, потому-то мое сегодняшнее, как принято говорить, недопустимое поведение вышло мне на пользу. В ваших конторах, которые так расхваливают, в которых каждый мечтает получить место, никакого развития молодому человеку ожидать не приходится. Конечно, здесь я имею преимущество, связанное с выплатой твердого ежемесячного жалованья, но мне наплевать. Ведь я при этом гибну, глупею, становлюсь трусом, коснею. Вас, верно, удивляет, что я прибегаю к подобным выражениям, но вы согласитесь, что я говорю чистую правду. Здесь человеком можете быть только вы один!.. Вам никогда не приходит в голову, что среди ваших бедных подчиненных есть люди, которые тоже жаждут стать людьми, деятельными, творческими, внушающими уважение? И мне отнюдь не по душе стоять в мире на обочине, лишь бы не снискать славу малопригодного брюзги. Как велико искушение перепугаться и как ничтожен соблазн вырваться из этого жалкого страха. Нынче я совершил почти невозможное и уважаю себя за это, кто бы и что бы ни говорил. Вы, господин директор, окопались здесь, вы незримы, никто не знает, чьим приказам подчиняется, да в общем и не подчиняется, а тупо следует собственным убогим привычкам, которые как раз попадают в точку. Какая ловушка для молодых людей, склонных к удобству и инертности. Здесь совершенно не востребованы все те силы, которые, возможно, окрыляют дух молодого человека, совершенно не востребовано все то, чем может отличиться мужчина. Ни ум и мужество, ни верность и прилежание, ни жажда творчества и желание приложить усилия не помогут здесь продвинуться вперед; более того, выказывать силу и энергичность даже предосудительно. Разумеется, в такой неповоротливой, инертной, сухой, жалкой рабочей системе иначе и быть не может. Прощайте, сударь, я ухожу, чтобы выздороветь за работой, пусть даже мне придется копать землю или таскать на спине мешки с углем. Я люблю всякую работу, но только не такую, которая не задействует полностью все силы.
– Собственно, вы не заслужили, но, может быть, выдать вам свидетельство?
– Свидетельство? Нет, не стоит. Ежели я не заслужил иного свидетельства, кроме скверного, то не стоит. Отныне я сам буду выдавать себе свидетельства. Если кто спросит аттестаты, стану теперь ссылаться лишь на самого себя, на людей разумных и трезвых это произведет наилучшее впечатление. Я рад уйти от вас без свидетельства, ибо ваше напоминало бы мне лишь о собственной моей трусости и страхе, о состоянии вялости и бессилия, о бесполезно прожитых днях, о вечерах, полных яростных попыток освободиться и прекрасной, но бесцельной тоски. Спасибо за намерение уволить меня по-доброму, оно показывает, что я имел встречу с человеком, который, пожалуй, уразумел кое-что из того, что я говорил.
– Молодой человек, вы слишком напористы, – сказал директор. – Вы погубите свое будущее!
– Мне нужно не будущее, а настоящее. Оно, по-моему, ценнее. У человека есть будущее, только если нет настоящего, а если есть настоящее, о будущем даже и думать забываешь.
– Прощайте. Боюсь, вас ждут испытания. Вы заинтересовали меня, поэтому я вас выслушал. Иначе не стал бы терять с вами так много времени. Возможно, вы избрали не ту профессию, возможно, из вас все-таки что-нибудь выйдет. Во всяком случае, желаю вам удачи.
Наклоном головы он отпустил Симона, и вскоре тот уже стоял на улице. Возле кондитерской расхаживал взад-вперед какой-то мужчина, по всей вероятности, поджидал кого-то, может быть женщину, кто его знает. Однако он вызвал у Симона интерес. На первый взгляд сущий урод, с необычайно большой шишковатой головой, окладистой бородой и слегка усталыми, какими-то собачьими глазами. Походка манерная, но благородная, одет изящно и со вкусом. В руке желтая трость. Судя по виду, вроде бы ученый, притом еще молодой. Во всем его облике и движениях сквозила трогательная мягкость. Казалось, вполне допустимо заговорить с этим человеком без всяких церемоний; Симон так и сделал:
– Простите, сударь, что я этак свободно к вам обращаюсь. Просто я с первого же взгляда проникся к вам симпатией. И хочу с вами познакомиться. А разве живое желание познакомиться недостаточный повод заговорить с человеком прямо на улице? Ведь, по всей видимости, вы кого-то ищете, полагая, что кто-то ждет вас здесь. Но в здешней толчее вам одному будет трудно найти нужную персону. Я охотно вам помогу, коли вы доверитесь мне и сообщите несколько примет искомого человека. Это дама?
– Дама, что правда, то правда, – с улыбкой отвечал незнакомец.
– Как она выглядит?
– Она в черном, с ног до головы. Высокая, стройная. Большие глаза, увидев вас, смотрят на вас, кажется, долго-долго, хотя на самом деле это не так. На шее у нее нитка крупных белых жемчужин, в ушах – длинные серьги. На запястьях простые золотые браслеты. Лицо чуточку полноватое, овальное, горделивое. Да вы сами увидите. В рисунке рта, хоть это и заблуждение, словно бы сквозит что-то скрытное, лукавое, губы-то слегка поджаты. Кстати, она любит ходить в широкополой шляпе с висячими перьями. Шляпа вроде как сама собой прилетела и легла ей на волосы. Коли этого описания недостаточно, то заметьте: она ведет с собой левретку на тонком черном поводке. Никогда не выходит из дома без собаки. Я останусь здесь, буду ждать вашего возвращения. Я благодарен вам за ваше предложение, вдобавок вы живо заинтересовали меня уже тем, что заговорили со мною. А народу впрямь все больше и больше. Вероятно, здесь какой-то праздник.
– Да, похоже на то. Я-то сам обычно не обращаю внимания на праздники.
– Отчего же?
– Предпочитаю идти своим путем! До встречи!
И Симон торопливо устремился сквозь густую людскую толпу. Со всех сторон его толкали и пихали, едва не отрывая от земли. Но и он тоже толкался, находя весьма забавным таким манером исподволь пробиваться в толчее тел и лиц. Наконец он выбрался на подобие островка, то бишь на маленькую пустую площадку и, оглядевшись, вдруг увидел госпожу Клару. При ней в самом деле была собака. С тех пор как поселился в ее доме, он никогда не обращал на нее пристального внимания, оттого и не знал, что у нее была привычка гулять с собакой.
– Вас разыскивает некий господин, – сказал он, когда она заметила его.
– Вероятно, мой муж, – отвечала она, – пойдемте вместе. Он неожиданно воротился из путешествия, не написав мне ни слова. Впрочем, он всегда так поступает. Как вы с ним познакомились? И с какой стати по его поручению разыскиваете дам? Все-таки вы странный человек, Симон. Что? Вы ушли со своей должности? И что же вы намерены теперь делать? Идемте! Сюда! Здесь легче пройти. Я представлю вас мужу.
Этот вечер решили провести в театре. Каспара тоже уведомили, и в назначенный час он был возле театра – красивого белого здания на берегу озера. Когда поднялся занавес, за ним открылось лишь серое, пустое пространство. Однако вскоре пространство ожило – появилась балерина с голыми ногами и руками, танцующая под тихую музыку. Фигуру ее окутывало прозрачное, развевающееся, текучее одеяние, которое, казалось, само по себе повторяло в трепетном воздухе рисунок танца. Все чувствовали совершенную невинность и грацию этого танца, и никому бы в голову не пришло выискивать в наготе девушки что-либо нецеломудренное и намеренно-нечистое. Временами ее танец превращался в простую ходьбу, но и она оставалась танцем, а временами танцовщица словно устремлялась ввысь на собственных своих волнах. К примеру, поднимая ногу и выгибая красивую стопу, она двигалась в настолько новой, непринужденной манере, что всяк думал: где я это видел, где? Или мне это лишь некогда пригрезилось? В танце девушки сквозила какая-то природная сила. Конечно, ее искусство, если судить его по строгим балетным правилам, было не слишком велико, пожалуй, ее умения далеко отставали от умений и мастерства других балерин. Но она владела искусством восхищать одной лишь своей застенчивой девической грацией. Вниз она слетала, производя впечатление сладостной тяжести, а взлетая ввысь, пьянила всех неистовостью и невинностью этого движения. Ее самое будоражило собственное движение, даже беглое, мимолетное, и волнение ее откликалось на звуки музыки все новыми порывами. Руки походили на двух красивых, порхающих белых голубок. Танцуя, девушка улыбалась, наверно, была счастлива. Ее безыскусность ощущалась как высочайшее искусство. Она летела из такта в такт большими мягкими прыжками, как гонимый олень. Не танец, а игра волн, что бьются о низкий берег и рассыпаются брызгами, она то скользила, будто широкая, напоенная солнцем, могучая волна, волна посреди озера, то становилась журчанием песчинок и камешков, все время разная, все время одухотворенная. Ощущения всех зрителей танцевали заодно, с упоением и болью. У некоторых танец выжимал из глаз слезы, чистые слезы общего восторга, общего танца. Но вот девушка закончила танец, и до чего же приятно было наблюдать, как почтенные пожилые женщины восторженно вскочили и принялись махать девушке платочками и бросать цветы в глубину сцены. «Будь нам сестрою», – казалось, говорили все улыбки. «Какая радость назвать тебя, коли ты захочешь, моей дочерью», – казалось, ликующе просили дамы. Сотни зрителей видели малышку на пустынной сцене и забыли о границе, вообще обо всех преградах. Множество рук взметнулись в воздух, словно желая приласкать; машущие ладони трепетали. На сцену выкрикивали слова, рожденные самой радостью. Даже холодные золоченые фигуры, украшавшие интерьер, словно бы стремились ожить и наконец-то увенчать чью-то голову лаврами, которые держали в руках. Таким красивым Симон никогда еще театр не видел. Клара была в восторге, да и кто в этот вечер мог бы не прийти в восторг. Только господин Агаппея остался молчалив, не говорил ни слова.
– Хочу написать такую овацию, – сказал Каспар, – наверно, получится превосходная картина.
– Но задача трудная, – заметил Симон. – Как написать этот аромат и радостный блеск, это сияние восторга, холодное и теплое, определенное и размытое, краски и формы в этом аромате, золото и тяжелый багрец, тонущий в разноцветье красок, и сцену, маленькое средоточие, и маленькую, прелестную девушку на ней, платья дам, лица мужчин, ложи и все прочее, правда, Каспар, это очень трудно.
– Если вспомнишь сейчас о тихих и спокойных ландшафтах, – сказала Клара, – то они, леса, и холмы, и просторные луга, там, за городом, а ты сидишь здесь, в блещущем театре. Как странно. Хотя, быть может, все вообще природа. Не только великое и спокойное за пределами города, но и подвижное и малое, создаваемое людьми. Театр – тоже природа. Все, что мы строим по зову природы, может быть лишь природой, ну как бы одним из ее проявлений. Сколь бы утонченной ни становилась культура, она остается природой, ведь ее мало-помалу выдумали в ходе времен, выдумали существа, которые всегда будут любить природу. Когда вы, Каспар, пишете картину, она становится природой, ведь вы пишете своими чувствами и пальцами, а ими вас наделила природа. Нет, мы правильно делаем, что любим ее, всегда помним о ней, если можно так выразиться, молимся на нее, ведь где-то людям надо молиться, иначе они становятся дурными. А любовь к тому, что нам ближе всего, – штука полезная, все энергичнее подгоняющая вперед наши столетия, заставляющая нас в раздумье кружиться вместе с Землею, позволяющая быстрее и безмятежнее ощущать жизнь, и мы должны ловить это преимущество, тысячи раз, в тысячи мгновений… Ах, если б я знала!
Говоря это, она пришла в огромное возбуждение.
– Я сказала хоть что-нибудь разумное? – спросила она у Каспара.
Каспар не ответил. Они давно уже покинули театр и направлялись домой. Симон с господином Агаппеей шли чуть впереди.
– Расскажите мне что-нибудь, – попросила Клара своего спутника.
– Есть у меня коллега, по имени Эрвин, – начал Каспар, шагая рядом, – большим талантом он похвастаться не может или, пожалуй, обладал им когда-то давно, в ранней юности. Однако, хотя живопись не сулит ему ни малейшего успеха, он по-прежнему чертовски влюблен в свое искусство. Все свои картины он называет плохими, и они действительно таковы, но он годами над ними работает. Снова и снова соскабливает и пишет вновь. Так любить природу, как он, наверняка мучение и позор; ведь разумный человек не позволяет предмету, даже если это сама природа, подолгу обманывать себя и терзать. Конечно, терзает его не искусство, мучитель – он сам, со своим убогим пониманием искусства и мира. Этот Эрвин любит меня. Когда мы оба начинали, я писал вместе с ним. Мы слонялись по лугам, под деревьями, которые я, вспоминая о том бесподобном времени, до сих пор вижу перед собою только во всем их роскошном цветении. Это слово, «бесподобный», использовал Эрвин в своей слепой экзальтированности, когда видел перед собою пейзажи, чья красота превосходила его разумение. «Каспар, ты посмотри на этот бесподобный пейзаж», – так он мне твердил, не знаю, сколько сотен раз. В ту пору он писал вполне симпатичные картины, отмеченные талантом, но уже тогда резко и беспощадно критиковал себя. Удачные картины уничтожал, сохранял сплошь неудачные, так как именно их и полагал ценными. Талант его ужасно страдал из-за вечного недоверия и в конце концов от столь скверного обращения высох и иссяк, как родник, выжженный и иссушенный солнцем. Я не раз советовал ему продавать готовые картины за скромную цену, но из-за этого совета едва не лишился его дружбы. Глядя на меня, он день ото дня все больше недоумевал, как это я пишу этак легко и довольно беззаботно, однако ж уважал мой талант, не мог мне в нем отказать. Ему хотелось, чтобы я относился к своему искусству с большей серьезностью, а я отвечал, что занятия искусством, коли желаешь в них преуспеть, требуют лишь прилежания, радостного энтузиазма и наблюдения за природой, и обращал его внимание на вред, который непомерная серьезность способна с неизбежностью нанести любому делу. Он мне искренне поверил, но был слишком слаб, чтобы избавиться от своей упрямой серьезности, вцепился в нее как клещ. Потом я уехал и получал от него ужасно тоскливые письма, в которых он горевал по поводу моего отъезда. Писал, что именно я мало-мальски поддерживал в нем бодрость. Просил вернуться, а если это невозможно, не разрешу ли я ему приехать мне вослед. Да так и сделал. Все время был у меня за спиной, словно неотлучная тень, хотя я частенько обращался с ним холодно, насмешливо и свысока. Женщин Эрвин избегал, даже ненавидел их, из боязни, что они отвлекут его от священной жизненной задачи. Я его высмеивал и, возможно, держался с ним весьма пренебрежительно. Работал он все более неуклюже и с все большей одержимостью предавался своим штудиям. Я советовал ему поменьше вникать в теорию и побольше приучать руку к кисти. Он пытался и буквально плакал, наблюдая за моей беззаботной работой. Тогда мы, знаете ли, предприняли сообща пешее странствие в мои родные края! Шагали то по склонам высоких гор, то спускались в глубокие, обрывистые ущелья, то снова поднимались вверх по кручам. Для меня это было легче легкого, удовольствие, чуть учащенное дыхание, изрядная нагрузка на ноги, и только. Эрвин же продвигался вперед с трудом: в самом деле, силы-то свои он истратил на стремление к искусству. И вот однажды под вечер, стоя на высокогорном пастбище, мы увидели за густым ельником три озера моей родины. Эрвин при виде их аж вскрикнул. Красота и впрямь незабываемая. Внизу грохотала железная дорога, звонили колокола. Города еще не было видно, но я протянул руку и показал Эрвину на то место, где он расположен. Точно царские ризы, раскинулись в мягком сиянии и блеске озёра, обрамленные благородными контурами гор, с восхитительно филигранным рисунком берегов, далеко-далеко и все же так близко. В тот же вечер мы, запыленные и голодные, добрались до дома. Сестра обрадовалась тихому гостю, которого я привел с собой. С тех пор минуло уже года три. Постепенно она привязалась к Эрвину, пожалуй, даже прониклась к нему робкой любовью. Ей было больно видеть, как я обращаюсь с ее подопечным. Стоило мне взять хотя бы слегка насмешливый тон, она немедля просила говорить о нем дружелюбнее и уважительнее. И бедняга скоро не выдержал. В один прекрасный день распрощался. Написавши в альбом моей сестре афоризм. Как все это забавно и тем не менее как искренне. Может статься, когда писал ей в альбом, он задумчиво придержал руку, представив себе будущее с моей сестрой. Что сулило ему искусство? Я несколько опасался, что сестра устроит сцену. Но, прощаясь, она лишь мягко и кротко посмотрела на него. Он на нее не глядел, духу не хватило. Казался себе жалким? Вполне вероятно. Быть может, он вообще не верил, что девушки способны любить его и желать себе в мужья, ведь на лице у него было большое родимое пятно. Правда, в моих глазах оно его только облагораживало. Я любил на него смотреть. Мы уехали, а потом он как-то раз спросил, нельзя ли ему написать моей сестре. «Да мне-то какое дело? – вскричал я. – Пиши, коли охота!» Он снова воротился домой, в совершенно неживой, унылый круг академической профессуры. Я сочувствовал ему, но расстался с ним холодно, по крайней мере выказал холодность, потому что мне было неприятно выказывать тепло человеку, достойному жалости. Он прислал несколько писем, на которые я не ответил, и теперь еще пишет, а я и теперь не отвечаю. Впору в отчаяние прийти от его привязанности. Да и надо ли отвечать? Он конченый человек и вперед ничуть не продвинулся. Нынешние его картины ужасны. И все же ни один человек не был так глубоко связан со мной, как он, а коли подумать о тех днях, когда мы вместе обожали природу! Все-все на свете преходяще. Надо созидать, созидать и еще раз созидать, вот для чего мы живем, а не затем, чтобы нам сочувствовали.
– Бедняга, – сказала Клара, – у меня он вызывает сочувствие. Мне бы хотелось, чтобы он был здесь, а если б захворал, я бы с удовольствием за ним ухаживала. Несчастный художник все равно что несчастный король. В глубине души ему наверняка очень больно сознавать собственную бездарность. Вполне могу себе представить. Бедняга. Мне бы хотелось быть ему подругой, коль скоро вам недосуг ему посочувствовать. У меня бы нашлось время. До чего же несчастные люди живут на свете!
– Как вы добры! – тихо сказал Каспар и впервые взял ее руку.
Лес был непроглядно черен, все тонуло во мраке, дом – темное пятно в темноте. Симон и Агаппея поджидали их у дверей.
– Долгонько же вы. Идемте скорее в дом.
– Я, пожалуй, сразу пойду спать, – сказал Симон.
Уже в постели, собираясь закрыть глаза, он вдруг услышал выстрел. Донельзя перепуганный, вскочил, распахнул окно и выглянул наружу.
– Что случилось?! – крикнул он вниз. Но в ответ откликнулось только эхо его собственного голоса. Лес стоял погруженный в зловещее безмолвие. Как вдруг снизу донесся мужской голос:
– Ничего не случилось, спите. Прошу прощения, что я вас напугал. Ночами я часто стреляю в лесу, мне доставляет удовольствие слышать выстрел и гулкое эхо. Иные насвистывают, чтобы развлечься в окружающей тишине, а я стреляю. Будьте осторожны, не то простудитесь у открытого окна. Ночи теперь еще холодные. Скоро вы опять услышите стрельбу, но тогда уж не станете пугаться. Я поджидаю жену. Доброй ночи. Приятных снов.
Симон вернулся в постель. Однако сон не шел. Голос Агаппеи звучал в его ушах так странно, так спокойно, вот то-то и удивительно. Ледяной какой-то, хотя попросту привычно дружелюбный, но именно оттого ледяной. Наверняка за этим что-то кроется. Впрочем, возможно, он незнаком с привычками этого человека, только и всего. «В наше время, – думал он, – чудаков хватает с избытком. Жизнь – штука скучная, оттого чудаков и прибывает. Оглянуться не успеешь, а ты уже чудак. Наверно, и этот Агаппея ничего чудаческого в своих чудачествах не усматривает. Называет это просто спортом и тем отметает все прочие мысли. Ладно, как бы там ни было, постараюсь уснуть». Но в голове закружились другие мысли, сплошь связанные с ночами. Он думал о маленьких ребятишках, которые боятся заходить в темные комнаты и не могут заснуть в темноте. Родители внушают детям жуткий страх перед темнотой и в наказание отсылают неслухов в тихие, черные комнаты. Ребенок тянется руками в темноту, в густую темноту и нащупывает только темноту. Страх ребенка и темнота прекрасно друг с другом ладят, не то что сам ребенок со страхом. Ребенок необычайно способен бояться, и оттого страх все растет и растет. Одолевает малыша, ведь он такой огромный, густой, пыхтящий; ребенок рад бы, к примеру, закричать, но не смеет. А оттого, что не смеет, страх еще усиливается; ведь, коль скоро от страха даже закричать невозможно, стало быть, рядом что-то ужасное. Ребенок думает, в темноте кто-то подстерегает. До чего же грустно становится, когда представишь себе этакого бедного ребенка. Горемыка напрягает ушки, стараясь уловить шорох, хотя бы крохотную толику слабенького шороха. Ничего не слышать – куда страшнее, чем слышать что-нибудь, стоя в темноте и вслушиваясь. Да и вообще, вслушиваться и чуть ли не слышать собственное прислушивание. Ребенок не перестает слышать. Иногда вслушивается, а иногда просто слушает, потому что в своем неописуемом страхе проводит тут различие. Когда говорят «слушать», то, собственно, кое-что слышится, а вот когда говорят «вслушиваться», вслушиваются напрасно, не слышат ничего, только хотят услышать. Ребенок, запертый в темной комнате, в наказание за шалости, занят вслушиванием. Представьте себе теперь, что кто-то входит, тихо, до ужаса тихо. Нет, лучше об этом не думать. Лучше не думать. Тот, кто задумается, вместе с ребенком умрет от страха. У детей такие нежные души, можно ли обрекать их души этаким кошмарам! Родители, родители, никогда не запирайте непослушных детей в темные комнаты, коли прежде внушили им страх перед обычно столь приятной, милой темнотой…
Теперь Симон больше не испытывал страха, пусть даже этой ночью что-то и произойдет. Он уснул, а проснувшись утром, увидел брата, спокойно спящего рядом, и едва не расцеловал его. Тихонько оделся, чтобы не разбудить спящего, тихонько открыл дверь и спустился вниз. На лестнице ему встретилась Клара, которая, по всей вероятности, ждала там уже давно. Едва Симон пожелал ей доброго утра, как она, до крайности взволнованная, обняла его за шею, притянула к себе и ласково поцеловала.
– Мне хочется поцеловать и тебя, ведь ты его брат, – сказала она тихим, приглушенным, счастливым голосом.
– Он еще спит, – сказал Симон. По обыкновению он мягко отстранялся от нежностей, предназначенных не ему самому. Его спокойствие только сильнее взволновало ее душу. Она не отпустила его, а крепче прижала к себе, взяла его голову в ладони и расцеловала в лоб и в обе щеки.
– Я люблю тебя так же, как твоего брата. Теперь ты мой брат. Вот видишь, я имею так много и так мало! Ничего у меня нет, я все отдала. Ты станешь сторониться меня? Нет, конечно же нет! Я владею твоим сердцем, правда? Я богата, раз имею такого наперсника. Ты любишь своего брата, как его не любит никто. С такой силой и желанием. Он рассказал мне про тебя. Ты кажешься мне совершенно замечательным. И совсем непохожим на него. Тебя невозможно описать. Он так и сказал: его не поймешь. И все же с каким доверием люди устремляются тебе навстречу. Поцелуй меня. Я твоя, в том смысле, в каком желает твое сердце. Сердце – вот что в тебе прекрасно. Ничего не говори. Мне понятно, что тебя не понимают. Ты понимаешь все. Ты добр ко мне, скажи, скажи «да». Нет, не говори «да». Этого не нужно, совершенно, совершенно не нужно. Твои глаза уже сказали «да». Я давно знала, давно знала, что есть такие люди, только не напускай на себя холод. Он спит? О нет, не уходи. Я должна еще немного с тобой поссориться. Я глупая, очень-очень глупая женщина, правда?
Она продолжала бы в таком духе, но Симон остановил ее, очень мягко, по своему обыкновению. Сказал, что хочет прогуляться. Она смотрела, как он идет прочь, но ему вовсе не было дела до ее взгляда. «Я готов услужить ей, коли у нее возникнет нужда, само собой разумеется! – говорил он себе. – Вероятно, и жизнь бы отдал, послужи это ей во благо, очень даже вероятно! Да, я почти уверен, что совершил бы такой поступок, именно ради такой, как она. Есть в ней что-то этакое. Словом, она конечно же властвует мною, только вот незачем размышлять об этом. Думать надобно о других вещах. К примеру, нынче утром я счастлив, я ощущаю свои руки и ноги как тонкие, гибкие шнуры. Это чувство наполняет меня счастьем, и тогда я не думаю ни о ком на свете, ни о женщине, ни о мужчине, просто ни о чем. Ах, как же хорошо здесь в лесу солнечным утром. Как же хорошо быть свободным. Может, какая-нибудь душа сейчас думает обо мне, а может, и нет, моя-то, во всяком случае, не думает ни о чем. Этакое утро всегда будит во мне некую черствость, ну да не беда, напротив, в этом основа беззаветного наслаждения природой. Чудесно, чудесно. Как пылает подле земли белое небо. Может, еще сегодня придет мягкость. Если я сейчас о ком-нибудь подумаю, то чересчур резко. И все-таки гораздо приятнее быть таким, каков я теперь. Прелестное утро. Может, спеть ему песню. Хотя оно само – песня. С куда большим удовольствием я бы закричал и кинулся бежать очертя голову или стал бы палить из ружья, как старый дурак Агаппея…»
Он бросился в траву и погрузился в мечты.