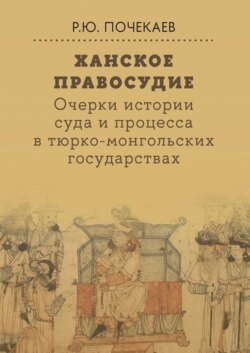Читать книгу Ханское правосудие. Очерки истории суда и процесса в тюрко-монгольских государствах: От Чингис-хана до начала XX века - Роман Почекаев - Страница 5
Часть первая
Начало ханского правосудия
§ 2. Судебная практика в государственной политике Чингис-хана[11]
ОглавлениеРасправа с предводителем рода кият-джуркин Сача-бэки ознаменовала начало эпохи ханского правосудия, т. е. вынесения ханом решений и приговоров на основании его собственной квалификации тех или иных деяний, которые в прежние времена могли восприниматься как реализация степных обычаев, не содержавшая признаков противоправности. При этом степень тяжести тех или иных деяний, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность того или иного лица в конкретных условиях, – все это оставалось на усмотрение самого Чингис-хана. В данном параграфе предпринимается попытка проанализировать некоторые ханские решения в связи с приходом к нему на службу отдельных лиц. Наш интерес привлек тот факт, что в зависимости от обстоятельств хан мог оценить одни и те же действия либо как предательство, либо как заслугу. Соответственно, свою цель мы видим в том, чтобы объяснить причины принятия Чингис-ханом различных судебных решений при сходных объективных обстоятельствах.
В процессе объединения Великой Степи под своей властью Чингис-хан[12] неоднократно сталкивался с приходом к нему на службу различных лиц и целых родо-племенных объединений. Порой обстоятельства их появления в лагере будущего основателя Монгольской империи были настолько сомнительны, что ему приходилось принимать хорошо взвешенные решения о том, как отнестись к их поступкам. По сути, это были настоящие судебные решения, представляющие собой правовую квалификацию и оценку действий потенциальных подданных Чингис-хана, и от этих решений во многом зависело отношение к личности и статусу хана со стороны его приверженцев, а равно и других акторов степной политики.
Основным источником для анализа является «Сокровенное сказание монголов», в необходимых случаях также привлекаются другие средневековые исторические сочинения – монгольские, китайские, персидские и проч. Кроме того, мы учитываем мнения исследователей, уделявших внимание оценке тех или иных поступков Чингис-хана и его современников. В рамках анализа нас заинтересовали как содержательные аспекты (включая обоснование Чингис-ханом принятых в отношении этих лиц решений), так и процессуальные, отражающие сам механизм принятия таких решений – приговоров ханского суда.
Первый сюжет связан с приходом некоего Хорчи, который, будучи родственником и, вероятно, вассалом Джамухи, прибыл в лагерь его анды-побратима – тогда еще Тэмуджина, объяснив свое желание поступить к нему на службу вещим сном, который предрекал возвышение будущего Чингис-хана [Козин, 1941, с. 107; Палладий, 1866, с. 60–61]. Мнения исследователей по поводу поступка Хорчи разнятся. Так, Л.Н. Гумилев вполне однозначно характеризует его как предательство по отношению к своему родственнику Джамухе и негативно оценивает благорасположение к нему Тэмуджина [Гумилев, 1992б, с. 293]. В.А. Злыгостев считает, что Хорчи имел право сам выбирать себе сюзерена, будучи предводителем собственного рода [Злыгостев, 2018, с. 646]. Последнее мнение представляется достаточно обоснованным, поскольку термин «старец», используемый в «Сокровенном сказании» по отношению к Хорчи, несомненно, означает не его возраст[13], а статус старейшины – предводителя рода усун [Rachewiltz, 2004, р. 47].
Решение Тэмуджина принять к себе Хорчи могло диктоваться как минимум двумя соображениями: первое заключалось в том, что тот объективно не совершил предательства по отношению к своему прежнему сюзерену Джамухе, поскольку оставил его не в связи с затруднительным положением либо с поражением и тем более не в условиях вражды Тэмуджина и Джамухи. Второе соображение, несомненно, диктовалось созданием определенного рода прецедента: принятие на службу не просто рядового степняка, а предводителя рода (скорее всего, вместе с его собственными подданными) давало основание и другим степным вождям в дальнейшем надеяться на благорасположение Тэмуджина при сходных обстоятельствах.
Любопытно, что тема верности и предательства оказалась весьма актуальной в связи с последовавшим вскоре избранием Тэмуджина в ханы, о чем он немедленно сообщил своему приемному отцу и покровителю – кераитскому Тогорил-хану (будущему Ван-хану) и побратиму Джамухе. От обоих последовала примерно одинаковая реакция: они пожелали родо-племенным вождям, поддержавшим избрание Тэмуджина, быть верными своему хану [Козин, 1941, с. 111; Палладий, 1866, с. 65]. Однако и в данном случае исследователи склонны по-разному трактовать слова кераитского хана и джаджиратского нойона. Так, Б.Я. Владимирцов оценивает слова Тогорила как проявление его политической недальновидности и непонимания опасности со стороны потенциального конкурента за контроль над Степью, а Е.И. Кычанов – как попытку заручиться расположением нового степного вождя в собственных интересах [Владимирцов, 2002, с. 159; Кычанов, 1995, с. 93] (ср.: [Гумилев, 1992б, с. 297]). Что же касается Джамухи, то его слова Р. Груссе склонен толковать как иронию по поводу неожиданного возвышения побратима, а тот же Е.И. Кычанов – как своеобразное предупреждение самому хану Тэмуджину по поводу неблагонадежности его тогдашних приверженцев [Кычанов, 1995, с. 94–95; Груссе, 2000, с. 71]. Как бы то ни было, нас в данном случае интересует тот факт, что не только Чингис-хан, но и другие степные властители придавали серьезное значение вопросу о верности своему правителю – причем в данном случае даже не «природному» (каковыми являлись в силу своего происхождения сами Тогорил-хан и Джамуха), а избранному.
И очень скоро Чингис-хану пришлось принимать решение о том, как трактовать переход от одного вождя к другому в связи с приходом к нему на службу Чжурчедая из племени урут и Хуилдара из племени мангут [Козин, 1941, с. 112]. Казалось бы, ситуация была весьма сходна с появлением в лагере Тэмуджина Хорчи, однако на самом деле обстоятельства в данном случае были принципиально иными: эти два нойона со своими подданными покинули Джамуху[14] в разгар его войны с Чингис-ханом, т. е., объективно говоря, совершили измену, перейдя на сторону противника. Любопытно, что исследователи склонны обвинять в этом поступке не самих Чжурчедая и Хуилдара, а… Джамуху, считая, что нойоны покинули его из-за его жестокости, хитрости и коварства – качеств, которые считались недостойными степного предводителя (см., например: [Гумилев, 1992б, с. 298; Груссе, 2000, с. 73]).
Несмотря на явное предательство по отношению к побратиму, Чингис-хан отнесся к новообретенным вассалам не менее благосклонно, чем прежде к Хорчи. Во-первых, он сильно нуждался в пополнении своих войск после только что понесенного разгрома в битве у Цзеренского ущелья. Во-вторых, как отмечают исследователи, Чжурчедай и Хуилдар явились не с группой родичей (как сделал, вероятно, Хорчи), а во главе довольно многочисленных подданных (см., например: [Гумилев, 1992б, с. 298]), в боевых качествах которых хан только что имел возможность убедиться в ходе битвы. Прогнать нойонов или тем более наказать их за измену (к тому же по отношению к его собственному противнику!) он не то что не посчитал нужным, а просто-напросто не имел реальной возможности, даже если бы и захотел. Наконец, в-третьих, вместе с ними к Чингис-хану явился также и «Хонхотанский Мунлик-эциге, который в это время, оказывается, был с Чжамухой» [Козин, 1941, с. 112]. В отличие от Чжурчедая и Хуилдара, которым Чингис-хан ничем не был обязан прежде, к Мунлику он должен был испытывать благодарность, поскольку тот был последним из приверженцев его отца Есугая, покинувшим семейство своего предводителя, когда оно, лишившись главы, стремительно теряло авторитет среди своих подданных. Естественно, даже усмотрев в нынешних действиях Мунлика признаки измены по отношению к Джамухе, Чингис-хан не стал бы упрекать его из-за прежних заслуг. Но, приняв Мунлика, он не мог, соответственно, отказать и его спутникам – нойонам племен урутов и мангутов. Более того, он выделил этих предводителей среди своих приверженцев, сделав Хуилдара своим андой-побратимом, а Чжурчедая величая «дядюшкой» [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 184] (см. также: [Злыгостев, 2018, с. 660, 717]).
Еще одно компромиссное решение, принятое Чингис-ханом, говорящее о проявлении то ли верности, то ли предательства, было связано с приходом к нему на службу человека, впоследствии прославившегося в качестве одного из его крупнейших полководцев, – Джэбэ из племени йесут. Обстоятельства, при которых он явился к Чингис-хану, казалось, однозначно должны были бы склонить последнего к наказанию этого воина. Во-первых, в битве при Койтене именно он ранил, по одним сведениям, любимого коня Чингис-хана, по другим – его самого [Козин, 1941, с. 117, 119–120; Лубсан Данзан, 1973, с. 116]. Во-вторых, он оставил своих «природных» правителей из племени тайджиут, которым его племя йесут служило в течение ряда поколений, причем как раз тогда, когда они находились в затруднительном положении[15].
Что же заставило Чингис-хана простить и принять на службу такого явного врага, причинившего вред ему лично, да еще и столь откровенно предавшего своих прежних господ? Полагаем, что и в данном случае он мог руководствоваться двумя соображениями. Одно было связано с тем, что вместе с Джэбэ к нему пришел еще один подданный («крепостной») тайджиутов, Сорган-Шира, который, как и Мунлик, оказал поддержку Тэмуджину в его юные годы; соответственно, приняв на службу его, хан сделал то же самое и в отношении его спутника. Кроме того, репутация Джэбэ как искусного стрелка также могла склонить Чингис-хана к решению принять его на службу. Однако, чтобы вынести официальное решение при обстоятельствах, сложившихся настолько не в пользу Джэбэ, основателю Монгольской империи пришлось пойти на такой шаг, который сегодня могли бы назвать юридической фикцией.
Чингис-хан публично задал вопрос, кто именно попал в его коня во время битвы при Койтене, на что Джэбэ честно признался, что это был он, и выразил готовность принять наказание за свои действия, но пообещал в дальнейшем честно служить Чингис-хану и возместить причиненный ущерб. На это хан сам произнес целую защитную речь в пользу «подсудимого»: «Подлинный враг всегда таит про себя свое душегубство и свою враждебность. Он придерживает свой язык. Что же сказать об этом вот? Он не только не запирается в своем душегубстве и вражде своей, но еще и сам себя выдает головой. Он достоин быть товарищем. Прозывался он Чжиргоадай, а мы прозовем его Чжебе за то, что он прострелил моего Чжебельгу, моего саврасого, беломордого. Ну, Чжебе, мы еще повоюем пиками-чжебе! Называйся ты теперь Чжебе и будь при мне!» [Козин, 1941, с. 119–120; Лубсан Данзан, 1973, с. 117]. Легко увидеть, что в своем решении он, во-первых, оправдал проступок йесутского воина его раскаянием – честным признанием своей вины. Во-вторых, он дал ему новое имя, тем самым Чжиргоадай, враг Чингис-хана и предатель тайджиутов, de facto исчез, и на сцене появился совсем новый субъект правоотношений Джэбэ, чьи прежние деяния были как бы обнулены с получением нового имени[16].
Политика компромиссов с собственными представлениями о верности и предательстве и традиционными степными обычаями, которая проявилась в проанализированных выше казусах, не всегда практиковалась Чингис-ханом. В ряде случаев он имел возможность проявить приверженность ценностям, разделявшимся кочевой знатью Великой Степи, к которой принадлежал и он сам [Бира, 1978, с. 71–72]. Ярким примером демонстрации правосудия в таком контексте стало решение Чингис-хана в отношении Ширгэту-Эбугена и его сыновей Алака и Наяа.
Согласно монгольским источникам, они являлись представителями племени баарин, которое, подобно йесутам, находилось в подчинении у тайджиутов. После очередного поражения они схватили своего «природного» господина Таргутая-Кирилтуха – многолетнего врага и соперника Чингис-хана, к которому и намеревались его привезти. Однако по пути между отцом и сыновьями разгорелся спор. В «Сокровенном сказании» приводятся слова Наяа, которые можно истолковать как квинтэссенцию средневековых монгольских представлений о вассальной верности: «Если мы приедем с этим захваченным нами Таргутаем-Толстым, то Чингис-хан присудит нас к смертной казни. “Они, – скажет он, – наложили руки на своего природного хана. Какое может быть доверие, – скажет он, – какое может быть доверие к холопам, которые наложили руки на своего природного государя? Такими же верными друзьями будут они и нам! Холопов же, нарушивших верность, холопов, наложивших руки на своего природного хана, только и следует, что укорачивать на голову!” – скажет он. И вы думаете, он не снесет нам головы? Давайте-ка лучше поступим не так. Давайте отпустим отсюда Таргутая, поедем и скажем, что мы пришли с тем, чтобы отдать себя целиком на служение Чингис-хану. Что мы схватили, было, Таргутая и везли сюда, но видим, что не в силах погубить своего природного государя. И мы отпустили его. Как могли мы предать его на смерть? И вот мы, с полною верой в тебя, пришли отдать свои силы. Вот как давайте мы скажем!» Отец и брат оказались достаточно разумными, чтобы признать его правоту [Козин, 1941, с. 121] (см. также: [Палладий, 1866, с. 74–75; Палладий, 1877, с. 156; Панкратов, 1998, с. 49–51]; ср.: [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 187–188])[17]. Соответственно, в данном случае Чингис-хан не должен был поступаться никакими принципами выстраивания социально-политических отношений в Великой Степи, которым он столько раз бросал вызов ранее. Напротив, он получил возможность продемонстрировать кочевой аристократии, что в полной мере разделяет их ценности, не наказав бааринов за то, что они отпустили его врага, и, более того, похвалив, а впоследствии и возвысив Наяа за приверженность тем же ценностям [Козин, 1941, с. 121; Лубсан Данзан, 1973, с. 156].
Вполне можно допустить, что ранее, стремясь всеми доступными ему средствами увеличить число своих приверженцев любого происхождения, Чингис-хан готов был закрывать глаза на нарушение ими системы степных ценностей. Теперь обстановка изменилась: к нему стали являться не отдельные воины или семейства, а целые многочисленные роды и племена во главе со своими потомственными нойонами – ревнителями степных традиций. Чтобы не оттолкнуть их от себя, Чингис-хан просто обязан был своими действиями показывать единство с ними, в том числе на уровне общих ценностей.
В свете его изменившейся позиции довольно противоречивым видится очередной сюжет, связанный с приходом к нему на службу неких Бадая и Кишлика, которые служили Еке-Церену, брату Алтана – еще одного родича Тэмуджина, некогда даже являвшегося его конкурентом в борьбе за ханский титул. Алтан вместе с другими родственниками поначалу поддержал воцарение Чингис-хана, однако позднее откочевал и неоднократно участвовал в военных действиях против него на стороне Джамухи и Ван-хана. Соответственно Алтан и Еке-Церен приняли участие в заговоре Сангума, сына Ван-хана, который замыслил заманить Чингис-хана в западню под предлогом обсуждения женитьбы его старшего сына Джучи на своей дочери Чаур-беки. Еке-Церен, придя домой, рассказал о замысле своей жене, и этот разговор был подслушан Бадаем, а тот передал его Кишлику, вместе с которым решил предупредить Чингис-хана о заговоре, причем для своего бегства они взяли хозяйских коней [Козин, 1941, с. 128–129].
Казалось бы, налицо прямое предательство своего «природного» господина, да еще и кража у него имущества – коней (а известно, как сурово наказывалось у монголов конокрадство!). Однако когда Бадай и Кишлик явились к Чингис-хану, он не только сразу поверил им (и принял соответствующие меры в отношении Ван-хана и его союзников), но и впоследствии щедро наградил их за совершенный поступок: оба они стали тарханами, т. е. лицами, обладавшими налоговым и судебным иммунитетом [Козин, 1941, с. 141; Палладий, 1866, с. 85–86; Палладий, 1877, с. 167–169; Лубсан Данзан, 1973, с. 155]. Впоследствии потомки Бадая и Кишлика в Средней Азии (Чагатайском улусе), апеллируя к тому, что их предки были возвышены самим Чингис-ханом, на равных соперничали за власть с потомками Чингис-хана и Амира Тимура (см. об этом подробнее: [Почекаев, 2022б, с. 188–189]).
Столь высокое доверие к словам перебежчиков и столь щедрое поощрение их кажутся до такой степени необъяснимыми, что и средневековые авторы, и современные исследователи стали предлагать самые разные, порой даже фантастические толкования причин подобной реакции Чингис-хана. Так, хотя в «Сокровенном сказании» Бадай и Кишлик прямо именуются табунщиками[18], ряд средневековых авторов склонны повысить их социальный статус. Например, Рашид ад-Дин называет их конюшими, т. е. довольно высокопоставленными чиновниками, отвечавшими за стада, причем на службе не у какого-то Еке-Церена, а у самого Ван-хана [Козин, 1941, с. 134]! В таком случае их измена «природному» господину фактически трансформируется в вышеупомянутое право лиц с определенным статусом самим выбирать себе сюзерена. А некоторые современные авторы вообще считают, что Бадай и Кишлик были осведомителями Чингис-хана в лагере его противников – отсюда и доверие к их информации [Мэн, 2006, с. 114; Хартог, 2007, с. 39].
Однако, как представляется, подобные суждения не имеют оснований. Во-первых, практически во всех источниках сообщается, что Бадай и Кишлик решили уведомить Чингис-хана о заговоре в надежде на получение вознаграждения (которое упомянул в разговоре с женой сам же Еке-Церен). Во-вторых, доверие Чингис-хана к их словам о заговоре, на наш взгляд, объясняется очень просто: несомненно, он ожидал чего-то подобного если не от самого Ван-хана, то уж точно от его сына и информация перебежчиков лишь подтвердила его опасения. Последующее награждение Бадая и Кишлика вновь стало демонстрацией приоритета целесообразности над законностью – точнее, над степными обычаями верности своим хозяевам, которые нигде, впрочем, не были зафиксированы и, следовательно, могли толковаться и применяться по-разному в разных обстоятельствах.
Тем не менее во многих других случаях Чингис-хан по-прежнему продолжал демонстрировать поощрение верности людей своим «природным» господам, причем не только в отношении тех, кто являлся к нему на службу. Например, когда в 1203 г. были окончательно разгромлены кераиты, Ван-хану и его сыну Сангуму удалось скрыться благодаря своему приверженцу Хадак-багатуру, который отважно прикрывал их отход. Захватив его в плен, Чингис-хан не только похвалил его за преданность своим врагам, но и простил убийство в бою собственного побратима Хуилдара, всего лишь подчинив семейству последнего Хадак-багатура вместе с его воинами [Козин, 1941, с. 140; Палладий, 1866, с. 97–98] (см. также: [Груссе, 2000, с. 112; Злыгостев, 2018, с. 621]).
И напротив, когда слуга предавал своего господина, это было основанием для его сурового наказания, что и проявилось в отношении некоего Кокочу, который бросил на произвол судьбы того же Сангума, при котором был конюшим. Согласно «Сокровенному сказанию», он хотел не просто оставить Сангума в бедственном положении, но еще и ограбить его, захватив золотую чашу, принадлежавшую сыну хана кераитов. Лишь после увещеваний собственной жены Кокочу бросил чашу, но сам ускакал на хозяйском мерине. Явившись к Чингис-хану, он в подробностях рассказал о своих деяниях, рассчитывая на вознаграждение. Однако хан приказал наградить его жену, тогда как самого Кокочу – зарубить, обосновав свое решение следующими словами: «Этот самый конюх Кокочу явился ко мне, предав так, как он рассказывал, своего природного хана! Кто же теперь может верить его преданности?» [Козин, 1941, с. 141] (ср.: [Палладий, 1866, с. 99–100]; см. также: [Груссе, 2000, с. 116; Злыгостев, 2018, с. 331]). Остается только удивляться наивности Кокочу, решившегося явиться к Чингис-хану в надежде получить награду за неверность своему «природному» господину. Полагаем, однако, что конюшего могла сбить с толку вышеупомянутая непоследовательность решений Чингис-хана, который, как мы уже отмечали, в одних случаях мог счесть эту неверность преступлением, а в других – чуть ли не подвигом.
Наверное, едва ли не самым триумфальным событием в судебной практике Чингис-хана стало дело Джамухи и его нукеров, которые схватили и доставили своего хозяина в ставку монгольского властителя как раз в тот период, когда тот готовился стать ханом всех кочевников Центральной Азии. Поимка главного недруга в столь значимый момент, казалось, должна была расположить Чингис-хана к неверным подданным его бывшего побратима. Однако и на этот раз хан продемонстрировал приверженность традиционным ценностям кочевой знати, среди которой верность «природному» господину ценилась выше, чем учет сиюминутной политической ситуации.
Согласно «Сокровенному сказанию», Джамуха, доставленный нукерами к своему анде, прямо заявил ему: «Черные вороны вздумали поймать селезня. Рабы-холопы вздумали поднять руку на своего хана. У хана, анды моего, что за это дают? Серые мышеловки вздумали поймать курчавую утку. Рабы-домочадцы на своего природного господина вздумали восстать, осилить, схватить. У хана, анды моего, что за это дают?» На что Чингис-хан вполне предсказуемо ответил: «Мыслимо ли оставить в живых тех людей, которые подняли руку на своего природного хана? И кому нужна дружба подобных людей?» И тут же, в присутствии Джамухи, приказал казнить «посягнувших на него аратов» [Козин, 1941, с. 155] (см. также: [Палладий, 1866, с. 112]; ср.: [Мэн, 2006, с. 119–120]).
Здесь мы считаем целесообразным обратиться к вопросу, который до сих пор не получил освещения в нашем исследовании, – процессуальной стороне принятия Чингис-ханом его решений. Как можно заметить, в большинстве случаев источники ничего не сообщают о процедуре разбирательства дел основателем Монгольской империи. По сути, все оно сводится к изложению обстоятельств дела самими же лицами, явившимися к Чингис-хану, коим он предлагает высказать причины, по которым он должен простить их и принять на службу, после чего тут же выносит свое решение, либо признавая их правоту, либо толкуя сказанное ими как признание вины. Лишь в отдельных случаях помимо самого «подсудимого» хан выслушивал также показания свидетелей – например, жены упомянутого Кокочу. Надо сказать, что такая процедура разбирательства судебных дел, видимо, действительно была характерна для средневековых монголов, поскольку нашла отражение даже в ряде сказочных сюжетов [Носов, 2015, с. 9–10; Носов, Сэцэнбат, 2020, с. 80–81]. Вместе с тем эту простоту судебного процесса можно объяснить еще и тем, что он проходил в условиях непрекращающегося противостояния Чингис-хана с его соперниками, т. е. «по законам военного времени».
Однако в случае с Джамухой мы наблюдаем некоторый отход от этой упрощенной процедуры судебного разбирательства. Согласно «Сокровенному сказанию», вначале Чингис-хан выслушивает Джамуху и его нукеров и тут же, в присутствии «потерпевшего», выносит приговор в отношении последних. Однако дальнейшие события выглядят довольно загадочно: принимая решение в отношении самого Джамухи, хан не ведет диалога непосредственно с ним, а говорит своим приближенным: «Передайте вы Чжамухе…» – после чего тот в свою очередь передает ответ Чингис-хану, который, наконец, выносит ему смертный приговор, так же приказывая своим приближенным огласить его «подсудимому» [Козин, 1941, с. 155–158].
Это противоречие снимается после обращения к сведениям Рашид ад-Дина, которые, по мнению исследователей, гораздо объективнее отражают события, связанные с Джамухой и его спутниками, чем «назидательный» сюжет «Сокровенного сказания» [Кычанов, 1995, с. 131]. По версии персидского историка, Чингис-хан не соизволил вообще лично встречаться с Джамухой и слова бывшего побратима о неверных нукерах были ему переданы через приближенных. Кроме того, Рашид ад-Дин упоминает, что нукеров было не пятеро, как в монгольской хронике, а около тридцати; наконец, вместе с Джамухой было пленено еще и несколько его родичей, которые потом были освобождены и пощажены, тогда как всех нукеров казнили [Ращид ад-Дин, 1952а, с. 191][19]. Данное сообщение позволяет сделать вывод, что в условиях стабилизации обстановки в степи и приобретения Чингис-ханом более высокого статуса, чем прежде, он решил несколько изменить (и усложнить) процедуру судебного разбирательства, в том числе и путем «заочного» разбирательства отдельных категорий дел[20].
Таким образом, для Чингис-хана, по-видимому, имел значение не просто факт измены, а конкретные обстоятельства – тот самый контекст, который нам чаще всего неизвестен. Исследователям редко удается получить исчерпывающую информацию об истинной подоплеке того или иного события, произошедшего даже совсем недавно; что же говорить о том, что случилось сотни лет назад и притом в совершенно другой культурной среде! Как правило, дошедшие до наших дней источники отражают позицию сторонников Чингис-хана, и говорить об их объективности не приходится. Поэтому реконструкция его действий, как и деяний остальных героев великой степной драмы XIII–XIV вв., весьма гипотетична.
Можно ли нащупать какую-либо систему в оценке Чингис-ханом тех людей, которые являлись к нему с выражением покорности, предав своих прежних господ? Для этого в первую очередь следует прояснить вопрос с понятием верности применительно к кочевому обществу рассматриваемого периода. В свое время Б.Я. Владимирцов отметил, что средневековые монголы до их консолидации под властью Чингис-хана могли свободно менять своих ханов, это было в порядке вещей [Владимирцов, 1934, с. 83, 87–90, 93]. Собственно, наши источники единодушны в том, что такая смена больно отозвалась на семье самого Тэмуджина после смерти его отца, когда люди Есугая покинули его вдову Оэлун с малолетними детьми. Есть основания полагать, что его суровость к предателям проистекает именно отсюда, а не из неписаных правил степного вассалитета[21].
По-видимому, Чингис карал жестокой смертью пришедших к нему ближайших людей, слуг (unagan bogol), от которых зависела личная безопасность преданного ими лица, и не придавал большого значения тем перебежчикам, верность или неверность которых не была критической для их бывшего хозяина. При этом, очевидно, нельзя было придумать проступка тяжелее, чем доставить своего господина связанным на расправу к его врагу, в данном случае к Чингис-хану.
Однако и он, чтобы выжить и добиться своих целей, был вынужден подчиняться жесткому диктату Realpolitik, чем, по-видимому, и объясняется его амбивалентное отношение к предателям: одних он был обязан обласкать, а другим – устроить «показательную порку». Затем рассказы об этих инцидентах попали в анналы истории, и можно не сомневаться, что каждый такой рассказ появился в «Сокровенном сказании» далеко не случайно, при этом чем более пространно описывается тот или иной эпизод с обстоятельствами казни либо сердечного принятия на свою службу очередного ренегата, тем значимее была данная фигура в степной политике тех лет.
Представляется, что рассказы об этом служили вполне определенной назидательной цели: они должны были продемонстрировать на примере чужих слуг, какая страшная судьба ждет тех, кто рискнет изменить самому Чингис-хану. Но умолчать о радушном принятии некоторых беглецов из вражеского стана тоже вряд ли было возможно – все-таки о подобных поступках быстро узнавала вся Степь. В «Сокровенном сказании» всем этим событиям надо было придать «оправдательное» либо «обвинительное» оформление, чтобы запечатлеть их как своего рода образцовые модели правильного и неправильного иерархического поведения в назидание потомкам. Возможно, по этим моделям в дальнейшем оценивались поступки тех, кто приходил на службу к монгольским ханам, либо принятые решения объявлялись со ссылкой на них (точнее, на Ясу Чингис-хана; но, как представляется, вместо кодекса законов, реальное существование которого до сих пор никем убедительно не доказано, здесь подразумевался его личный пример).
Все сказанное выше относится к тюрко-монгольским кочевникам: для каждого из них эталоном «настоящего» человека был такой же кочевник, как и он сам, а в отношении себе подобных действовали законы «своего», «внутреннего» мира, в отличие от «чужого», «внешнего» мира оседлых земледельцев, поступки которых оценивались по иным критериям. Поэтому ситуация закономерно становится гораздо определеннее, когда к Чингис-хану начинают приходить на поклон изменники из стана его оседлых соседей: киданей, чжурчжэней, тангутов, китайцев. Нам неизвестно ни одного случая, чтобы кого-либо из них сразу же казнили за предательство. Напротив, они даже имели неплохие шансы попасть в ближний круг великого монгола, как, например, братья Елюй Ахай и Елюй Тухуа – выходцы из киданьской императорской фамилии, занимавшие высокое положение в Цзинь. Принимая во внимание старую вражду между монголами и чжурчжэнями, эти двое оказались для Тэмуджина большим подарком судьбы. Разумеется, он не мог осуждать их поступок явно, даже если не одобрял такое поведение внутренне. И чем более расширялись рубежи растущей Монгольской империи, тем большее количество вождей и полководцев разных рангов переходило на сторону Чингиса. Как правило, их оставляли во главе их воинских подразделений и без промедления отправляли в бой[22]. В противном случае, даже при всем своем военном мастерстве, сломить сопротивление чжурчжэней, а равно и прочих сильных врагов монголам едва ли удалось бы. Рискнем предположить, что все эти люди были в глазах Чингис-хана и его соплеменников чем-то ущербным, не соответствовавшим степным стандартам истинного мужа-воина, почему и судить их строго за измену своим прежним господам не имело смысла. Вместо этого был резон с их помощью расчищать себе путь к победе – в чем-то подобно тому, как это испокон веков делали в Поднебесной, «руками варваров подавляя варваров». Наверное, если такой человек погибал потом в схватке, монгольскому хану оставалось лишь заключить, что судьбу изменника решило само Вечное Небо. Однако если в плен сдавался военачальник, вышедший из кочевой среды, его поступок оценивался по степным стандартам и вместо награды его могла ожидать казнь, как это произошло, например, с тюркским Карача-ханом, который состоял на службе у хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада (1200–1220), одного из серьезнейших противников монголов в эпоху формирования их евразийской империи.
Рашид ад-Дин сообщает, что когда во время осады Отрара к сыновьям Чингис-хана Чагатаю и Угедэю явился Карача-хан, бежавший из города, который он должен был защищать, те предали его казни. При этом их слова поразительно напоминают по смыслу некоторые вышеприведенные речи Чингис-хана: «Ты не соблюл верности в отношении своего властелина, несмотря на такое количество предшествующих случаев, [дающих] ему право [на твою] благодарность, у нас [поэтому] не может быть стремления к единодушию с тобой» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 198–199]. Следовательно, мы можем предполагать, что принципы награждения за верность и наказания за предательство, заложенные Чингис-ханом, находят отражение и в судебной практике его потомков, причем в некоторых случаях исследователи склонны усматривать в решениях Чингисидов прямые параллели с аналогичными действиями самого основателя Монгольской империи.
Целый ряд арабских историков, сообщая о конце знаменитого золотоордынского временщика Ногая в 1299/1300 г., приводят подробности, связанные с судьбой убившего его «русского тысячника». Явившись с головой Ногая к хану Токте (1291–1312) за наградой, он подтвердил, что знал, кого убивает. За это хан приговорил его к смерти, обосновав свой приговор следующими словами: «По закону ему (следует) смерть, дабы подобные ему не осмеливались убивать таких людей, как этот великий человек» [Тизенгаузен, 1884, с. 122–123] (ср.: [Там же, с. 113–114]). Н.И. Веселовский при анализе этого сообщения проводит прямые параллели с сюжетами из «Сокровенного сказания» о вознаграждении Наяа и казни нукеров Джамухи [Веселовский, 2010, с. 182–183]. Само описание процедуры разбирательства (как обмена вопросами и ответами между ханом-судьей и провинившимся воином), как представляется, позволяет думать, что принципы судебного разбирательства и наказаний за преступления, заложенные Чингис-ханом на заре его политической деятельности, оставались актуальными для его потомков даже тогда, когда о единстве Монгольской империи уже говорить не приходилось. Между тем, хотя убийца Ногая и был виноват в том, что фактически совершил самосуд, да еще осмелился отрубить Чингисиду голову (вопиющее нарушение монгольской традиции, согласно которой представителей «золотого рода» и вообще лиц благородного происхождения полагалось умерщвлять «без пролития крови»), он не являлся подчиненным Ногая и, следовательно, не был предателем. Тем не менее этот случай показателен в другом отношении: он наглядно демонстрирует императив социальной иерархии, который также попрал русский воин, подняв руку на человека, стоявшего гораздо выше его.
Возможно, здесь будет уместна аналогия с расправой над останками вышеупомянутого хорезмшаха Мухаммада. Это событие проливает свет на особую черту средневековой ментальности: враг только тогда считается ликвидированным полностью и бесповоротно, когда уничтожены его кости, но сделать это может не кто угодно. Мухаммад не был убит в бою или казнен, будучи пленником, – он скончался на пустынном островке в Каспийском море, укрывшись там от преследовавших его по пятам монголов. Секретарь его сына Джалал ад-Дина Манкбурны, последнего представителя династии Хорезма, так описывает это событие: «Великий султан (Ала ад-Дин Мухаммад) был похоронен на острове, как мы выше упомянули в рассказе о его смерти, возвратив [Аллаху] жизнь, данную ему на срок. Султану, когда он был занят осадой Хилата, пришло на ум построить в память отца Мадрасу в Исфахане и перенести туда с острова его гроб (табут). Он направил в Исфахан Мукарраб ад-Дина – старшего конюшего, который был ранее постельничим. Это был тот, кто омывал Великого султана. [Ему было приказано] построить в Исфахане мадрасу с куполом над могилой, со всеми другими необходимыми помещениями, такими, как отделение для одежды, отделение для постели, отделение для омовений, отделение для обуви и так далее. Султан послал с ним тридцать тысяч динаров для начала строительства. Он предупредил вазира Ирака, чтобы тот выдавал из поступлений дивана средства, необходимые для окончания строительства, и чтобы утварь была изготовлена из золота: и подсвечники, и тазы, и кувшины, – и чтобы у дверей стоял конный караул с бунчуком и украшенной амуницией. Ал-Мукарраб направился в Исфахан и приступил к строительству. Я прибыл через четыре месяца и увидел, что стены уже поднялись в рост человека. Султан написал своей тетке по отцу Шах-хатун – правительнице Сарийи, одного из округов Мазандарана, ее отец Текиш выдал ее замуж за малика Мазандарана Ардашира ибн ал-Хасана, а тот умер, – чтобы она сама и вместе с ней малики, эмиры и вазиры Мазандарана отправились на остров и перевезли гроб с острова в крепость Ардахн. Она была самой неприступной крепостью на земле, и останки должны были оставаться там, пока не будет закончено строительство мадрасы в Исфахане, а затем перевезены туда. И клянусь жизнью, что я писал эти грамоты неохотно и считал их мнение неразумным. Я поведал ал-Мукаррабу некоторые свои мысли и открыл ему кое-какие тайны: ведь я знал, что его труп – да прохладит его Аллах освежающим ветром – не был сожжен татарами только потому, что к нему трудно было добраться. Они уже сожгли кости всех погребенных султанов, в какой бы земле они ни находились, так как они считали, что все эти султаны [имеют] общего предка и одного рода. Даже кости Йамин ад-Даулы Махмуда ибн Себюк-Тегина – да помилует его Аллах – были извлечены из его могилы в Газне и сожжены. Однако то, что я сказал, не понравилось Мукарраб ад-Дину, и поэтому я прекратил разговор. А дело было впоследствии именно так, как я предполагал: татары, покончив с султаном [Джалал ад-Дином] на границах Амида, о чем мы еще расскажем, осадили упомянутую крепость (Ардахн), захватили останки [султана Мухаммада] и отправили к ал-хакану, а тот сжег их» [ан-Насави, 1996, с. 233–234].
Трудно сказать, действительно ли останки злосчастного хорезмшаха были отвезены в Монголию, где хаган Угедэй (1229–1241) совершил ритуал их сожжения (а в том, что это был именно особый ритуал, сомневаться не приходится). К сожалению, нам не удалось найти ни одного подтверждения этой истории, но вполне допустимо полагать, что ан-Насави верно изложил общий принцип, согласно которому эффективная нейтрализация духовной силы, заключенной как в живом человеке, так и в его костях, была доступна лишь человеку, обладающему не меньшей силой (см. об этом подробнее: [Дробышев, 2005, с. 128–130]). Поэтому посмертная расправа ожидала Мухаммада в Каракоруме, где тогда находился Угедэй, а не в Ардахне, где, казалось бы, осуществить ее не составило бы труда и рядовому монгольскому воину. Хорезмшах и хаган, как великие правители, были достойны друг друга, ввиду чего история, поведанная ан-Насави, представляется нам основанной на реальных событиях, и она косвенно подтверждает правило, озвученное ханом Токтой: простолюдины не имеют права лишать жизни высокопоставленных людей. Можно сформулировать его более широко: низшие не могут судить высших.
Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Чингис-хан в своей судебной деятельности далеко не всегда руководствовался едиными принципами и нормами при рассмотрении сходных дел. В значительной степени его решения зависели от обстоятельств, а также и от его собственного усмотрения (в том числе на основе личного отношения к тем или иным участникам разбирательств), которое тоже можно рассматривать как источник принятия ханом судебных решений. Тем не менее не вызывает сомнений, что именно в период возвышения Чингис-хана и его борьбы за власть в Великой Степи начала формироваться та самая система ханского правосудия, которая обусловила статус будущих ханов-Чингисидов как верховных судей в Монгольской империи и ее улусах и легла в основу монгольского имперского суда – яргу, получившего широкое распространение во всех чингисидских государствах XIII–XIV вв., система, одним из определяющих правовых источников для которой являлось как раз собственное усмотрение ханов.
12
Как известно, Тэмуджин получил титул Чингис-хана лишь на курултае 1206 г., однако мы считаем возможным использовать его и при анализе более ранних событий во избежание путаницы в связи с упоминанием большого количества имен в рамках настоящего исследования.
13
На протяжении следующих десятилетий Хорчи ведет себя достаточно активно для человека, который пришел в преклонных летах к будущему Чингис-хану на заре его возвышения.
14
Согласно Рашид ад-Дину, племена урут и мангут были то ли в альянсе с тайджиутами, то ли в подчинении у них [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 184]. Однако поскольку тайджиуты в течение длительного времени находились в тесном союзе с Джамухой, как представляется, это сообщение не противоречит ситуации, описанной в «Сокровенном сказании».
15
По мнению В.А. Злыгостева, Джэбэ не «перебежал по причине изменившейся обстановки», а «по праву старого вассала вернулся на службу к сыну своего прежнего господина, Есугея» [Злыгостев, 2018, с. 262–263]. Однако Рашид ад-Дин вполне однозначно указывает: «Племя тайджиут потеряло свою силу, и Джэбэ долго блуждал одиноко по горам и лесам. Когда он увидел, что от этого нет никакой пользы, [то] по безвыходности [своего положения] и необходимости явился к Чингиз-хану с выражением рабской покорности [ему] и подчинился [ил шуд]» [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 90]. Его действия могли бы быть оправданы после окончательного разгрома тайджиутов, когда все их наследие, включая подчиненные им родо-племенные подразделения, перешло бы к Чингис-хану как к их правопреемнику – на правах победителя и по праву близкого кровного родства с тайджиутами (см. подробнее: [Скрынникова, 2005, с. 122, 124]). Однако, поскольку тайджиуты еще не были разгромлены, а их элита не была уничтожена, вряд ли можно трактовать действия Джэбэ как переход на службу к их «правопреемнику».
16
В связи с этим можно вспомнить другие знаменитые переименования, которых по той же самой причине удостоились от монгольских предводителей главы враждебных государств: последний тангутский император Ли Сянь (1226–1227), получивший от Чингис-хана прозвище Шидургу («Честный»), и чжурчжэньский император Ай-цзун (1224–1234), которого Угэдэй прозвал «Сяосы», т. е. «Прислужник» [Козин, 1941, с. 191, 193].
17
Судьба Таргутая в монгольских источниках остается неизвестной: авторы ограничиваются лишь намеком на то, что он в конце концов погибает в борьбе с Чингис-ханом. Согласно Рашид ад-Дину, он был убит в бою Чилауном, сыном Сорган-Шира [Рашид ад-Дин, 1952б, с. 116]. Эта неопределенность вызывает некоторые сомнения по поводу истинности рассказа «Сокровенного сказания» о том, что Таргутай был отпущен своими людьми. Многословие безвестного автора этого произведения в рассмотренном эпизоде оправдания благородного поступка могло быть вызвано финалом как раз прямо противоположным: тайджиутского хана могли или убить по дороге, или благополучно доставить Тэмуджину и уже там казнить без лишнего шума.
18
Лубсан Данзан называет Бадая табунщиком, а Кишлика – просто пастухом, что указывает на их разный статус: смотреть за лошадьми было гораздо почетнее, чем за скотом.
19
Согласно персидскому историку, Чингис-хан так и не принял решения о казни Джамухи, передав его на волю своего племянника Эльджигитая, который и умертвил его несколько дней спустя [Рашид ад-Дин, 1952а, с. 191–192].
20
Подобная же процедура описана, в частности, в житии Михаила Черниговского, казненного в Золотой Орде в 1246 г.: Бату, правитель Улуса Джучи, не общается с ним напрямую, а получает его показания и объявляет собственную волю через своего «стольника Елдегу», т. е. сановника Элдегая (см. об этом подробнее: [Почекаев, 2022а, с. 174–175]).
21
О них мы можем в какой-то мере судить по высказываниям древнетюркских каганов, запечатленных руническим письмом на стелах. Для кочевых вождей не было более опасного врага, чем свой собственный народ, способный легко переметнуться к новому лидеру, в котором становились заметны признаки небесного благоволения (тюрк. кут), именуемого современными исследователями харизмой (см., например: [Кляшторный, Султанов, 2009, с. 61–63 и след.]).
22
Этот вопрос подробно рассмотрел еще И. де Рахевильц [Rachewiltz, 1966]. Один из примеров принятия Чингис-ханом цзиньского перебежчика описан Палладием [Палладий, 1877, с. 183–184].