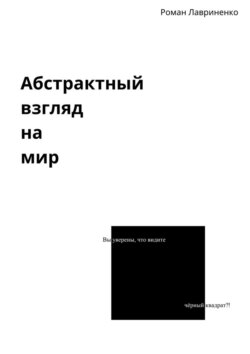Читать книгу Абстрактный взгляд на мир - Роман Юрьевич Лавриненко - Страница 3
Часть первая
ОглавлениеНачнём этот короткий трактат, пожалуй, с поверхностного взгляда на историю процесса абстрагирования, процесса отвлечения от явных свойств и связей чего-либо. И тут – ведь мы «босыми ногами» вознамерились ступить в океан, который называется «абстракция», – стоит обозначить древность не термина, но процесса абстрагирования, дабы иметь представление о его значимости для былых и современных человеческих обществ. Ясно, что термин возник после появления в человеческих обществах языка как средства для передачи информации. Но обсуждаемый процесс (воззрение) значительно древнее любого ныне мёртвого или до сегодняшнего дня добравшегося языка. Можно утверждать, что абстрактный взгляд большую часть времени существования человека находился в латентной, скрытой форме, так как любой язык – изобретение относительно молодое, до появления которого абстрактное видение могло быть обнаружено, но точно не могло быть объяснено или как-либо обозначено для былых его современников. Кроме этого, латентность его (процесса абстрагирования) ранних форм зависела, а теперь формы в отношении ранних более поздние зависят во многом от эволюции мышления, так как любой (и нестандартный также) образ толкования наблюдаемого – это производное работы головного мозга. А нестандартный образ, упомянутый выше, во многом является дедуктивным, пусть иногда не сразу явным, который требует навыков, что находятся на расположенных, очевидно, повыше эволюционных ступенях. Из написанного уже несложно заключить простой умозрительный вывод о том, что эволюционный путь абстракции той же продолжительности, что у человеческого головного мозга.
Если оперировать короткими примерами, указывающими на что-либо абстрактное (дабы образовать хотя бы поверхностное понимание сложности процесса абстрагирования для относительно примитивного раннего головного мозга), то к месту и ко времени будет вспомнить красоту как таковую, которая обозначает что-либо прекрасное в чём-то или в ком-то. Известно, что существует интерпретация этого термина (красота), достаточно прозрачная и однозначная, однако я не возьмусь использовать её как единственно верное толкование обозначенного термина. Ещё более грубой ошибкой будет построение примеров, основанных на общепринятой трактовке. Почему? Нам всем известно (минимум из личного иррационального опыта), что такое красота. Я хочу, чтобы каждый остался при своём чувственном восприятии красоты как таковой для более ясного понимания того, что изложено далее. К этому необходимо добавить, что описать красоту как таковую, используя один, два, три примера, – непозволительная глупость! Одного, двух, трёх примеров достаточно лишь для описания правил, законов, которым она подчиняется, для обозначения принципа, который она постулирует. Именно поэтому я настаиваю остаться с той красотой, к которой привык каждый из нас, ибо она (в отличие от различных примеров) является тем, что не введёт в заблуждение, вынуждая обдумывать то, что маловажно. Гораздо большую важность имеет новое отношение не только к термину, но и к эмоциям от его восприятия (термина и смысла, в нём заключённого)…
Бытует мнение о том, что красота у каждого своя. От этого заявления, если правомерны его претензии, происходит один, но не единственный, вопрос: что делает одну красоту отличной от другой? Попробуем разобраться! Что нравится, что прекрасно, что таковым обозначил наблюдатель – всё это следствие его переживаний, скрытых в событиях, важных и незначительных моментах, иной раз в таких мелочах, как, например, слова. Все эти хранители следствий, выражусь так, между тем, не самостоятельны, ведь приходятся производными от различных внешних факторов среды обитания, оказавших более раннее влияние. Красота, опирающаяся на сознательное и бессознательное восприятие, – это субъективность, которая самостоятельного начала, естественно, не имеет, а является производным от вышеуказанного. Но если различные влияния повсеместно распространены и касаются столь многого, то можно заключить о возможности личного выбора того, что прекрасно, а что нет. Можно, но даже в принятых нами решениях мало самостоятельности, так как они, опять-таки, выращены внешними воздействиями, факторами среды обитания, а те, в свою очередь, покорны иным влияниям… Получается в некотором роде круг, внутри которого всё, все и вся. Внутри которого всё, все и вся непрерывно взаимодействуют друг с другом, меняя друг друга в локальном и/или глобальном смысле. Зададимся ещё раз вопросом! Почему что-то прекрасно для кого-то, но для других таковым не является? Красота как таковая, что основана на сознательном и бессознательном восприятии, – пленник ассоциаций, которые в плену у приятных, очаровывающих, потрясающих воспоминаний. Отличие моих воспоминаний от ваших, ваших от чьих-либо позволяет называть обсуждаемый термин абстрактным. Дело в том, что именно было допущено до главного человеческого органа… до головного мозга, конечно. Дело в том, что именно головным мозгом было воспринято как возбудитель трепетных чувств, повод для позитивного эмоционального переживания. Дело в том, какие факторы среды обитания, события и действия повлияли на выбор того, чем восхищаться, а что в предметы для восторга не годится. Человек нарекает прекрасным лишь то наблюдаемое, что согласуется с его представлениями о прекрасном, а представления эти, в свою очередь, созвучны с факторами, на них влияющими. Мы видим одно, но в тоже время разное – вывод из написанного. И в очередной раз повторю, что для каждого из нас красота – понятие абстрактное, ибо каждый видит её в своей личной сути прекрасного, внимание к которой (к сути) – есть смысл абстрагирования.
Возвращаясь к возрасту абстракции, замечу, что человек, наблюдая что-то для него прекрасное, тысячи лет назад уже мог эмоционально (но не рационально) отойти от явных свойств и связей наблюдаемого, но как-либо обозначить этот процесс или его кульминацию не мог – не имел практической возможности, что зафиксировала бы опыт его головного мозга в виде доступной для многих информации, выраженной в понятной для его общества форме. То же самое происходило при столкновении с любой другой информацией явно неоднозначного характера. Она могла быть обнаружена, могла быть понята (иррационально, возможно, интуитивно), но точно не могла быть передана локально или распространена глобально.
Рассуждать о её росте до постабстрактных проявлений (что есть развитие, принудительная эволюция абстракции, о которой я позже упомяну) нет никакой надобности и толку, ибо ясно, что человек без средств коммуникации в известном смысле нем и глух. И таковым он был, к слову, чрезвычайно продолжительное время. Однако развивать что-либо можно и при отсутствии возможностей о том сказать или средствами коммуникации объединить свои усилия с кем-либо. Но будет ли такое, «немое», развитие продуктивным? Да, но, вероятно, в незначительной степени, так как язык – это, конечно, инструмент не обязательный, только совсем не лишний при попытках понимания, познания, позже – распространения знаний или их довершения, если они не завершены относительной правдой или такой же истиной. А когда речь идёт об относительно объективном понимании наблюдаемого, точнее о распространении этого относительно объективного знания, язык – инструмент необходимый, и важность его первостепенна! Иначе получится, что носитель знания – бутыль с водой жизни, обозначим его так, которая рано или поздно разобьётся, а жидкость (знание) уйдёт в землю, канет в небытие до лучших времён. И ведь долгое время было именно так.
К написанному необходимо добавить и вполне очевидное, но не менее важное. Человеческая мысленная деятельность выражена словами. Человек мыслит, используя имеющийся словарный запас того языка, которым разбавлен его быт, которым обозначены смыслы всего, что вокруг. Средства коммуникации (в данном случае слова) служат не только конвертером информации из умственных выводов в форму, выраженную звуком или, например, записанную на бумажном листе. Наличие средств коммуникации как таковых меняет сам образ восприятия, предоставляя человеку возможность именно обозначать свой эмоциональный вывод, а не пребывать в недоумении, понимая и в ту же секунду не понимая свои чувства. Рассуждая о смене образа мысли, что неминуем при появлении языка как средства информирования кого-либо о чём-либо, я имею в виду возможность движения от чувств к рациональным, средствами рефлексии их объяснениям, подразумеваю возможность движения к выведению заключений ума (качества заключений сейчас не касаемся, сейчас важен сам факт этого действия). Таким образом можно эмпирический опыт относительно объективно объяснить, тем самым продолжив его развитие, так как любой опыт всегда неоднозначен и требует постоянного дополнения, достраивания, если, конечно, мы претендуем на относительную объективность своих суждений. Объясняется эта необходимость тем, что факторы среды не статичны и потому постоянно меняются, но речь сейчас не об этом…
Вновь возвращаясь к возрасту абстракции, продолжу заключением о том, что в ходе развития, эволюции языка слова и их значения претерпевали серьёзные и незначительные изменения, тем влияя на стандартные и нестандартные смыслы всего, что вокруг. К слову, претерпевают и сейчас – такова эволюция всего, а она, как известно, останавливаться не собирается, отсюда, к слову, обозримая бесконечность эволюционного движения. Если мы говорим о передаче информации, то, и это естественно, смыслы зависят от средств – слов, которые вещают эти смыслы кому-либо. Слово – сосуд, который содержит в себе опыт. Сосуд этот с ходом времени может быть видоизменён (так уже происходило и происходит), вследствие чего наполнитель (опыт), который ранее в нём помещался, нужно разместить в другой ёмкости или, сохранив сосуд, необходимо точечно изменить своё восприятие в отношении опыта. Также и непосредственно опыт (наполнитель) может претерпеть изменения, объясняя то, чем ранее наблюдатель пренебрегал, или вовсе стать обозначением чего-нибудь другого.
Для понимания можно провести своеобразный эксперимент. Постарайтесь представить слово, лишённое какого-либо смысла (опыта). Теперь это слово отнесите к области, в которой заключены знания, например, о космосе (нашем для опыта хранилище сосудов), которые никак не могут быть статичны, исходя из относительной скудности нашей о космическом пространстве осведомлённости. Сосуд в таком случае будет постоянно изменяться, понуждая пересматривать полученный ранее опыт или его восприятие. Подобные изменения могут быть локальными – иметь отношение только к одному конкретному слову. Подобные изменения могут быть глобальными – взаимодействовать с уже сформированными объёмами знаний. Следствие: в ходе эволюции наших умений и знаний язык, которым мы пользуемся, обязан будет следовать той тропой, которой прошли знания и умения. В случае противоположном для сосуда потребуется поиск другого наполнителя (опыта), равно как и наполнителю нужна будет другая ёмкость. При этом стоит помнить, что подобные действия – это необходимый минимум, не говоря про восприятие слов и смыслов.
Теперь можно утвердить зависимость абстракции от слов и их значений. Информация о наблюдаемой или иным образом регистрируемой абстракции – производное движения от чувств к рациональным, средствами умственных заключений, их объяснениям, которые выражены языком как средством коммуникации и толкования.
И сейчас, поскольку я взялся за опыт как таковой, нужно обозначить важность его роли. Начать это обозначение, полагаю, нужно с утверждения о том, что любые произнесённые, записанные или как-то иначе выраженные нами слова – это лишь возможная интерпретация опыта. Абсолютно неважно, о чём эта информация! Обсуждаем ли мы каждую минуту, проведённую в космическом пространстве, выискивая возможные проблемы при дальнейшем покорении космоса, слушаем ли профессора физики, который делится своими знаниями в занимаемой им области, рассказываем родителям про совершённый поход в горы Германии – не важно, ибо всё это не более чем декларация опыта. Даже пресловутое сослагательное наклонение – это лишь обозначение возможных путей для развития имеющегося или желаемого, опять-таки, опыта. Однако удивляться нечему, так как предтечей для появления языка послужила необходимость (часто это был буквально вопрос жизни и смерти) одного индивида передать требуемую для выживания информацию (полученный опыт) своим соратникам или, если угодно, соплеменникам. Таким образом опыт как таковой с течением времени укреплял свою роль центрального, основного хранилища пользы, выражусь так, коим является по сей день.
Продолжу указанием на осторожность. Не всегда допустимо рассматривать имеющийся опыт как итоговую истину, иногда необходимо экспериментальным, исследовательским образом подвергнуть сомнению то, что имеет хотя бы намёк на противоречие. Зачем это нужно? Хороший вопрос! Ответ для этого вопроса прост и находится, впрочем, как и многие другие ответы, возле наших глаз. Кажется парадоксом, однако любая кем-либо заявляемая объективность субъективна, так как она кем-то декларируется, а этот кто-то ангажирован своим личным опытом, который, конечно, необязательно довлеет правильность и честность, и непредвзятость, и достаточный для выдвижения заявлений багаж знаний (если мы подразумеваем человека). Кроме этого, нужно помнить про так называемую «бритву Хэнлона», которая гласит: сначала разыскиваем ошибки, а после – злонамеренности. Ошибки, злонамеренности, как и предпочтения, успешно порождают субъективность в любой якобы объективности и, что есть следствие, требуют проверки полученного опыта. Но даже если опыт – относительно объективная правда, если ошибки и/или злонамеренности в нём нет, удастся ли ему претендовать на звание «истина»? Вероятнее всего, нет. Многие, кто собирается о чём-либо говорить как об истине, – потенциальные глупцы, которые, конечно, могут обладать правдой, однако эта правда будет удовлетворять лишь одну или несколько точек зрения, это кроме того, что к истине иметь какое-либо отношение правда не обязана вовсе. Истина, как мудрость, часто молчалива, так как, если мы подразумеваем наблюдателя, носителя опыта, абсолютно всё относительно и субъективно.
Ко всему изложенному можно добавить ещё несколько предложений и тривиальный пример, точнее, его заключение… Пример этот – сопоставление, допустим, физики и того, о чём я размышляю в этом трактате. Заключение этого примера будет таким: если физик находит противоречие, интересуясь результатами эмпирического опыта, значит, он что-то упустил или где-то ошибся. Результаты, например, моих опытов относительно главной темы этой книги обязательно будут верными, но лишь для меня и частично для людей, чьё видение схоже с моим. Отчасти поэтому нельзя эту книгу назвать для всех верным в последней инстанции документом, ведь она – частный взгляд, кроме этого, попытка понять, возможен ли радикализм как таковой, объективность как таковая и не нуждающиеся в обсуждениях верность и правильность, есть ли в мире что-нибудь абсолютно однозначное и недвусмысленное.
В очередной раз возвращаясь к обсуждению возраста процесса абстрагирования, я не могу с точностью указать, когда впервые человеческий головной мозг занялся этим и другими похожими вопросами (об процессе абстрагирования от несущественного с целью добраться до значительного). Я не могу быть уверен в том, что эти вопросы, возможно, иначе интерпретированные, занимали наших предков вообще… и далёких ли… и не изменила ли иная интерпретация ключевой, центральный смысл этих вопросов? Антропология способна предоставить нам ответы на вопросы, которые касаются многих областей развития человека, взаимодействия с природой и структуры культурных сред различных эпох. Однако нет дисциплины или совокупности дисциплин, способных предоставить ответы на менее прагматичные, менее материальные вопросы. Или это не так, быть может, я ошибаюсь, что-то упускаю? Быть может, всё, что нас интересует, располагает очевидными, кроме этого, интуитивно понятными объяснениями?!
Направляя вас к следующему тезису, предлагаю погрузиться в омут размышлений, прибегнув к относительной непредвзятости, критичности и скрупулёзности при поисках ответов для вопросов, которые несколькими строками выше. Направляя вас, дорогой читатель, далее, прошу обратить внимание на общие и частные приоритеты, нужды, возможно, ценности далёкого и не очень человеческого прошлого и, конечно, настоящего. Давайте поразмышляем о том, что могло занимать человека былого, давайте сравним его с человеком сегодняшним. Быть может, у нас не было и нет времени или возможности, или надобности обращать внимание к смыслам, что отличны от тех смыслов, которые для нас привычны, и обыденны, и утилитарны. Полезно ли это практически, был ли в этом какой-нибудь прок для людей прошлого, есть ли в этом прок для человека сегодняшнего?
Не забывая прочитанных строк, надо бы занять себя вопросом о том, что человеку сегодняшнему приносит практическую пользу? Ибо в нашем материальном мире с огромным трудом получится внимать какому-либо развитию, знанию, если не соблюдена, не учтена утилитарность, которая главный в известном смысле управитель нашего мира людей, которая, если ею не пренебрегать, позволит, разрешит человеку обратить внимание к развитию, знанию и прочему, отгородив себя от пресловутой практичности и/или нужды. Теперь же нельзя обойтись без вопроса: абстрактный взгляд на что-либо может обернуться практической пользой? Если плохой или малоподходящий для работы инструмент в руках умелого мастера, будьте уверены, прок от работы будет! Мастер управляет инструментом, а не инструмент мастером. Процесс отвлечения от явных свойств и смыслов – своеобразный инструмент или, если угодно, навык, которым управляет умелец, определяя, как применить его, и где, и для чего. Однако, применяя этот навык или, если угодно, инструмент, необходимо помнить, что он применим лишь для наблюдений, из которых мы можем заключить лишь вероятность. Факт, точность, радикализм – никогда! При этом стоит помнить о нашем знании наблюдаемого, которого (знания) может не хватить для интерпретации наблюдаемого в форму умственного заключения, с последующим выделением опыта. Отсюда следует, что при определении вероятностей нужно быть осторожным, также следует помнить о невозможности каких-либо объективно точных фактов. Это имеет смысл потому, что мир как таковой не является статичной структурой, это имеет смысл потому, что мы, наблюдатели, не можем предвидеть всё, не говоря о скудности наших знаний во многих областях, которые составляют наше бытие. Применять обозначенный выше инструмент для достижения практической выгоды, конечно, можно, однако продуктивность будет выше у человека сегодняшнего, так как человек былой вряд ли мог из чувственного, иррационального, непонятного нечто вывести практически применимый рациональный смысл. Применять обозначенный выше инструмент для достижения практической выгоды, конечно, можно, но не забывая про вполне возможные, очень вероятные ошибки. Почему так? Дело в том, что (из-за динамичности среды) мы не можем обладать полнотой знаний, которые представили бы нам подробные характеристики наблюдаемого. Именно поэтому разумно говорить только про вероятности.
Теперь давайте зададимся вопросом, что несколько отличен от помещённого выше. Абстрактный взгляд на что-либо – если он в данном случае вообще возможен – мог обернуться практической пользой для человека древнего, не имевшего возможности и заслуг называть себя человеком разумным? От этого вопроса неизбежно происходят другие вопросы, сторониться которых мы никак не можем, например, про критичность мысли и рефлексивность, ибо они во многом формируют абстрактный взгляд. Однако для пользования этими навыками обязателен язык как инструмент для формирования мысли как таковой. В противоположном случае вероятны лишь эмоциональные переживания, без возможности выделить из них практически применимый смысл, лишь практический опыт, который будет основан на интуитивности. Об этом я упомянул ранее, в размышлениях про латентность абстракции. Оставить латентную форму своего существования абстракция может, но при наличии инструмента для формирования заключений ума, которым является язык – инструмент, привычный для нас сегодняшних и незнакомый людям далёкого прошлого.
Для большей ясности необходимо придержать внимание, направленное к языку как средству для конструирования и передачи информации, как средству, что создаёт наше мышление в форме, нам понятной. Впрочем, в данном случае язык – важность значимая, но посредственная, так как именно мышление – основной возбудитель внимания в данном случае. Попробуйте вообразить процесс мысленной деятельности, не используя слов, повседневных наших пособников. Рационализма, столь необходимого для отвлечения от явных свойств и связей, надо полагать, не будет. Чистый, подвязанный эмоциями иррационализм – единственное, что станет транслировать смыслы наблюдаемого, но в понятной ли форме? Для выделения практического опыта – да! Для развития (именно развития) заключений ума – нет, конечно! И это сталось бы большой проблемой, тяжёлой трудностью, для человека былого, если он захотел бы занять себя философией и поразмышлять о многих смыслах того, что вокруг.
Но, кроме этого, имеются проблемы да трудности, что заурядны и пресловуты, что бродят за нами, отвлекая, запугивая, остерегая. Вот одна такая трудность. Вам ведь известно следующее выражение «…желая поместиться одновременно на двух стульях…»?! Слова эти обозначают поведение многих порывающихся (кроме прочих, вне данного случая, стяжателей) показаться незаурядными или, например, обзавестись весом в специфических, однако выгодных, обществах или сферах, но в то же время значительно не выделяясь на фоне скупых до размышлений умов. Только одно с другим не вяжется – вот ведь курьёз. Одна мысль, препятствуя сохранению баланса при опоре на оба стула, обязательно обратится к другой, та приведёт за собой иную думу, переплетаясь между собой, они найдут смыслы, следом родятся заключения ума, которые обязательно будут противоречить минимум двум-трём устоявшимся суждениям в отношении минимум одного из нескольких вначале избранных путей (стульев). И вот ведь печаль. Многие, сталкиваясь с противоречиями, понимают, что в «сером хитоне», наброшенном на левое плечо, им далее дороги нет, принимают необходимость совершить выбор. Многие, сталкиваясь с противоречиями, покоряясь страху перед неизвестностью или опасениям растерять имеющееся, занимают путь, который совершенно точно известно куда приведёт. Многие люди (если упомянуть современного человека), которых касается эта печаль, не смогут выделить практическую пользу из абстрактных заключений своего ума, так как не способны совладать с ордой стереотипов и тревог, которые, в свою очередь, возьмутся препятствовать тому, что мы привыкли называть критическим мышлением, необходимым инструментом, без которого от процесса абстрагирования проку сильно мало.