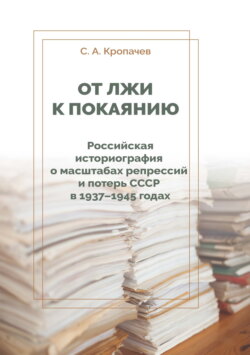Читать книгу От лжи к покаянию. Российская историография о масштабах репрессий и потерь СССР в 1937–1945 годах - С. А. Кропачев - Страница 4
1. Итоги «Большого террора» и Великой Отечественной войны
1.2. Погибшие на войне в официальной и народной памяти
ОглавлениеВажнейшее значение для оценки любой войны имеют ее результаты, ее цена. В ней, как в фокусе, сосредоточена вся война. От предпосылок, масштабов, последствий и влияния на последующее развитие страны и мира. Исходя из того, что Вторая мировая и Великая Отечественная войны занимают особое место в истории XX века, выявление истинных масштабов потерь является не только важнейшей научной, нравственной задачей, но и политической проблемой. Пока они не будут решены, историю войны нельзя считать исследованной.
После окончания Великой Отечественной войны, ее огромные жертвы тщательно скрывались. Нельзя сказать, что о них в СССР не упоминалось совсем. Некоторые Приказы и Обращения Верховного Главнокомандующего содержали «дежурную» фразу «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»[106]. Но признать реальные потери, это значит признать неэффективность сталинского руководства армией и страной в годы войны. Слава «великого полководца» во многом держалась на умолчании огромных жертв войны, мифологизации ее истории, миллионы раз повторенной нелепой мысли о советских солдатах, павших в боях, как о вкладе СССР в обеспечении победы над врагом. Непомерные жертвы войны – это великое народное горе, это преступные деяния Сталина и его окружения, но отнюдь не доблесть и слава.
Аналитически мыслящие люди о цене победы задумывались давно. 25 июня 1945 года, на другой день после Парада Победы на Красной площади известный советский режиссер А. Довженко с горечью отметил в своем дневнике, что при упоминании о погибших в «торжественной и грозной речи» Г. К. Жукова «не было ни паузы, ни траурного марша, ни молчания. Как будто бы эти миллионы жертв и героев совсем не жили. Перед великой их памятью, перед кровью и муками не встала площадь на колени, не задумалась, не вздохнула, не сняла шапки»[107]. Еще в начальный период войны Довженко писал о «тяжелой, кровавой и дорогой победе». Имея в виду низкое «качество» войны, он замечал: «Не было у нас культуры жизни – нет культуры войны»[108].
Важным итогом окончания войны является публикация поименных списков погибших и плененных. После первой мировой войны такие сведения были опубликованы[109]. При сталинском режиме не были обнародованы данные о потерях у озера Хасан, реки Халхин-Гол и в советско-финской войне 1939–1940 годов. Они появились намного позже, в годы горбачевской перестройки[110].
В марте 1946 года И. Сталин дал интервью корреспонденту «Правды» по поводу речи У. Черчилля в Фултоне. Он заявил: «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек. Иначе говоря, Советский Союз потерял людьми в несколько раз больше, чем Англия и Соединенные Штаты Америки, вместе взятые. Возможно, что кое-где склонны предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Советский Союз не может забыть о них»[111].
Сталин, мимоходом вычеркнувший не менее 20 млн советских граждан из числа погибших, о которых он не мог не знать, фактически объявил о решении этой проблемы. Но мы знаем, что она до конца не решена и сегодня. При Сталине наметились следующие линии фальсификаций, направленные на сокрытие истинных масштабов жертв войны, – преуменьшение потерь СССР и явное, без ссылок на исторические источники, преувеличение потерь противника; подмена категории «убитые», категорией «безвозвратно потерянные»; признание жертв лишь на поле боя и западнее линии фронта[112]; игнорирование таких категорий погибших, как заключенные ГУЛАГ а, представители депортированных народов, военнопленные на территории СССР и за его пределами, партизаны, подпольщики, «восточные рабочие» и другие.
При Сталине и позднее не ставился вопрос об ответственности за непомерную цену, заплаченную за победу в войне. Единственным ответственным за жертвы признавался фашистский агрессор. Не рассматривался, даже не ставился вопрос об ответственности сталинского режима за огромные жертвы в войне. И только один раз И. Сталин сделал попытку признать свои ошибки. 24 мая 1945 года на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии он поднял тост за здоровье русского народа. Сталин заявил: «У нашего правительства было не мало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города… Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии»[113]. Но и в данном случае Сталин был искренним не до конца. Он напрямую не сказал о своих собственных ошибках, не нашел мужества признать ответственность за поражения начального периода войны, а свалил все на Правительство. Это оно допустило просчеты в годы войны, а не Сталин. Последний словно дистанцировался от правительства, в которое, не смотря ни на что, терпеливый русский народ верил.
Наши солдаты погибали не только от рук врага. Уже 16 августа 1941 г. Сталин подписал Приказ № 27 °Cтавки Верховного Главного Командования Красной Армии, который механически относил всех попавших в плен к предателям Родины. Текст Приказа требовал от окруженных «сражаться до последней возможности», а если они «предпочтут сдаться… в плен – уничтожить их всеми средствами, как наземными, так и воздушными»[114]. Жестокая кара грозила и родным попавших в плен: семьи командного состава должны были подвергаться аресту, а семьи красноармейцев лишались «государственного пособия и помощи»[115]. 17 ноября 1941 года выходит Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором частям ставились задачи «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог.
Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе немедленно бросить авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и подготовленные диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами»[116]. В одной из таких диверсионных групп оказалась З. Космодемьянская, ставшая одним из символов мужества в годы войны. Во исполнение этого чудовищного Приказа были сожжены тысячи населенных пунктов, огромное количество советских людей остались без крова. Только в полосе действия 5 армии Западного фронта к 25 ноября 1941 года нашими войсками было полностью или частично сожжено и разрушено 53 населенных пункта[117].
Вот как об этой трагедии вспоминал генерал армии Н. Г. Лященко, который в конце 1941 года командовал полком: «Стояли в обороне. Перед нами виднелись два села, как сейчас помню, Банновское и Пришиб. Из дивизии пришел приказ: сжечь села в пределах досягаемости. Когда я в землянке уточнял детали, как выполнить приказ, неожиданно, нарушив всякую субординацию, вмешался пожилой боец-связист:
– Товарищ майор! Это мое село… Там жена, дети, сестра с детьми… Как же это – жечь? Погибнут ведь все!
– Ты чего не в свое дело лезешь? Разберемся, – оборвал его я.
Отправив сержанта, стали мы со своими комбатами думать, что делать. Помню, приказ я назвал “дурацким”, за что едва не поплатился, ведь приказ-то был сталинский, но спасли от особистов командующий армией Р. Я. Малиновский и член Военного Совета И. И. Ларин. А села эти мы на другое утро с разрешения командира дивизии Заморцева взяли. Обошлось без пожарища…»[118].
Еще один страшный документ, продиктованный Сталиным в начальный период войны: «Командующему Калининским фронтом. 11 января 42 г. 1 ч 50 мин. № 170007.
…В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть г. Ржев… Ставка рекомендует для этой цели использовать имеющиеся в этом районе артиллерийские, минометные, авиационные силы и громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед серьезными разрушениями города.
Получение подтвердить, исполнение донести. И. Сталин»[119].
Сталин, который несет ответственность за поражения нашей армии в начальный период войны, демонстрирует в этих и многих других документах свою волю, беспощадность, решимость, полководческую непреклонность. Он, не колеблясь, готов все спалить, «громить вовсю», разрушить, уничтожить. Возможные жертвы мирного населения его не останавливают.
106
Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. Изд. 5-е. М., 1950. С. 147, 191, 194 и др.
107
Правда. 1989. 11 сентября.
108
Там же.
109
См.: Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий мировой войны. М, 1923.
110
См., например, Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 213; Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. М., 1993. С. 125 и др.
111
Сталин И. В. Сочинения. 1946–1952. Т. 16. М., 1997. С. 27.
112
Об этом см.: Мерцалов А., Мерцалова Л. Сталинизм и война. М., 1998. С. 374–375.
113
Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. С. 196–197.
114
Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М., 1992. С. 257–258.
115
Там же.
116
Там же. С. 211.
117
Там же. С. 213–214.
118
Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина // Октябрь. 1989. № 8. С. 64.
119
Там же. С. 65.