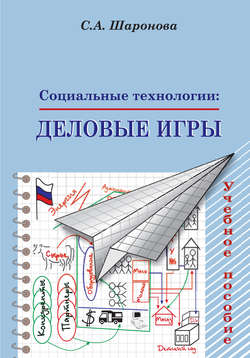Читать книгу Социальные технологии: деловые игры. Учебное пособие - С. А. Шаронова - Страница 3
Раздел I. Методологический базис игровой организации реальности
Глава 1. Социальные технологии
История формирования научного представления о социальных технологиях
ОглавлениеВ России термин «социальные технологии» активно вошел в практическое пользование с конца 1970-х гг. Основной дискурс, который затрагивает данное понятие, лежит в правомерности применения технологического подхода к управлению сознанием, в раскрытии специфики социальных технологий (по сравнению с технологиями несоциальных сфер). Поэтому объектом исследования долгое время оставалось понятие технологии, технологизации общественных отношений [1, 2, 3][1].
Само же понятие «социальные технологии» до сих пор так и не имеет четкого определения. По мнению Т.Ю. Клинух, «социальная технология характеризуется тем, что в ней может происходить не только постоянное или регулярное воспроизводство каких-либо функций, свойств, связей или отношений, но и определенная потенциальная готовность к новому, что связано с включением в технологию профессионалов, преследующих определенные цели» [4, с. 52–53]. Таким образом, технология представлена в этой дефиниции в виде постоянного или регулируемого воспроизводства функций, свойств, связей или отношений, а социальное – в виде включения в технологию профессионалов, преследующих определенные цели. Такое размытое представление объясняется тем, что социальные технологии в российской науке не выделены в самостоятельную дисциплину, они остаются обслуживающим инструментарием разных дисциплин: социального проектирования, социологии управления, социологии труда, социологии коммуникаций и т. д., т. е. везде, где есть социальные отношения и группа профессионалов, преследующая определенные цели.
Поэтому при анализе литературы, посвященной социальным технологиям, можно встретить специфические методы управления кадрами [5], функции муниципальных органов управления [6], функции СМИ [7] и т. д., представленные как социальные технологии. Другими словами, если есть процесс управления и регулирования социальными отношениями, значит, это социальные технологии.
В.Н. Иванов и В.И. Патрушев говорят о том, что «сущность социальных технологий может быть понята как инновационная система методов выявления и использования скрытых потенциалов социальной системы, получения оптимального социального результата при наименьших управленческих издержках» [3, с. 3]. Их дефиниция тяготеет к социальной инженерии, к социальному проектированию и конструированию реальности. И в этом плане они ближе к западным социологам. Но и они не выделяют социальные технологии как самостоятельную дисциплину. Они рассматривают их как соответствие разновидностям задач, что означает некую междисциплинарную универсальность понятия, поэтому они приводят обширный список технологий, включающий в себя перечень технологий, связанных с социальной организацией общества, с саморазвитием и самореализацией общества и личности, с развитием социальных институтов.
Акцентирование внимания на эффективности управления в данной версии привело к тому, что понятие «социальные технологии» практически сливается с понятием «технологии социальной деятельности», которая, по определению М. Маркова, рассматривается в двух аспектах: как система знаний об организации действительности, связанная с выполнением этапов, операций, методов, действий и т. п. по формированию общественных явлений, и как технологизация знаний в процессе деятельности, которая выражается в трудовых действиях людей, соответствующих требованиям конкретных, специфических социальных структур [8, c. 57–56]. И здесь выводом уже служит назначение социальных технологий в «создании благоприятных условий воспроизводства нового типа социальности – гуманистического коллективизма» [3, c. 88].
Вхождение в практику таких новых для российской действительности дисциплин, как пиар, реклама, маркетинг, выборные технологии, внесло некое смятение и, казалось, открыло новое поле деятельности социальных технологий. Социальные технологии стали восприниматься как типично западный продукт.
В этом кроется парадокс: имея имидж западного продукта, социальные технологии трактуются в контексте традиционных научных представлений, выработанных в России на протяжении 1960–1980-х гг.
За рубежом в 1996 г. польский социолог Адам Подгореский (A. Podgorecki) выделил социотехники как некую прикладную социальную науку, которая была неидеологизированна, но могла быть использована в целях разоблачения социально-инжиниринговых стратегий коммунистического режима [9]. С тех пор социотехники как ключевая концепция иногда используются как лейбл конкретных форм социальной интервенции (в основном в политическом контексте), а иногда как лейбл академической дисциплины, изучающей различные формы социальной практики и правительственных стратегий [10]. Сам Адам Подгореский расшифровывал понятие «социотехники» следующим образом: «Одни могут понимать «социотехнику» как прикладную социальную науку, которая может быть рассмотрена как набор методов инжиниринговых социальных акций. Это способствует концентрации социальных целей и задач и приведению их в соответствие со способами их реализации, с уточнением границ, характеризующих эффективность этих путей и представлений, при этом полагаясь на их единственное подтверждающее действие или на теоретические подтверждения выдвигаемых предложений, которые описывают и объясняют уместное социальное поведение» [11, c. 8]. Сущность социальной инженерии, по мнению Подгореского, состоит в теологической парадигме, которая предписывает последовательный порядок взаимосвязанных шагов, которые обеспечивают эффективность действия.
Концепция Подгореского о социотехниках строится на различиях, установленных Поппером [12], между утопической социальной инженерией, с одной стороны, которая направляется иллюзорным видением идеального общества и обладает пределом, выражающимся в виде катастрофических последствий; с другой стороны, это частичная социальная инженерия, которая продолжается посредством идентификации социальных зол и ответом реагирующей на них реформы.
Таким образом, социотехники были призваны выступать в роли критической дисциплины, анализирующей деятельность современной социальной политики, законодательства, СМИ, менеджмента и т. д. и в то же время производящей концепции и направляющие линии развития социальной практики. Такое видение социотехники требовало многочисленных подтверждений в самых различных социологических направлениях и теориях. В своей книге «Многомерная социология» А. Подгореский и М. Лос [13] профилируют социологию (которая ссылается на системную теорию, функционализм, структурализм, исторический материализм, критическую социологию, герменевтическую социологию, феминологию, этнометодологию и символический интеракционизм) на эклектический подход, сочетающий в себе различные вклады, привнесенные этими направлениями в социологическое знание, чтобы получить полезные решения, которые можно использовать как некий инструмент для рекомендаций, интервенций и активного вовлечения.
В 1987 г. создалась ситуация, нуждающаяся в привнесении внутрь дискуссии вокруг социотехник не только многомерного социологического знания, но и широкого круга примеров целого спектра социологических интервенций, – начиная с семейных паттернов и кончая политическими программами. Таким образом, исходя из эпистомологической перспективы, парадигма социотехник уходила от амбиции установления уникальной модели для исследования социальной практики и выдачи рекомендаций для социально поддерживающих решений. Социотехники заняли более прагматичную позицию, где проблемы и возможные решения рассматривались прочно связанными с контекстом, в котором они находились.
Введение понятия «социальная практика» не осталось бесследным, оно повлекло за собой уточнение термина «клиническая социология». Различие между клинической социологией и социологической практикой не очень четко. Термин «клиническая социология» был впервые использован в 1920-х гг. как лейбл разновидности практической медицинской социологии [14], но вскоре концепт стал использоваться вне медицинской среды, с тех пор он носит новый смысл как концепт социальной патологии. В настоящий момент он используется как лейбл социологической интервенции в социальные проблемы, конфликты и интеракции на персональном уровне: молодые правонарушители [15], жертва сексуальных домогательств [16], группы взаимопомощи [17], интеракции в семье и конфликтное посредничество [18].
Социотехники можно рассматривать как часть широкого поля социальных интервенций. Это поле захватывает три уровня интервенций: организационный, локальный и национальный.
Национальный уровень связан с проблемами правления. Это поле можно очертить термином «управляемость» (governmentality – управляемость, перевод С.Ш.). Фоколт ввел этот термин в 1978 г., чтобы обозначить новую форму правительства, отделив тем самым от традиционной формы, происхождение которой датируется XVIII столетием. Эта новая форма правительства включает в себя одновременно «продолжение понятия и переосмысление того, что и в каких пределах является компетенцией государства, а что нет» [19, c. 103]. Другими словами, управляемость имеет в виду: как люди управляемы и насколько они соглашаются быть управляемыми. Модуль управляемости состоит из комплекса специфических ответов на вопросы «что значит управлять?», «чем мы собираемся управлять?», «как мы собираемся управлять (быть управляемы)?» и «почему мы согласны быть управляемы?». Таким образом, понятие «управляемость» включает в себя ответы на эпистомологические, технические и этические вопросы. Считается, что эти вопросы принадлежат культуре, которую производят члены общества [20, c. 16]. Теоретики управляемости предполагают существование множества модулей. Современный модуль управляемости характеризуется акцентированием внимания на «ответственную и дисциплинированную автономию» [20, c. 153], на «передачу полномочий» и на интеракции среди субъектов [21].
Локальные интервенции действуют внутри локального культурного контекста в среде локальной общности. Эта своего рода рефлексирующая институция, отвечающая на все вызовы общества и времени, формирующая на базе локальных ценностей миллионы консенсусов для сотрудничества, проявляя уважение к международным контактам и сделкам. Действует эта институция с помощью профессиональных посредников, использующих в качестве базиса новые социотехники [22]. Одой из наиболее популярной является социотехника «планирующая клетка». Это форма схожа с принципами действия организационно-деятельностной игры и нацелена на поиск наиболее эффективного и правильного в данной ситуации решения. На этом этапе цель правительства – увеличить конкурентоспособность регионов на международной арене.
Организационный уровень интервенций успешно поддерживается членами группы, которых можно назвать представителями «гуру-индустрии» [23]. Реализация происходит через тренинги с менеджерами всех уровней. Стандартная процедура в «гуру-индустрии» состоит в следующем: идентификация какой-то проблемы; формулирование модели решения; нахождение некоего эмпирического материала, который в той или иной мере поддерживает модель; нахождение лейбла, легко воспринимаемого социумом, и продвижение предлагаемой модели глобально как дороги, ведущей вперед. Лозунг этого: «Быстрые и ловкие игроки начинают усваивать Модель; делайте, как я вам говорю, – и богатое вознаграждение будет вашим; игнорируйте этот лозунг – и вы найдете себя сидящими на мели».
Таким образом, социотехники представляют собой дисциплину, относящуюся к политической социологии, которая рассматривает проблемы политического вмешательства (интервенции) на всех уровнях социальных отношений, в своем анализе она опирается на многомерность теоретической социологии и социальной практики и призвана не только объяснять социальную реальность, но и давать рекомендации, способные привести к изменению существующей действительности.
Основные категории, используемые в социотехниках: утопии, мифы, легенды, ценности культуры и морали.
Поскольку социотехники всегда направлены на изучение порога изменений, они призваны в практической своей значимости к постоянному поиску нового знания (как в фундаментальном контексте в виде новых концептов, так и в прикладном – в виде новых решений). И в этом плане знание выступает как технологичный элемент управления общественным сознанием.
Основные процедуры социальной инженерии, как считает А. Подгореский [24], состоят из нескольких взаимосвязанных шагов:
1) установление иерархического порядка, учреждение четких приоритетов ценностей, свойственных способам представления и целям действия;
2) диагностика ситуаций, заслуживающих особого внимания, создающих социальные проблемы;
3) оценка ситуации и поиск ответов на необходимые вопросы: будет ли предлагаемая процедура изменения иметь приверженцев или спровоцирует конфликт с общепринятыми ценностями?
4) консалтинг теоретического банка уже существующих гипотез или вновь выдвигаемых для построения стратегии;
5) разработка плана действия, базирующегося на аккумулировании знания;
6) формальные ожидания прибыли от осуществления плана, исследование всех возможных результатов, обеспечивающих действие;
7) оценка в целом последствий процедуры.
Таким образом, ценности начинают и заканчивают методологический цикл практических социальных наук. Им же были разработаны рекомендации использования социотехник на практике.
1. Ситуации, которые не допускают рационального планирования.
Социальное планирование не следует использовать в торговых сделках в ситуациях, которые нивелируют усилия придать им облик рационального: при константных столкновениях противоречивых стратегий, в ситуациях социальной деформации или нестабильности.
2. Выработка защищающих предварительных шагов, прежде чем делать заявления конкретного решения созидательного процесса.
Разговорное употребление терминов создает собственный путь для внедрения их в научный язык. Использование такой технологии позволяет приблизить содержание разговорного термина к научному, при этом последний становится более четким. И наоборот, варианты научных терминов и их концепты пронизывают разговорный язык, но заключающийся в них контекст мог бы иным образом использоваться на практике.
В конце концов, общий язык начинает фильтровать термины, которые входят в разговорную речь определенных политических или деловых слоев, направляя действия и мышление почти бессознательно к нужным результатам. Эти окружающие стратегии при длительном движении могут быть более эффективными, чем прямые обращения к потенциальным спонсорам и политическим лидерам.
3. В программировании всеобъемлющих стратегий социального изменения исходить из экзистенционального базиса индивидуального опыта.
Чтобы не быть впутанным в ложные дискуссии, которые продолжают прыгать из одного мета-языка в другой, еще более высшего уровня, следует тестировать голословные утверждения не в искусстве упражнений в среде высокопоставленного научного сообщества, а в риске и опасности среды их собственной жизни.
4. Использование социальных ресурсов, которые создают потенциал для стратегии изменения.
Эффективному менеджменту человеческой деятельности следовало бы частично игнорировать и частично использовать острые конфликты, которые происходят между моралью и когнитивными инноваторами социального изменения. Благоразумный социальный инженер предусматривает эти конфликтные элементы в равной степени: он использует их как часть своего стратегического синтеза, где определяется точка соединения моральных усилий этических лидеров и когнитивных инноваторов тех, кто стремится превратить в капитал результаты социальных изменений, которые продвигают моралисты.
5. Использование физических ресурсов как потенциального базиса для эффективной стратегии.
Любой коллектив состоит из множества акторов, имеющих соответствующее множество возможностей внутренних мотиваций. Следует тщательно различать и умело использовать принципиальные и инструментальные мотивации. Принципиальные позиции призывают спонтанно принять определенные правила, которые уже признаны благодаря практике внутренних обязательств, а не предписанным заданным правилам. Систематическое использование инструментальных позиций ведет к разрушению доверия и конфиденциальности. Инструментальная мотивация в длительной перспективе действует эффективнее, если воспринимается как прагматичный механизм, усиливающий принципиальные позиции. Эта рекомендация ведет к обману, но она также помогает снять маску с тех, кто является манипулятором.
6. Директивы, использующие этический потенциал.
Индивидуально ориентируемые этики – это набор норм, регулирующих социальное поведение людей по отношению к другим членам малой, более или менее неформальной группе. С другой стороны, нормы социально ориентируемых этик формируются из социальных ролей и позиций, которые есть или могут быть у любого индивида. Господствующий аспект таких этик в том, что они не могут оценивать персональные качества или руководить индивидом, но их эффекты скорее в том, что благодаря им индивид может овладеть определенной позицией в социальной структуре.
7. Общая директива.
Общая директива эффективности принятия решения не основывается на логике. Она говорит: необходимо учиться, как избежать ситуации риска, и в то же время необходимо учиться, как вызывать ситуацию риска.
1. Этюды по социальной инженерии: от утопии к организации / Под ред. В.М. Розина. – М.: УРСС, 2002.
2. Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. – Кишинэу: Центральная типография, 1997.
3. Иванов В.И., Патрушев В.И. Социальные технологии. – М.: Муницип. мир, 2004.
4. Клинух Т.Ю. Социальные технологии: диалектика репродуктивной и продуктивной деятельности // Социальные технологии: вопросы теории и практики. – Ростов-н/Д., 1992.
5. Мордвинов С. Человеческий потенциал: принципы и социальные технологии инновационного анализа ситуации. – СПб.: Питер, 2004.
6. Чукреев П.А. Социальные технологии регулирования занятости молодежи. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СЩ РАН, 2000.
7. Дюк А.В. Социальные технологии работы с населением муниципальных образований. – Обнинск: Ин-т муниципального управления, 2003.
8. Марков М. Технология и эффективность социального управления. – М.: Прогресс, 1982.
9. Alexander J., Schmidt J.K.H.W. Social Engineering: Generalogy of a Concept // Social Engireening / A. Podgorecki, J. Alexander and R. Shield (eds.). – Ottawa: Carleton University Press, 1996.
10. Hogsbro K., Pruijt H., Tsobanoglou G. Sociological Practice and the Sociotechnics of Covernance // Paper presented on RC26 37-th Congress IIS «Frontiers of Sociology». July 2005. Stockholm (Sweden).
11. Podgorecki A., Schmidt J.K.H.W. Sociotechnics – the new paradigm of social sciences // NL. №. 1. 1997.
12. Popper K. The poverty of historicism. – L.: Routledge, 1979.
13. Podgorecki A., Los M. Multidimensional Sociology. – L.: Routledge, 1979.
14. Fritz J.M. The emergence of American clinical sociology // Handbook of clinical sociology / In Rebach and Bruhn (ed.). – Plenum Press, 1991.
15. Bility K.M. School violence and adolescent mental health in South Africa: Implications for school health programs //Sociological Practice. Vol. 1/4. 1999.
16. Dish E. Research as clinical practice: Creating a positive research experience for survivors of sexual abuse by professionals // Sociological Practice. Vol. 3/3. 2001.
17. Williams P. Community development’s role in cardiovascular disease prevention projects for African Americans // Sociological Practice. Vol. 2/3. 2000.
18. Fritz J.M. Teaching sociological practice Starting with something special // Sociological Practice. Vol. 4/2. 2002.
19. Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Stidies in governmentality / In G. Burchell, C. Cordon and P. Miller (eds.). – Harvester, 1991.
20. Dean M. Governmentality. – Sage, 1999.
21. Cruikshank B. The will to empower. Democratic citizens and other subjects. – Ithaca: Cornell University Press, 1999.
22. Collins D. Management Fads and Buzzwords. Critical-Practical Perspectives. – L.: Routledge, 2000.
23. Guba and Lincoln Fourth Generation Evaluation. – Sage, 1989.
24. Podgorecki, A., Knowledge and Opinion about Law. – Bristol, 1973.
25. Sociotechnics / Edited by Albert Cherns. – L.: Malaby Press Limited, 1976.
1
Здесь и везде ссылки на библиографию в конце каждой темы.