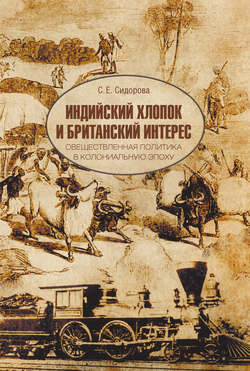Читать книгу Индийский хлопок и британский интерес. Овеществленная политика в колониальную эпоху - С. Е. Сидорова - Страница 4
Часть I
1750-е – 1803: путешественники
Глава 2
Заочная колонизация: с компасом, шагомером и секстантом по землям нагпурского раджи
Томас Мотт
ОглавлениеОт этого времени сохранились первые записи британцев о владениях нагпурских раджей. В 1766 г. Роберт Клайв отправил в земли раджи английского купца Томаса Мотта[38] на переговоры. Мотт получил инструкции изучить ситуацию при дворе Джаноджи, оценить его силы, собрать информацию о хозяйстве страны, а также выяснить, «уступит ли раджа Ориссу [британцам. – С. С.] взамен ежегодной контрибуции, что обеспечит непрерывность британских владений в Индии и укрепит их безмерно» [Мотт 1930: 2]. Сразу надо сказать, что миссия закончилась неудачно. Как раз незадолго до этого Нагпур был разорен пешвой и низамом и, как сообщил Мотту субедар Ориссы Бхавани-пандит, уполномоченный вести переговоры от имени раджи, «его хозяин вынужден был оставить любые помыслы о союзе с британцами в настоящий момент» [Там же: 29]. Такие обстоятельства изменили планы Мотта, который отказался от поездки в Нагпур и решил завершить свой путь в Самбалпуре, где находились алмазные копи и куда также предлагал Мотту заехать «нуждавшийся в средствах» генерал-губернатор и «организовать торговлю драгоценными камнями» [Там же: 1]. С этой задачей Мотт тоже не справился.
Дневник Мотта «Описание путешествия к алмазным копям в Самбалпуре в провинции Орисса» – это путешествие во времени и пространстве, в котором сменяющим друг друга календарным датам соответствуют точно зафиксированные мили преодоленного расстояния. Он покинул Калькутту 13 марта 1766 г. Нет необходимости останавливаться подробно на изложении его пути, так как он пролегал в той области, которая находится за пределами данного исследования. Ниже приведены лишь некоторые выдержки, чтобы показать, что именно его интересовало в дороге, и как он описывал увиденное.
«Я пересек реку Суварнарекха[39] 25 марта и вступил в страну Мохар Банг. Я миновал форт Омерднагар, расположенный в миле от дороги по правой стороне… рядом вырыт глубокий ров, земля из которого образует вал, на котором высажен кустарник с трехдюймовыми и острыми шипами, что делает его непреодолимым…
Баласор – большой город, в милю длиной и в полмили в его самой широкой части. Он стоит на реке Бори Беллаун, вода в ней обычно находится на уровне восьми футов и пригодна для перемещения судов в сухие доки, которых здесь много. Но весной вода поднимается выше. По реке могут ходить суда грузоподъемностью не более ста тонн, однако они не в состоянии преодолеть устье за исключением весенних месяцев… Со здания английской фактории[40] открывается прекрасный вид. С юго-запада на северо-запад лежат равнины, которые граничат на расстоянии в двенадцать миль с горами Нилгур. К югу возвышается аккуратный городок… К востоку видны изгибы реки Бори Беллаун, протекающей по местности, усеянной деревнями насколько хватает глаз… К северу располагаются невозделываемые угодья, орошаемые речной водой… 1 мая я покинул Будрак рано, пересек реку Солиунди шириной в триста ярдов, в это время года пригодную для переправы вброд. Я прошел не более четырех миль и обнаружил ручей всего в двадцать пять ярдов шириной, но такой глубокий и быстрый, что мне пришлось нанимать лодки, чтобы перебраться на другой берег. Он называется Тунда-Нулла, через него есть хороший каменный мост, но поврежденный у основания с обеих сторон стремительным потоком. 2 мая я вступил на территорию паргана[41] Даумнагар и через две мили перешел еще через один ручей по каменному мосту, давно не ремонтировавшемуся, но пригодному для провоза пушек…» [Там же: 2, 4, 10].
Основное внимание Мотта было приковано к местному ландшафту, который в его описании обрел конкретные природные и рукотворные маркеры, обладавшие определенными размерами, сориентированные по сторонам света, размещенные на точно вымеренных друг от друга расстояниях. При этом нигде в тексте не указано, каким образом он рассчитывал дистанции – пользовался ли информацией сопровождавших его слуг и местных жителей или имел при себе какие-то инструменты[42]. Упомянул он только компас. Однако из других источников известно, что в XVIII в. использовались «во-первых, инструменты для измерения дистанций – цепи и шагомеры. Далее, инструменты для измерения углов – квадранты и секстанты; компасы, угломеры и теодолиты; и, в-третьих, телескопы, созданные специально для производства астрономических работ, а также хронометры и часы для перевода времени в соответствии с долготами» [Исторические записки 1945: 198[43] ]. К слову, Джеймс Рэннел появился в Индии за три года до путешествия Мотта и лишь приступил к обследованию Бенгалии и Бихара, которое завершилось изданием в 1781 г. «Атласа Бенгалии» с масштабом 1 дюйм: 5 миль. Мотт же, по сути, создал словесную карту Ориссы или тех ее районов, где побывал. и, вернувшись в Калькутту с испещренными листами бумаги, не только «доставил» туда эту часть Индостана, но сделал ее «проходимой», знакомой, наполненной ландшафтными объектами, описанной таким образом, что давало возможность спланировать маршрут как мирных, так и военных экспедиций. Теперь стратеги из Ост-Индской компании «знали» эту местность, им было известно местоположение городов, крепостей, маратхских гарнизонов, расстояние между деревнями, колодцами, точками привалов, состояние дорог, переправ, мостов, глубина рек и высота гор. Сидя в кабинете, они «чувствовали» жару, «мокли» под муссонными дождями и открывали путь в Центральную Индию.
Маратхский воин. Путевая зарисовка из книги [Форбс 1835]
Мотта также интересовал потенциал пахотных угодий в Ориссе, условия сельскохозяйственного труда, налоговые отношения между землевладельцами и арендаторами, состояние ремесел. Он напрямую связывал запустение и бедность, царившие в посещенных им краях, с правлением маратхов, чей отрицательный образ он с особой старательностью выписывал на протяжении всего повествования. Он будто прикидывал, что можно получить с этих земель, и подспудно проводил мысль о том, что британцы были бы более рачительными хозяевами. По всему тексту рассыпаны замечания такого рода:
«…в окрестностях живет много мелких талукдаров[44], которые из-за притеснений махраттов в свою очередь угнетают арендаторов, и это стало причиной запустения страны» [Мотт 1930: 5].
«Кундеа-парра находится в трех косах[45] к юго-востоку от Куло, где я задержался на два дня, чтобы дать слугам запастись всем необходимым… так как оставшаяся часть пути пролегала через местности слабо населенные, гористые, плохо культивируемые и варварские во всех смыслах этого слова [Там же: 21].
«К северо-востоку от реки Шуру показались руины некогда большого города… нет необходимости говорить, что на протяжении всего моего путешествия, в какие бы прежде цветущие места я ни прибывал, я находил их в упадке и обезлюдевшими после истребления населения махраттами» [Там же: 8].
«Я остановился в маленькой деревне Кхассамгар… ее жители не выращивали ни бобовые, ни зерновые сорта, а только те, которые поспевали в сезон дождей. Культурами, созревающими в другие месяцы, местное население пренебрегало, так как все время жило в ожидании разорительных набегов махраттов» [Там же: 27].
Такое положение дел удивляло Мотта:
«Политика махраттов по управлению этой страной представляется очень странной для меня, сына свободы, обученного тому, что правительство учреждается для защиты каждого человека и самые отверженные и угнетенные имеют право на жалобу, которая обязана быть удовлетворена, если это не ущемляет общее благо. Люди же этой страны, наделенные от природы стоическим безразличием, которая притупляет любую чувствительность, обнаруживают в своих сердцах подлое и жалкое вероломство, оно лишает их доверия к соседям, препятствует союзу с теми, кто мог бы их защитить, подчиняют тем, кому они не в силах противостоять, а сами они в отчаянии взывают к воле бога» [Там же: 27].
На периферии авторского внимания остался ресурсный и сырьевой потенциал провинции, за исключением драгоценных камней. Слово «хлопок» упоминается в дневнике только три раза, причем в значении сырья лишь один. Например, он описывал деревню Куло, большой торговый центр, куда купцы из Берара и других районов Индии привозили хлопок и разную продукцию на буйволиных повозках, а возвращались груженые солью и европейскими товарами. С января по апрель они собирались в караваны для безопасности и преодолевали расстояние в 500–600 миль. Мотт никак не мог взять в толк, что мешало им проехать еще 120 миль, чтобы добраться до побережья. Наоборот, оттуда в Куло прибывали торговцы для совершения преимущественно бартерных сделок, денежного оборота почти не было [Там же: 22]. Гораздо чаще он упоминал другой хлопчатобумажный предмет колониального торга – муслин.
Такой избирательный интерес Мотта к сельскохозяйственной земле и ландшафту был вполне объясним. Чиновники Ост-Индской компании в этот период нуждались в средствах как для покупки колониального товара, так и для содержания армии и административного аппарата. Учитывая, что во второй половине XVIII в. у колонизаторов был небольшой ассортимент, который они могли предложить местному обществу в обмен на их продукцию, им приходилось расплачиваться за нее в основном серебром и золотом, вывоз которых из метрополии в условиях меркантилисткой политики был крайне нежелателен. Поэтому им важно было изыскать источник денег внутри колонии[46]. Получение контроля еще не столько над территорией, источником сырья и ресурсов и местом обитания платежеспособных жителей, сколько над «обложенным налогами населением» [Глушкова 2016: 208], обрабатывающим землю, открывало такие перспективы. Как пишет индийский историк Ирфан Хабиб, «в отличие от империалистов более позднего времени, сражавшихся за колониальные рынки, завоеватели доиндустриальной эпохи, имевшие в своем распоряжении весь мир в качестве рынка, охотились именно за товарами, предметами потребления» [Хабиб 2007: 300]. Кроме того, британцы, прибывшие в Индостан по морю и основавшие свои фактории на побережье, нуждались в обретении земной тверди под ногами в прямом смысле слова, чтобы беспрепятственно вести бизнес, и, главное, коммуницировать с другими английскими факториями по суше. Например, Шивбхат Сатхе, субедар Ориссы, поставленный на этот пост Рагхуджи и Джаноджи вместо Мирзы Салеха, заместителя Мир Хабиба, будучи не в силах оказывать военное давление на британцев для получения с них чаутха, использовал другие методы. В частности, он препятствовал хождению английской почты (дак) через этот регион и терроризировал гомаштов, коммерческих агентов Ост-Индской компании, ответственных за сбор готовой продукции (например, хлопчатобумажного полотна) у непосредственных производителей, складирование в накопительных центрах (аурунг) и переправку ее в фактории[47] [Коларкар 1984: 347]. В 1769 г. Джаноджи, после того, как Компания не откликнулась на его просьбу о помощи в борьбе против пешвы, не позволил британской армии пройти через Ориссу на пути из Мадраса в Бенгалию [Уиллс 1926: 32]. Поэтому чиновники и служащие Компании интересовались в подробностях, как эта суша была устроена с точки зрения ее пересечения пешком, на лошадях, буйволиных повозках или в паланкинах, с товаром или оружием, большими или малыми группами, зимой или летом.
Почти восемь месяцев Мотт был в пути. 2 ноября 1866 г. он пересек реку Суварнарекху в обратном направлении и был «рад ощутить под ногами английскую [курсив мой. – С. С.] землю» [Там же: 40].
38
В 1770-х гг. Мотт занимал пост в полицейском департаменте в Калькутте. Его имя было увековечено в названии одной из улиц Калькутты – Mott Lane.
39
Почти до конца XIX в. не существовало стандартов написания индийских топонимов на английском языке. Поэтому названия населенных пунктов и других географических объектов, упоминаемых в исторических документах, которые не удалось идентифицировать, являются русской транслитерацией английского написания.
40
Фактория – опорный пункт (в том числе помещения) для купцов, откуда они вели бизнес в иностранном государстве. Термин происходит от слова «factory», который обозначал агента (официально коммерческий резидент), нанятого главным купцом (в данном случае акционерами Ост-Индской компании) [Чаудхури 1978: 573].
41
Паргана («совокупность нескольких поселений») – административно-фискальная единица, охватывающая несколько деревень.
42
Первые исследователи Индии имели большие проблемы с инструментами. Они пользовались тем, что самим удалось привезти из Англии. Подробнее об этом см. [Исторические записки 1945: 203–206; Маркхэм 1878: 198–199].
43
Подробное описание того, как были устроены эти приборы в XVIII в., см. [Исторические записки 1945: 198–203].
44
Талукдар – землевладелец, ответственный за сбор налогов с определенного участка земли – талука.
45
Кос – мера длины, равная примерно 3–4 км.
46
Подробнее об этом см. [Хабиб 2007].
47
Подробнее о деятельности гомаштов см. [Крантон, Ананд 2007]. Сменивший в 1764 г. Сатхе Чимна Сао в целях улучшения отношений с англичанами предоставил им все возможности для почтовой службы между Бенгалией и Мадрасом [Коларкар 1984: 364].