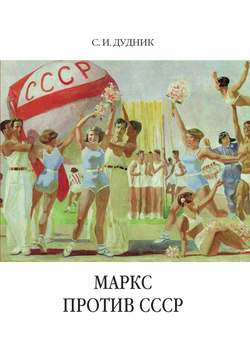Читать книгу Маркс против СССР. Критические интерпретации советского исторического опыта в неомарксизме - С. И. Дудник, Сергей Иванович Дудник - Страница 3
Глава 1. Курс на построение социализма в отдельно взятой стране
1.1. Критика справа: тезис о преждевременности русской революции
ОглавлениеСегодня русские революции начала XX века представляются весьма далекими событиями, мало связанными с современностью, о чем, казалось бы, свидетельствует среди прочего и то, что они, как и любые события древности, обросли мифами, легендами, а мемуары непосредственных участников не содержат ни одного упоминания ни об одном каком-либо факте, в отношении достоверности которого все были бы единодушны. В то же время, если судить по проклятиям в адрес революционных событий начала XX века, раздающимся с одной стороны, и по не менее гневным отповедям, звучащим в ответ с другой, то, возможно, следует сделать вывод, что эти события все еще продолжают будоражить русский дух, а значит, все еще сохраняют для него свою притягательность и свою тайну. И даже при самом поверхностном взгляде на данный вопрос нельзя не признать, что почти все историческое развитие России в XX веке находилось в непосредственной зависимости от драматических событий Октября 1917 года, которые в свою очередь были бы невозможны без революции 1905–1907 годов и без Февраля 1917 года. Более того, и сами эти ключевые события истории России XX века не были, как это иногда пытаются доказать, следствием исключительно внешнего вредоносного влияния на мнимую идиллию русской монархии. Эти революции были органичны русской истории, как органичной ей была и идея «русского коммунизма». В этих революциях как в фокусе сконцентрирован ряд характерных черт русской ментальности, «русское» отношение к собственности, «русское» отношение к труду, «русское» представление о природе власти и государства и т. д. Поэтому осмысление революций начала XX столетия в каком-то смысле является ключевой проблемой для осмысления глубинных противоречий русской истории вообще, по крайней мере нельзя понять историю России, не постигнув смысла этих революций, и, следовательно, того длительного периода русской истории, который они предопределили.
Пока на данный момент, в первые десятилетия XXI века, остается превалирующим представление, что именно эти революции и завели наше отечество в тупик. В каждом отдельном случае такое мнение, вероятно, нетрудно опровергнуть, гораздо сложнее найти причины того, почему оно столь часто воспроизводится в самых разных формах. В то же время бесспорен приоритет научно обоснованного суждения перед обыденным сознанием. И в этом отношении не может остаться незамеченным тот факт, что в постсоветские десятилетия, свободные, казалось бы, от идеологического принуждения, в отечественном общественном сознании не появилось ни одной интерпретации истории, которая хотя бы частично могла соревноваться с марксистской интерпретацией. Марксистские же интерпретации русских революций, совсем не обязательно совпадающие с догматикой «советского марксизма», основываются, как правило, на признании решающей роли революций в истории и исключают их трактовку в качестве событий, спровоцированных внешними враждебными силами.
Поэтому анализ критических интерпретаций советского исторического опыта, выдвинутых в рамках марксизма, было бы целесообразно начать с теорий, обосновывающих историческую преждевременность русских революций. Все они в конечном счете сводятся к убеждению, что Октябрьская революция как кульминация русской революции, хотя и не была бессмысленна, но стремилась, в сущности, к невозможному, стремилась достичь желаемого сразу же, одним актом, тогда как движение к любой цели обязательно предполагает прохождение через необходимые промежуточные стадии. Революция, согласно такому представлению, есть сложное, противоречивое единство скачка и постепенности, прерывности и непрерывности, и если в революционных событиях ставка делается на один момент – в случае русских революций на момент скачка, разрыва, – то историческая трагедия оказывается неизбежной. Отметим, что обоснование представлений о преждевременности русской революции предстает в виде обращения к аутентичности марксизма, к авторитету его классиков. «Как заметил Энгельс, для всякого данного класса нет большего несчастья, как получить власть в такое время, когда он, по недостаточному развитию своему, еще не способен воспользоваться ею надлежащим образом: его ожидает в этом случае жестокое поражение. Что касается нашей трудящейся массы, то ее поражение было бы тем неизбежнее, в случае захвата ею власти, что, как это всем известно, Россия переживает теперь небывалую экономическую разруху. Кто согласен с этим, – а с этим согласно огромное большинство наших организованных демократов, – тот должен наконец сделать правильный политический вывод им самим признаваемых посылок: он должен разъяснить трудящейся массе, что русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма…»[2] Данная позиция сразу же приобрела не только теоретическое значение, но стала программной для лидеров русской социал-демократии и меньшевизма.[3]
Утверждение о преждевременности русской революции основывалось на вполне правомерном представлении о том, что она является следствием целого комплекса проблем, возникших еще в XIX столетии, что она органически вытекала из всей совокупности фактов прошлого и настоящего. Особое значение из этой совокупности фактов русские марксисты единодушно отводили реформе 1861 года, которая и создала почву для революционного решения аграрного вопроса. Но между реформой 1861 года и революцией 1917 года не было жесткой механической связи, революция не была предопределена, радикальное решение вопросов, не решенных в 1861 году, было обусловлено накоплением и обострением противоречий иного плана. Перед Россией открывалась возможность и реформистского решения аграрного вопроса, и именно эту цель ставил перед собой П. А. Столыпин, но соотношение политических сил, участие России в мировой войне и иные обстоятельства не позволили эту возможность реализовать.
В то же время на формирование представлений о преждевременности русской революции оказывала серьезное влияние идея «догоняющего» или «запоздалого» развития России, которая впервые была сформулирована еще историком С. М. Соловьевым в «Публичных чтениях о Петре Великом» (1872): «Простые условия детских перегонок и конских скачек не могут быть сравниваемы с необыкновенно сложными условиями исторического развития народов. Русский народ не отстал по своему развитию от других европейских народов, а только запоздал на два века благодаря тем неблагоприятным условиям, которые окружали его со всех сторон до самого Петра. Разница двух понятий очевидная: отсталость нашего народа предполагает в нем меньшие внутренние силы, меньшую способность к развитию сравнительно с другими народами Европы, а запоздалость – только менее благоприятный исход этого развития благодаря чисто внешним влияниям».[4] Согласно Соловьеву, Россия принадлежит к христианской цивилизации, что гарантирует ей историческую общность с судьбами Европы. Однако уже ученик Соловьева В. О. Ключевский осознавал, что отставание России от Европы не имеет исключительно количественного характера, что проблема соотношения Востока и Запада гораздо сложнее, и что движение отставшей страны вслед за развитыми не может быть повторением того пути, по которому когда-то эти развитые страны шли в своей истории. «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро».[5] Примером такого «перенимания чужого наскоро» Ключевский считал преобразования Петра I и Александра II. Результаты этого ускоренного перенимания выразились в неразвитости, косности, чрезмерной бюрократизации российского государства, в фактическом отсутствии защиты гражданина через правовые механизмы, в беззаконии и произволе власть имущих, в неспособности правящего класса не только решать возникающие проблемы общественного развития, но даже и составит о них более-менее верное представление.
Очевидно, что и Соловьев и Ключевский, далекие от марксизма и даже поверхностно не знакомые с его социальной теорией, констатируют тот факт, что в конце XIX века различные страны и регионы мира развиваются неравномерно, и различия между ними не сводятся только к срокам и темпам развития, но и распространяются и на его формы, и на его характер. Неравномерность всемирно-исторического развития служила исходной предпосылкой для формирования представлений об «отсталости» России и о необходимости «догонять» передовые страны. Освоение достижений этих передовых стран, осмысление их опыта может происходить по-разному, и особенностью России в ее «догоняющем» развитии было то, что именно власть взяла на себя обязанность по мере возможного преодолеть отставание. Это привело к тому, что в России некоторые элементы экономического прогресса, некоторые стороны социально-политического строя были навязаны правящим классом, тогда как в Европе эти заимствуемые элементы вызревали постепенно в самом гражданском обществе. Элементы свободного рынка или, например, судебная система, основанная на равенстве сторон и на состязательности процесса, были в Европе органическим порождением всего процесса общественного развития, тогда как в России эти же самые элементы чисто внешним образом соседствовали с элементами феодализма и архаики. В то же время власть, выступая в глазах общественного мнения инициатором реформ, в необходимости которых мало кто сомневался, получала возможность на какое-то время укрепить свое господствующее положение. Однако в конечном счете эта «миссионерская» роль правящего класса только способствовала обострению революционных настроений в обществе. Дело в том, что стремление власти догнать передовые страны было не отражением интересов общества, а желанием одерживать победы в геополитическом соперничестве. Поэтому инициируемые властью преобразования осуществлялись в обратной последовательности: не потребности гражданского общества диктовали власти порядок преобразований, а наоборот, инициатива власти диктовала гражданскому обществу, в каком направлении оно должно меняться и какие его потребности являются приемлемыми. Понятно, что при любых реформах положение власти должно было оставаться незыблемым, и любые преобразования не должны ставить под сомнение существующий строй. Такого рода «догоняющая» модернизация не только требовала колоссальных ресурсов и затрат, но еще и порождала новые, не имевшие ранее места социальные противоречия. Фактически гражданское общество лишалось свободы выбора, так как власть присваивала себе право решать, что для общества хорошо, а что плохо.
Этими особенностями «догоняющей» модернизации был обусловлен тот факт, что в России капитализм сразу же начинается с крупной промышленности, тогда как в Европе эта крупная промышленность была итогом длительного развития. В России крупная промышленность образовалась в результате «революции сверху», как следствие реформистских инициатив правящего класса. Такое «искусственное» образование крупного промышленного капитала привело, с одной стороны, к тому, что класс предпринимателей надолго лишился политической и социальной самостоятельности, а с другой – к разрыву между промышленной и аграрной сферами. Если в Европе такие элементы нового экономического строя, как свободный рынок труда, пролетариат, мелкая промышленность, мелкая торговля, формировались на основе определенных процессов в аграрной сфере (включая и социальное расслоение, влекущее за собой появление беднейших сельских слоев на рынке труда, а более богатых – в сфере мелкой промышленности и торговли), то в России деревня оставалась отсталой и долгое время сохраняла свою архаичную социальную структуру. Эта особенность развития капитализма в России была отмечена и Марксом: «Возникновение сети железных дорог в ведущих странах капитализма поощряло и даже вынуждало государства, в которых капитализм захватывал только незначительный верхний слой общества, к внезапному созданию и расширению их капиталистической надстройки в размерах, совершенно не пропорциональных остову общественного здания, где великое дело производства продолжало осуществляться в унаследованных исстари формах. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что в этих государствах создание железных дорог ускорило социальное и политическое размежевание, подобно тому как в более передовых странах оно ускорило последнюю стадию развития, а следовательно, окончательное преобразование капиталистического производства».[6] Таким образом, развитие капитализма в России, создание крупной промышленности и возникновение сети железных дорог вело к социальному расслоению и к обострению противоречий, и вопрос заключался в том, как долго «остов общественного здания» будет в состоянии выдерживать «капиталистическую надстройку».
Ключевым противоречием общественного развития России XIX века, с точки зрения «классического» марксизма, является противоречие аграрной цивилизации, противоречие между крестьянством и землевладельцами, то есть, иными словами, вопрос о земле. Оценка этого противоречия, его роли в грядущей истории России и послужила причиной раскола между Плехановым и Лениным. Для Плеханова борьба крестьян за землю не может быть ключевым содержанием революционной борьбы пролетариата. В соответствии с логикой европейской истории антифеодальная революция совершается не пролетариатом, а буржуазией, и именно такая революция объективно необходима для России. Рабочие могут в ней участвовать, могут даже играть в ней весомую роль, но обязательно в союзе с другими классами, также заинтересованными в антифеодальных преобразованиях. Социалистическая революция, когда рабочий класс освобождает себя, освобождая при этом все общество, – это завершающий этап освободительной борьбы, до которого истории России еще далеко. Поэтому позицию Ленина Плеханов воспринимал как следствие теоретической путаницы, незнания азов марксисткой теории, как «бред сумасшедшего», стоящий в одном ряду с русской классикой на «психиатрическую» тему – «Палатой № 6» Чехова и «Записками титулярного советника А. И. Поприщина» Гоголя.[7]
Напомним, что позиция Ленина строилась на противопоставлении двух путей буржуазного аграрного развития – «прусского» и «американского». Первый путь связывался с преобразованиями, проводимыми «сверху», то есть, без учета интересов масс, тогда как второй имел революционно-демократический характер и мог привести к превращению русского крестьянина в цивилизованного фермера. Причем, если Плеханов и его единомышленники, ссылаясь на классические постулаты марксисткой теории, говорили о необходимости экономической эволюции, постепенных и «естественных» преобразований, то для Ленина тот очевидный факт, что Россия уже движется по «прусскому» пути, а возможность «американского» пути маловероятна, служил основанием для того, что он исключал возможность эволюционных преобразований и настаивал на неизбежности революции. Вопрос для Ленина заключался лишь в том, какой характер примет эта неизбежная революция – будет ли она «городской», основанной на широком демократическом союзе политических сил, выражающих заинтересованность в буржуазно-демократическом развитии России, или же она охватит революционной стихией самые широкие массы, и в таком случае крестьянство неизбежно станет, по крайней мере в количественном отношении, наиболее весомой политической силой, с которой так или иначе будут вынуждены считаться все. Первая революция 1905–1907 годов начиналась как классическая с точки зрения марксистской теории «городская революция». Политические уступки власти частично погасили ее волну, а крестьянские волнения пришлись на 1906–1907 годы, то есть на тот период, когда город включился в инициированные властью демократические процессы, участвовал в выборах в Государственную Думу. Что касается второй и третьей революций, то они проходили уже в таких условиях, когда вовлечение в революционные события самых широких масс было неизбежным. Поэтому, очевидно, неизбежной была и последовавшая за политическим переворотом под знаменем социализма гражданская война. Вынужденной мерой в условиях тотальной разрухи была политика «военного коммунизма», и Ленин, кажется, вполне отдавал себе отчет, что эта временная мера будет восприниматься многими, в том числе и потенциальными союзниками, как генеральная линия новой власти, и, следовательно, социальные противоречия неизбежно будут обостряться.
Парадоксальность данного момента нашей истории заключалась, помимо прочего, и в том, что лидер революционной партии, яростно полемизировавший с Плехановым, лидером реформизма, после окончания гражданской войны сам вступает на путь социального реформирования и политики эволюционного построения социалистических отношений в России. Модель социалистического реформизма теперь оказывается созвучной тем представлениям о постепенности и «естественности» русского социализма, которых ранее придерживались Плеханов и его единомышленники. Единственное различие между Плехановым и Лениным заключалось в предвидении той оригинальной ситуации, которая сложилась в России после Гражданской войны: власть находилась в руках пролетарской партии, но задачи, которые ей требовалось решать, имели буржуазно-демократический характер. Можно с уверенностью утверждать, что Плеханов и его единомышленники возможность возникновения такой ситуации не предвидели. Насколько ее предвидел Ленин, можно только догадываться, но по крайне мере можно допустить, что эту возможность он не исключал. Более того, история показала, что подобная ситуация может повторяться, так как в Китае времен Дэн Сяопина коммунистическая партия также решала задачи буржуазно-демократического характера. Кроме того, скепсис сторонников Плеханова в отношении социалистического реформизма большевиков можно расценить как исторически оправданный, так как «новая экономическая политика» очень скоро после смерти Ленина была свернута, а форсированная индустриализация и коллективизация закономерно обернулись невиданным усилением карательных функций государства, оправдываемым обострением классовой борьбы, бюрократизацией всей общественной жизни, то есть возвращением к пониманию социалистических преобразований как «революции сверху».
В этой перспективе вопрос о том, был ли кратковременный период «новой экономической политики» следствием верности Ленина принципам классического марксизма или же ему предшествовал мировоззренческий переворот, является второстепенным. Правящая партия оказалась не готова к решению задач, которые перед ней ставила история, и преждевременная смерть Ленина не может служить оправданием. Несколько отклоняясь в сторону, можно, хотя бы на уровне предположений, указать на некоторые причины этой неготовности. Властители умов XIX века, в той или иной форме принимавшие идею революции, настаивая на исключительности исторической судьбы России и на неприемлемости для нее западного пути развития, не переставали доказывать ограниченность и даже лживость европейских политических свобод. В результате идея демократии оказалась прочно увязанной в общественном сознании либо с чуждыми идеалами Европы, либо с опасной и разрушительной стихией охлократических тенденций, с криминальной безответственностью низов. Во всяком случае после революции в правящем классе возможность демократического развития страны, то есть такого развития, при котором учитывались бы прежде всего нужды и чаяния широких масс, вообще не обсуждалась. Правящая партия не ставила под сомнение свое право решать, что будет для народа благом, а от чего его следует оградить. Поэтому правящая партия руководствовалась в своей деятельности совершенно искаженным образом народных масс, приписывая им абстрактные социальные добродетели (коллективизм, революционность, трудолюбие, героизм и т. д.) и игнорируя реальные характеристики. Очевидно, что этот искаженный образ строился без учета того факта, что в России большинство населения составляло крестьянство, которое к тому же было прочно связано с архаическими социальными структурами и с патриархальной культурой. И хотя правящий класс рекрутировался из социальных низов, особенно после 30-х годов, его революционность удивительно легко утрачивала характер «революционности снизу» и становилась «революционностью сверху».
Представления о преждевременности революции закономерно порождали убеждение в непригодности тех политических форм, которые возникали в ходе революционных событий. Главной такой формой, по меньшей мере на уровне деклараций новой власти, объявлялись советы, которым отводилась роль политического института, способного в перспективе осуществить освобождение пролетариата. Более того, именно этот институт, в более отдаленной перспективе должен привести к постепенному уничтожению всякой государственности, и поэтому именно советы являются высшей формой политической организации, закономерно возникающей на определенной ступени общественного развития. В своем актуальном состоянии, будучи элементом политической системы послереволюционной России (СССР), советы рассматриваются как наиболее подходящая форма для диктатуры пролетариата и как форма демократии, более высокая, нежели все предшествующие буржуазно-демократические формы. Не оспаривая теоретически эти положения, следует все же заметить, что данные свойства института советов действительны лишь в том случае, если эта форма возникает там, где общественное развитие достигло определенного уровня демократии, и, наоборот, этот институт будет лишен смысла там, где этот уровень еще не достигнут. На практике форма советов, теоретически объявляемая самой «совершенной» формой демократии в рамках опыта строительства социализма в России, объявлялась пригодной для любых народов и обществ, находившихся на самых разных ступенях общественного развития. Одна и та же форма советов оказывается в равной мере пригодной и для развитых европейских народов России, и для народов Средней Азии, находящихся на стадии феодализма, и для горцев Северного Кавказа или монголов и тувинцев, сохранявших первобытно-патриархальный уклад своей жизни. Иными словами, если и допустить, что для пролетариата России советы являются наиболее подходящей формой осуществления собственной диктатуры, то утверждение, что эта же форма советов может быть оптимальной формой демократии для крестьянства Средней Азии или для скотоводов Забайкалья, не выдерживает никакой критики. Однако на практике именно форма советов объявляется универсальной государственной формой, приспособленной для решения любых задач и противоречий общественного развития. В теории различные народы на собственном опыте должны убедиться в относительном несовершенстве форм буржуазной демократии, чтобы устранить это несовершенство, используя форму советов. Но едва ли они будут способны на это, если их собственный исторический опыт не знает буржуазных форм демократии и не может, следовательно, знать, насколько они совершенны или несовершенны. И если непригодность формы советов для развития отсталых народов России была очевидна, то уместно напомнить, что и пролетариат крупных промышленных городов, если сравнивать его с пролетариатом Европы, также был в начале XX века неразвит и несамостоятелен.
Единомышленники Плеханова, критиковавшие советский строй революционной России,[8] не без оснований полагали, что практическое внедрение советов как универсальной, пригодной для всех и всегда формы демократии, вступает в противоречие с важнейшим принципом марксисткой теории – принципом самоопределения наций. «Развивающийся капитализм знает две исторические тенденции в национальном вопросе. Первая: пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против всякого национального гнета, создание национальных государств. Вторая: развитие и учащение всяческих сношений между нациями, ломка национальных перегородок, создание интернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д. Обе тенденции суть мировой закон капитализма. Первая преобладает в начале его развития, вторая характеризует зрелый и идущий к своему превращению в социалистическое общество капитализм. С обеими тенденциями считается национальная программа марксистов, отстаивая, во-первых, равноправие наций и языков, недопустимость каких бы то ни было привилегий в этом отношении (а также право наций на самоопределение…), а во-вторых, принцип интернационализма».[9] Но это право лишено смысла, если оно понимается только формально, так как смысл права на самоопределение заключается в праве выбирать собственный путь развития и выбирать те политические формы, которые будут наиболее подходящими тому этапу развития, на котором данный народ находится. Возможно, многие большевики были искренне убеждены, что они ни в коей мере не ущемляют права народов России на самоопределение, так как они предлагают этим народам самую лучшую политическую форму, к которой те все равно рано или поздно ценой собственных ошибок придут самостоятельно. Представление же о политической форме, которая сама по себе может служить средством решения любых экономических, политических, социальных проблем, не может не быть мистификацией. Поэтому и лозунг «вся власть Советам» воспринимался социал-демократией весьма настороженно, так как даже теоретически было трудно найти оптимальное сочетание советской формы с основами демократического строя, с традиционными ценностями демократии и социализма.
Таким образом в утверждении формы советов социал-демократы видели очередное подтверждение разрыва между практикой и теорией в деятельности большевиков. В теории советы должны были представлять собой политическую форму, выражающую диктатуру пролетариата и формирующуюся по мере того, как в результате обострения классовой борьбы пролетариат преодолевает высшие буржуазные формы демократии. На практике советы оказываются универсальной политической формой, пригодной для разрешения любых противоречий и на любом уровне развития. Этот разрыв между теорией и практикой не мог не проявить себя, когда на повестке дня встал вопрос о последовательном политическом воплощении формы советов.
К идее советов марксистская социальная теория шла постепенно. В основе этой идеи лежал вывод, что эпоха революций, совершаемых небольшими группами революционеров в форме заговора, осталась навсегда в прошлом. На смену этой форме революций приходит другая, предполагающая длительную подготовку восстания и неизбежное привлечение к революционным действиям широких масс. Таким образом, на смену революциям заговорщиков закономерно приходит «революция масс». Лозунг «вся власть Советам» выражает стремление обеспечить активное и сознательное участие масс в революционных событиях. Реализация этого лозунга предполагает, что при управлении производством и при решении самых разных социальных проблем различие между управляющими и управляемыми должно быть уничтожено. Форма советов представляется более высокой политической формой, чем буржуазный парламентаризм, потому что парламентский механизм, предполагающий политическое сотрудничество партий, выражающих интересы враждебных друг другу классов, будет неизбежно ограничивать самодеятельность масс и их прямое участие в управлении. «Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же рабочих и служащих, против превращения которых в бюрократов будут приняты тотчас меры, подробно разобранные Марксом и Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время; 2) плата не выше платы рабочего;
3) переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функцию контроля и надзора, чтобы все на время становились «бюрократами», и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом».[10] Советы – это форма прямой демократии, исключающая традиционное для буржуазной государственности разделение исполнительной и законодательной власти. При советской форме отпадает необходимость в институтах привилегированного меньшинства (чиновников, военачальников и т. д.), так как их функции сможет выполнять само большинство.
И именно поэтому советы в конечном счете приведут к исчезновению государства. Этапы, или различные стороны этого пути предполагают замену профессиональной полиции народной милицией; выборность чиновников любого уровня, а самое главное – их сменяемость в любое время через процедуру отзыва; рабочий контроль за процессом производства и распределения;
народный суд, предполагающий не только форму суда присяжных, но и упразднение защитников и обвинителей и решение вопроса о виновности с привлечением самой широкой аудитории; упразднение воинской обязанности и создание добровольческой армии.
Нельзя утверждать, что получившие полноту власти большевики сразу же отказались от воплощения всех этих идей в области государственного строительства. Народная милиция была создана, но очень скоро возникло убеждение, что ее деятельность без участия профессиональных полицейских, хотя бы на правах буржуазных специалистов и под контролем комиссаров, будет совершенно неэффективной. К выборности чиновников так и не удалось подойти, не говоря уже о разработке механизмов сменяемости. Рабочий контроль был учрежден и просуществовал довольно долго (до 1934 года), но над рабочим контролем был установлен партийный контроль, более эффективный (в виде избираемой съездом Центральной Контрольной Комиссии). Что касается народного суда, то уже во втором Декрете о суде восстанавливались функции защитников и обвинителей и восстанавливался только что упраздненный институт предварительного следствия. Последующее государственное строительство большевиков показывает явную тенденцию к усилению государственного централизма, к построению разветвленной бюрократической иерархии. Обнаруживается и еще одна характерная тенденция – выборные органы власти постепенно, шаг за шагом, освобождаются от любого контроля избирателей, а исполнительные органы в то же самое время точно так же постепенно освобождаются от контроля выборных органов. Синхронность этих процессов, казалось бы, свидетельствует об отсутствии бонапартистских планов властной верхушки, стремящейся сконцентрировать всю власть в своих руках, но в то же время эта же синхронность говорит о неуправляемости процессов бюрократизации, стихийно овладевших политикой государственного строительства.
Парадокс ситуации заключался в том, что идеология правящего класса не отказалась от идеи отмирания государства как от цели революционных преобразований в области государственного строительства. Но теперь выдвигается тезис, что для того, чтобы государство постепенно отмирало, необходимо не постепенное исчезновение государственных учреждений и свойственных им функций, а наоборот, рост числа этих функций и усиление институтов власти. Буржуазный парламентаризм отвергается вследствие неполноты демократии, которую он может предоставить. Но в то же самое время советы оказываются под безраздельным контролем одной-единственной партии и превращаются в простую декорацию, так как не принимают никакого участия в процессе принятия политических решений. Сама партия также превращается в государственное учреждение, наделенное правом всегда перекладывать ответственность за принимаемые решения на иные институты.
Оценка этих процессов в среде российской социал-демократии и меньшевизма не была однозначной. Постепенно складывалось убеждение, что процессы бюрократической централизации явно свидетельствуют о несоответствии большевизма требованиям революционной современности, о тенденции его превращения из политического течения в узкую группу заговорщиков. Учитывая вначале, что современная революция может быть только революцией масс, позже, уже захватив власть, большевики испугались революционной стихии и постепенно стали возвращаться к идее диктатуры меньшинства, переходить от идеи диктатуры пролетариата к диктатуре над пролетариатом. В то же время речь не идет только об узурпации власти, необходимо говорить и о том, что пролетариат России сам оказался не готов вести за собой народные массы к социализму. В таких условиях решающую роль стала играть готовность меньшинства играть роль передового революционного отряда, его способность осуществлять диктатуру над пролетариатом в интересах самого пролетариата. Но унаследованный страх перед демократией повел революционный авангард не в сторону организации самодеятельности масс, а в сторону бюрократизма и полицейского терроризма.
Следует отдать должное: такой ход событий предвидели некоторые из единомышленников Плеханова, считавшие, что большевизм был вынужден обратиться к якобинским способам решения проблем, вставших перед Россией в ходе революции. П. Аксельрод, один из членов плехановской группы «Освобождение труда», писал еще в 1903 году: «Если, как говорит Маркс по поводу Великой Французской революции, „в классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы иллюзий, необходимые для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы“, то отчего бы истории не сыграть с нами злую шутку, облачив нас в идейный костюм классически-революционной социал-демократии, чтобы скрыть от нас буржуазно-ограниченное содержание нашего движения».[11] Синонимом движения большевизма в сторону диктатуры меньшинства для социал-демократов России становится якобинство, которое единодушно рассматривается в качестве образца мелкобуржуазной теории и практики. «Термин „якобинец“ в конце концов получил два значения: первое – собственное, исторически точное значение, как название определенной партии Французской революции, которая, обладая определенной программой, ставила своей целью осуществить (определенным способом) переворот во всей жизни страны на базе определенных социальных сил и чей метод партийной и правительственной деятельности отличался исключительной энергией, решительностью и смелостью, порожденными фанатической верой в благотворность этой программы и этого метода. В политическом языке эти два аспекта якобинства раскололись, и якобинцем стали называть энергичного, решительного и фанатичного политика, который фанатически убежден в чудодейственной силе своих идей, каковы бы они ни были. В этом определении преобладали скорее разрушительные элементы, проистекавшие из ненависти к противникам и врагам, чем элементы созидания, которые проистекают из поддержки требований народных масс; скорее преобладал элемент сектантства, заговорщической узости, фракционности, необузданного индивидуализма, чем политический национальный элемент».[12]
2
Плеханов Г. В. Логика ошибки // От первого лица. М., 1992. С. 19–20.
3
Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (Новая жизнь. 1917–1918 гг.) // Несвоевременные мысли. М., 1990; Мартов Л. Что же теперь? // Новая жизнь. 1917. 16 (29) июля; Мартов Л. Наши задачи // Искра. 1917. 26 сентября; Плеханов Г. В. О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас весьма интересным // От первого лица. М., 1992. С. 44; Чернов В. M. Анархистствующий бланкизм // Дело народа. 1917. 13 июня.
4
Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984. С. 209.
5
Ключевский В. О. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 318.
6
Маркс К. – Даниельсону. 10 апреля 1879 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 291.
7
Своему комментарию к «Апрельским тезисам» Плеханов дал подчеркнуто вызывающее название: «О тезисах Ленина и о том, почему бред бывает подчас интересен».
8
См. например: Мартов Ю. Идеология советизма. Мистика советской системы // Мартов Ю. О. Мировой большевизм. Берлин, 1923. Цит. по: left.ru/2012/1/martov212.phtml
9
Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 124.
10
Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 103.
11
Аксельрод П. Искра. 1905, № 55. 15 декабря. Цит. по: Пантин И. К. Октябрьский перелом: триумф и поражение Ленина // Альтернативы. 2010. № 2. С. 31–32.
12
Грамши А. Избранные произведения в трех томах. Т. 3. Тюремные тетради. М., 1959. С. 352.