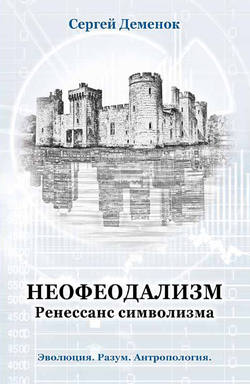Читать книгу Неофеодализм. Ренессанс символизма - С. Л. Деменок - Страница 3
Глава 1
Символический капитализм
1.2. Символизм
ОглавлениеСимвол в его исходном значении – священен. Он есть связующее звено между божественным миром и миром людей. В Древнем Египте существовала особая должность – пастофор – «хранитель священных символов». А в Древнем Китае «хранителем символов» называли самого императора.
По учению Пифагора – символ – связующее звено между мирской и божественной реальностями бытия. Наше восприятие символа зародилось в Средние века. Средневековый символ многослоен. Идейное, художественное и знаковое соединяются в символе.
Символ – это, прежде всего, знаковый код, отводящий всему свое место; во вторых это кодекс поведения, ритуалы и турниры; в третьих, – это божественное кредо, указывающее на вектор поведения.
Символизм нового времени появился в конце XIX века. В 1886 году в газете «Le Figaro» был опубликован манифест французского поэта Жана Мореаса «Le Symbolisme». В манифесте заявлено, что символ облекает идею в чувственно постижимую форму и противится ее замыканию на самой себе. Сто лет спустя философы-постмодернисты открыли, что абсолютной, вечной и трансцендентной истины не существует. Любая автономная идея, поддержанная верой, эмоцией или расчетом, может стать истиной. Реалистичная идея не просто неотличима от истины, но она и есть истина. Объективность освободилась от объекта. Объект стал активным и маневренным отражателем осматривающего его взгляда.
В интенсивном настоящем между намерением и результатом исчезает демаркационная черта. Так, в коконе, из которого вот-вот выпорхнет восхитительная бабочка, нет ни границ, ни страт, ни структур – только однородная масса. В таком волшебном состоянии теряют смысл анализ и осмысление реальности. Остается одно – с упорством на грани абсурда, с верой в успех производить свою собственную реальность.
Финансовые рынки одними из первых вошли в этот режим. Брокеры по факту оперируют вне реального сектора экономики – в сфере прогнозов, ожиданий, технических манипуляций. Средства массовой информации уже не столько фиксируют события, сколько их режиссируют; реклама не информирует, но формирует желание; политики не столько выражают идеи, сколько заражают идеями.
Истинно то, что искренне, что впечатляет, волнует и вдохновляет других.
И в этом нет ничего неожиданного. В IV веке до и. э. китайский мудрец Чжуан-цзы в притче «Рыболов» заметил:
«Истинное – высшая искренность, высшее чистосердечие. Вез искренности, без чистосердечия нельзя взволновать других».
Нет оснований избегать соблазна и обольщения. Беспристрастность не приближает к объективности. Объективной реальности всё равно, что сопутствует ее реализации – случай, эмоция, арифметический расчет или вера. Фиктивное может влиять на формирование фактического. Иллюзия, даже будучи иллюзорной, остается фактом реальности. Окончательной, трансцендентальной, совершенной истины не существует. Приходится отказаться от идеи сокрытой реальности и вместе с этим от реальности трансцендентального Бога. Приходится даже отказать Науке в ее способности открыть сокрытую истину. Отказ этот ведет к радикальному пересмотру отношений человека с окружающим миром. Отказ этот возвращает к самому раннему пониманию реальности, к тем временам, когда рациональное сознание еще не было развито настолько, чтобы подчинить себе чувственное восприятие реальности. В мифах мы находим фрагменты, которые не просто созвучны, но ясно и точно выражают новейшие взгляды. Вот, например, небольшой фрагмент из древнего мифа индейцев Колумбии, в котором творение мира называется «творением чистой видимости»:
«В начале не было ничего, кроме чистой видимости, ничего по-настоящему не существовало. Наш отец прикоснулся к призраку', к иллюзии; то, за что он взялся, было чем-то таинственным. С помощью сна наш отец, Тот-который-только-видимость, Найнема, прижал призрак к своей груди, а затем погрузился в думу. Не было даже дерева, которое могло бы поддержать этот призрак, и только своим дыханием Найнема скреплял эту иллюзию нитью своего сна. Он попытался узнать, что находится на самом дне, но не нашел ничего. ”Я скрепил то, что не существовало” – сказал он. Ничего не было. Тогда наш отец попробовал снова и исследовал дно этого ничто, и его пальцы ощупывали пустой призрак. Он привязал пустоту к нити сна и прижал к ней магическое клейкое вещество. Так с помощью сна он вцепился в дно призрака и принялся его толочь, так что в конце концов он смог опереться о землю, которая ему снилась».
В этом фрагменте нет ничего сказочного. Реальность создается и может быть создана на основе воображения. Но прежде воображаемое должно оформиться – «стать сном». Воображаемое хранится, передается и преобразуется посредством символов. К восприятию символической реальности воображаемого ближе всего подошла средневековая цивилизация. Медиевисты давно обратили внимание на средневековое имагинарное. Термин «имагинарное», конечно же, восходит к слову «imagination». Собственно сам корень этого слова «imago» означал в Средние века «образ». Не только видимый образ, но и образ речи, образ мышления, образ снов и видений.
Имагинарное имеет отношение к символам и представлениям, но только к тем из них, которые обладают «творящей силой». Имагинарное увлекает в фантастические миры. Чудесное сопутствует легендам и мифам для того, чтобы удивлять, задевать эмоцию, «отворять повсюду глаза и рты». Феи, валькирии, единороги обитают в мире кудесников, королей, рыцарей, трубадуров и труверов, жонглеров и скоморохов. Имагинарное стоит ближе всего к иллюзорному и мечтательному.
Имагинарное, отчетливо явившее себя в Средние века, Средними веками не ограничено.
История имагинарного – это история произведений, побуждающих людей к мыслям и действиям. Имагинарное неотделимо от чувственного ощущения событий и устремлений. Жак Ле Гофф в своей книге «Герои и чудеса средних веков» пишет:
«Имагинарное можно определить как систему снов общества, снов цивилизации, трансформирующих реальность во вдохновенные духовные видения».
Во все времена имагинарное было поставщиком «производящих реальность произведений». Производство имагинарных идей и образов – высокое искусство.
Талант и харизма, прозрение и вдохновение – неотъемлемые атрибуты имагинарного.
Радикальный переворот произошел в середине XX века. Техническое моделирование и проектирование, маркетинг и пропаганда поставили производство имагинарного на поток. Техника производства имагинарных моделей реальности стоит в ближайшем родстве с тем, что исходно обозначало греческое слово тгууг\. «Техне» – название ремесленного мастерства, но и высокого искусства. В «техне» эмоция, интуиция, наитие способствуют произведению нового и даже невообразимого.
Техническая манипуляция становится реальностью.
Всё фиксируется, адаптируется и ретранслируется в режиме реального времени. В «Символическом обмене и смерти» Бодрийяр приводит пример:
«Пилоты разбившегося в Ле-Бурже “Туполева” могли на своих мониторах наблюдать собственную гибель в прямом эфире».
Когда скорость рефлексий в системе достигает и даже превосходит скорость физических процессов, событие и ожидание события становятся неотличимы по своему воздействию на систему. Помните, реально то, что вызывает ответную реакцию. При таком положении дел истина становится неотличимой от ее интерпретации. Модель события (фикция) может заместить реальное событие (факт). По всему современному пространству беспрерывно запускаются пилотные проекты, разворачиваются художественные инсталляции. Повсеместно изготовляют модели, имитируют фрагменты, разыгрывают ситуации, извлекают опыт, избирают тактику воздействия на реальность. Но на этом не остановиться. Копирование, имитация, фальсификация остаются за спиной. Нас затягивает мир симуляций, которые больше не нуждаются в оригиналах. По наблюдению Бодрийяра,
«Мир симуляции, бесконечно репродуцируя эфемерные образы, в конце концов, сам научается творить вещественное».