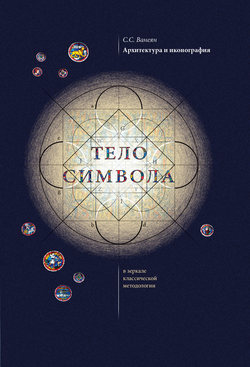Читать книгу Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии - С. С. Ванеян, Степан Ванеян - Страница 6
ВВЕДЕНИЕ:
теория,
архитектура,
методология
Проблема архитектурного смысла – проблема истории искусства
ОглавлениеТак мы приходим к кругу проблем, связанных уже не столько с самим строительным искусством, сколько с наукой, которая призвана анализировать и как раз интерпретировать, в том числе, и архитектурные памятники всеми возможными и доступными средствами. Это вопрос подходов, то есть методов, которые призваны именно найти пути приближения к памятнику и способы извлечения из него смысла. Хотя сама постановка проблемы как задачи извлечения заложенного смысла – это уже один из подходов наряду со многими иными.
На самом деле существует два способа уразумения любого явления, приближения к нему, две формы обращения с ним. Это или внешнее созерцание, то есть буквально теория, рассматривание, предполагающее, между прочим, покой, неподвижность, отстраненность и отделенность от объекта. Или движение навстречу объекту, стремление к нему, приближение или даже слияние, что предполагает и соответствующий путь (буквально – методологию). В случае с архитектурой такого рода когнитивные парадигмы приобретают дополнительную степень буквальности, так как в архитектурное сооружение на самом деле можно войти. И, собственно говоря, мера приближения, вхождения – и выхода (что не менее важно!) – вот вся проблематика архитектурного смысла.
А ведь можно представить себе архитектуру и как внутренний объект, как содержание внутреннего опыта субъекта, как нечто, что он принял в себя, допустил, впустил, сделал частью своего внутреннего пространства. Все сказанное выше вовсе не противоречит такому повороту «методологических событий». И мерой, гранью, собственно, термином и порогом подобных запутанных на первый взгляд отношений будет, вероятно, человеческое тело…
Как совместить теорию и методологию? Как согласовать и синхронизировать теорию архитектуры и теорию архитектуроведения? Или следует предположить, что теория предшествует, предваряет и предвосхищает методологию? И так ли уж они взаимосвязаны? Быть может, они приложимы к разным сферам? Не стоит ли, наоборот, развести теорию и методологию, отведя первой область собственно строительства, а методологии – область последующего комментирования? Или теория сродни критике и относится к современным явлениям в области архитектуры, а методологию стоит отнести в область истории? Обзор возможных ответов – одна из задач предлагаемого текста, хотя уже сейчас понятно почти что непреодолимое несовпадение между тем, что пишут об архитектуре философы, богословы, социологи, психологи, сами архитекторы, с одной стороны, и историки искусства – с другой.
Иными словами, насколько многообразны истоки и источники смысла в архитектуре, настолько же многочисленны и пути его последующего усвоения. Разобраться в иерархии и системе методов истории искусства, сфокусированной на проблематике в данном случае архитектуры, означает понять и весь диапазон архитектурной семантики, обогащение, расширение, видоизменение и даже трансформация которой, как выясняется, дело не только теории архитектуры, не только самих архитекторов, их заказчиков и покровителей и пользователей, но и искусствознания как такового, ученых историков и методологов. Поэтому, в принципе, методология способна обогащать и теорию.
Причем весьма важно, что как архитектура обладает своей типологией, так и история искусства располагает типологическим набором методов, подходов, функционирующих по большей части иерархически, сменяя, заменяя, но и включая, подразумевая и дополняя друг друга.
Здесь стоит специально подчеркнуть особый статус архитектуры в системе видов изобразительного искусства. Можно сказать, что ее место скорее над системой, и потому понимание того, что происходит с архитектурой, дает возможность прояснить процессы, происходящие в иных областях изобразительности.
Именно поэтому принципиально важно иметь достаточно определенную теорию архитектуры, которая позволяла бы выстраивать и соответствующие – столь же определенные – подходы. Утвердить подобную связку – или несколько связок – наиболее привлекательная и полезная задача всякого рода исследований в сфере методологии.
Показательно и замечательно при этом, что само рождение истории искусства как самостоятельной дисциплины сопровождалось интенсивными «работами» по возведению здания именно архитектурной теории, которая, впрочем, и до начала XX века насчитывала не одно и даже не десять столетий своего развития[7], начиная с того же Витрувия, в знаменитой триаде которого можно при желании обнаружить все основные направления современной науки об искусстве, в том числе и ее семантические составляющие[8].
Тем не менее именно благодаря усилиям Генриха Вельфлина[9], Августа Шмарзова[10], Пауля Франкля[11] понимание архитектурной формы (прежде всего!) достигает того концептуального уровня, который остается непреодоленным и современной теорией архитектуры, предпочитающей заново открывать то, что было известно уже на заре науки об искусстве[12]. Но существенно другое: указанные концептуальные построения принадлежат именно историкам искусства и, значит, способны питать и методологию науки об искусстве.
Именно у этих авторов мы обнаруживаем, в том числе, и попытку осмысления парадокса архитектурного значения, которое существует как дополнение к архитектурному телу, оживляя его, одушевляя его, наполняя его и окружая собственно «всей человеческой жизнью», как прямо выражается Пауль Франкль. Без этой «витализации» архитектурное сооружение превращается всего лишь в «археологическую реликвию», неживой набор фактов и свойств[13].
Другими словами, переход от архитектуры к значению фактически означает переход от архитектуры к тому, что ее и окружает, и наполняет, то есть к среде. Получается, что, представляясь чем-то значимым, осмысленным, архитектура жертвует своей предметностью, но за счет этого она становится чем-то живым, приобщая себя и нас не просто к своему функционированию, но и к тем, кто пользуется, кто принимает ее функции, отвечающие соответствующим душевным интенциям.
Но и художник тоже жертвует собой, чтобы стать своим творением, переходит в предмет, чтобы наделить его жизнью.
И не совершает ли историк искусства неизбежно обратный путь? Не изымает ли он живую жертву человечности и интенциональности из памятника, превращая его обратно в предмет, опустошая его, дабы наполнить собой? Именно в этом состоит основание и механизм формального анализа, хотя стоит учитывать, что и сама архитектура, несомненно, искушает исследователя своей осязаемо-очевидной предметностью, которой она, к счастью, не исчерпывается.
Ханс Янтцен, коллега Гуссерля и Хайдеггера по Фрайбургу, рекомендованный туда самим Ясперсом[14], первым вносит в искусствоведческий дискурс элемент феноменологической редукции, направленной против того несколько прямолинейного «вчувствующего» реализма, что характерен был для формально-стилистического взгляда на вещи, в том числе и построенные[15]. Архитектура задуманная и возведенная становится другой по ходу своего восприятия. Помысленная постройка – новая постройка, мыслить – не просто достраивать, но и отчасти перестраивать, хотя процесс истолкования способен протекать и в обратном направлении: дополнительные элементы «декора» и даже целые «этажи» по ходу восприятия и усвоения художественного творения могут выстраиваться и в голове интерпретатора, если он к тому готов (а он обязан быть готов). В целом мы анализируем целую череду феноменов: смысл историко-художественной интерпретации – в выяснении смысла художественной интерпретации, в строгом различении предмета изображения и изображенного предмета. Это достигается через учет визуального опыта, сугубо оптических эффектов, возникающих по ходу восприятия архитектуры, понятой как активная, воздействующая на зрителя экспрессивная среда. Так, идея диафании, то есть прозрачности, стены, осознанной как «оптическое основание» – или окрашенное, или затемненное, – превращается из способа структурного описания архитектуры (готической стены) в принцип толкования как такового. Янтцен не скрывает своих феноменологических пристрастий, указывая, что готическое пространство – это «символическая форма», созидаемая ради «культового события». Но диафания – это и ядро самого культового акта, потому-то само «пространство – это символ того, что от пространства свободно»[16].
Ханс Зедльмайр первым если не заметил, то, во всяком случае, отчетливо описал тот факт, что именно архитектура и ни что иное способна изображать нечто, превышающее ее, стоящее за ней и выше нее, причем изображать предметно, выступать в качестве образа, отсылающего к некой реальности большей и иной размерности[17]. Архитектуру и все, что с ней связано и повязано, следует воспринимать как всего лишь элемент целостности другого, следующего уровня, как всего лишь ступень в иерархии символов, отсылающих к «иным мирам». Иным и по отношению к творчеству художников и их истолкователей, по отношению к самому человеческому бытию, по отношению даже к внечеловеческим смыслам и мирам. Чтобы понять смысл архитектуры, нужно взглянуть не просто со стороны, а именно сквозь, глубже и выше: истолкование следует понимать как способ выхода за пределы эмпирической данности, переход границ феномена и просто его преодоление. Мир, зримый с точки зрения своего смысла, – мир прозрачный (Зедльмайр, между прочим, всячески подчеркивает свою зависимость от Янтцена). Не только готический собор[18], но и сам мир есть «диафанический» экран, не столько закрывающий, сколько прикрывающий иную реальность, отгораживающий ее от нас и, быть может, оберегающий нас от нее.
Поздний Зедльмайр (для нашей темы интересна книга о Фишере фон Эрлахе)[19] – это пусть и спиритуализированный, но все-таки только вариант того метода, который с легкой руки Панофского получил именование иконологии, представляя собой неокантианскую рационализацию «магического символизма» Аби Варбурга[20]. Рудольф Виттковер первый находит приложение постулатам Панофского в области архитектуры, обращая внимание, что в самой теории архитектуры можно обнаруживать «символические ценности», то есть отношение сознания к тем или иным фактам культуры, например к архитектуре[21]. Наконец, и сам Панофский крайне демонстративно прилагает иконологию к архитектуре – ко все той же многострадальной готике[22]. И даже саму знаменитую витрувианскую триаду можно совместить с триадой Панофского (доиконографический, иконографический, иконологический уровни) и улавливать в подобную концептуальную сеть практически любой архитектурный смысл[23].
Гюнтер Бандманн вносит крайне важное уточнение, преодолевающее несколько чрезмерный «платонизм» иконологической герменевтики[24]. Границы проходят не «снаружи», а внутри человека. Смысл в архитектуре – свидетельство активности сознания, точнее говоря – определенного типа сознания. Этих типов, по крайней мере, четыре: символический (архаический), аллегорический (античность и отчасти Средневековье), эстетический (Новое время), исторический (характерен для всех эпох, кроме, как легко догадаться, доисторических явлений). Сначала выстраивается личность, внутри нее складывается, созидается смысл, после чего строится сооружение, предназначенное для самообнаружения сознания за собственными пределами, но в пределах архитектуры, ее морфологии («формальные последствия» того или иного смысла). Внутренняя «планировка» сознания, его «выгородки» (структуры), так сказать, выносятся вовне, в том числе и в целях их преодоления (или защиты от них). Так создается мир внешний, который рискует превратиться в мир искусственный, в «мир искусства» – мир эстетизированный и, как правило, обмирщенный.
Но возможно редуцировать этот неподлинный мир, свести его к основополагающим уровням, структурам, «сферам» бытия, например к экзистенциальным переживаниям силы (власти) и конечности (смерти). Эти состояния, во-первых, символизированы ритуалами и культурной традицией, а во-вторых, что самое существенное, имеют событийную структуру и потому нуждаются в месте, которое подразумевает пространство. Первым обратил подобную экзистенциальную онтологию на архитектуру Ханс-Георг Эверс в тексте с программным названием «Смерть, власть и пространство как сферы архитектуры» (1938)[25]. Несмотря на очевидную зависимость от прежней культурно-исторической традиции, Эверс смог убедительно наполнить соответствующими темами (буквально – тематизировать) «символические формы» архитектуры, совместив их, что очень существенно, с архитектурной типологией. Тем не менее видно невооруженным взглядом, что архитектура – только повод для обсуждения и воспроизведения определенного набора историософских постулатов. На самом деле это только тематика, прилагаемая к архитектуре, а не семантика, из нее извлекаемая. Но весь подобный подход, имея изначально совсем иные теоретические корни, на удивление легко совмещается со все той же иконологической программой как реализация последней цели интерпретации: достижения уровня «сущностного смысла», понятого как «невольное и неосознанное самообнаружение базисных связей с миром»[26], что выражается, например, в таких онтологических парадигмах, как «дух, характер, происхождение, окружение и жизненная судьба»[27].
И это только начало весьма продуктивной феноменологической линии в архитектурной теории, продолжение которой – концепция «экзистенциального пространства» Христиана Норберг-Шульца[28] или герменевтика сакральной архитектуры Линдсея Джонса[29].
Нетрудно заметить, что вышеперечисленные теоретические перспективы питаются очень определенным представлением о смысле как некоторой реальности, которую можно обнаружить в известной телесной, материальной манифестации символической природы, предполагающей, по словам Панофского, именно самообнаружение иных реальностей (сакральной, мифологической, исторической, психологической, экзистенциальной и т.д.), по собственной инициативе открывающих себя человеку и миру. Каждый эйдос сам находит свой тюпос…
Или смысл возникает, порождается, а не просто манифестируется? И, быть может, не в недрах вещей или сознания, а на их стыке? Или смысл лишь передается, и анализировать стоит только процессы коммуникации? Крайне существенная сторона дела, выходящая, к сожалению, далеко за пределы наших задач, – это ответ семиотики на подобные вопросы[30].
Иными словами, феноменологизация, иконологизация, онтологизация, семиологизация и проч. – все это отдельные концептуальные стратегии, по которым может двигаться исследовательская мысль, обретая на этом пути если не истину, то правду, если не искусство, то его понимание.
Но для искусствознания как науки крайне важно иметь в виду и то, что некоторые методы, которыми она пользуется по праву и практически по умолчанию, возникли еще до того момента, когда история искусства обрела статус самостоятельной науки. Это и не формализм, и не иконология, не структурализм, а методы, используемые наукой об искусстве, так сказать, бессознательно по той причине, что они составляют фундамент исторического познания искусства, во-первых, и не претендуют, как может показаться, на что-то большее, чем сбор прямых и простых фактов.
Эти методы сложились по большей части в такой дисциплине, ставшей вполне почтенной в XIX веке, как собственно история, для которой искусство служило всего лишь одним из источников исторического знания.
Действительно, изображения – вполне полезный и доступный ресурс; в них, например, могут воспроизводиться какие-либо исторические реалии (от предметов до событий), иллюстрироваться какие-либо идеи или даже тексты. С последними, то есть с письменными, источниками, искусство не могло тягаться никак, но играть свою важную, хотя и вспомогательную роль, ему было вполне по силам. Подобный источниковедческий подход к изобразительному искусству был и остается типичным для историзма как метода и мировоззрения, находя себе выражение и в такой, в том числе, дисциплине, как иконография, которая стала самостоятельной только вместе с самим искусствознанием и обрела дополнительное измерение и, так сказать, второе дыхание, будучи поставлена все тем же Панофским в иерархическую связь с другими методами (формальным и иконологическим).
Иногда кажется, что иконографию можно даже отождествить с иконологией (позиция позднего Панофского и его верного ученика Яна Бялостоцкого[31]), но неизбывный источниковедческий пафос иконографии всегда отделяет ее от любой герменевтики, оставаясь не просто полезной и удобной установкой, но и неизбежным инструментом накопления материала для всех последующих построений в области истории искусства.
От этого «позитивного» фундамента невозможно просто так избавиться, и потому, быть может, его стоит обследовать чуть подробнее, дабы знать, на чем приходится возводить основное здание (или несколько зданий). Но напомним, что речь идет о не совсем простом варианте источниковедческого объективизма – об иконографии, которая все-таки включилась в свое время (не без опоздания) в процесс «эмансипации» науки об искусстве, не забывая о своем позитивистском прошлом[32].
7
Kruft, Hanno-Walter. Geschichte der Architekturtheorie [1985]. München, 2004.
8
Речь идет, несомненно, о категории decor, предполагающей, в том числе, и правильное употребление ордера, что «выходит за пределы эстетики и указывает на смысловые составляющие архитектуры, на архитектурную иконологию» (Kruft. Op. cit. S. 27). Учитывая, в свою очередь, антропометрический характер архитектурных пропорций («проявление свойств, присущих человеческому телу», Op. cit. S. 29), можно сказать, что архитектурный смысл в таком случае – тоже производная от человеческой природы. И это дополнительный аргумент в пользу антропологичности и семантического анализа как такового: анализируя смысл, мы анализируем человека.
9
Wölfin, Heinrich. Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur [1886]. Basel, 1946. Berlin, 1999.
10
Schmarsow, August. Grundbegrife der Kunstwissenschaf am Übergang vom Altertum zum Mittelalter [1902]. Berlin, 1998.
11
Frankl, Paul. Principles of Architectural History: Te Four Phases of Architectural Style, 1420-1900 [1914]. Cambridge (Mas.). 1968.
12
И о заре, и о последующем восходе искусствоведческого, преимущественно немецкоязычного, солнца, в частности, см.: Podro, Michael. Te Critical Historians of Art. New Haven a. London, 1982.
13
Ibid. P. 146.
14
Обмен мнениями о Янтцене в связи с возможностью его назначения на профессорскую должность в Гейдельберге см.: Хайдеггер – Ясперс. Переписка. М., 2001. С. 178-181, 185. Сам Янтцен способствовал, между прочим, назначению Хайдеггера во Фрайбург.
15
Работы Янтцена собраны в сборнике: Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze. Berlin, 1951, 2000. Впрочем, принято считать, что предтеча феноменологии в немецкой науке об искусстве – это все-таки Шмарзов.
16
Jantzen, Hanz. Über den gotischen Kirchenraum und andere Aufsätze. Berlin, 2000. S. 32-33. Идеи Янтцена требуют уточнения. Главное в его концепции – представление о том, что диафания – это именно оптический эффект, получаемый благодаря взаимодействию «пластически-фигурной стены» и пространственного фона, который или сильно затемнен (боковой неф), или ярко, ослепляющее окрашен (витраж). Нетрудно догадаться, что перед нами известный гештальтный принцип зрительного восприятия (фигура/фон), перенесенный на архитектуру. Этот принцип действует повсюду. Он самый фундаментальный. Новшество Янтцена – в признании в качестве фона самого пространства, которое, впрочем, лишено своих основополагающих признаков – доступности и глубинности – и потому может рассматриваться как все та же плоскость, как отсутствие глубины (см. идею «беспространственного», свободного от пространства диафанического «ядра культовых процессов»: «пространства как символа беспространственного», присущего сакральному зодчеству как таковому). Но на концептуальном уровне, дополняющем уровень перцептуальный, фигура/фон – это те же форма/содержание, схема/тема.
17
В ранних архитектуроведческих работах Зедльмайра, и особенно в работе о Борромини (см.: Sedlmayr, Hans. Die Architektur Borrominis. Berlin, 1930; фрагменты в русск. пер. – История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935. С. 298-338), присутствуют самые разнообразные психологические концепции, в том числе и кречмеровская идея «психэстетической пропорции», то есть соотношения мышления (его динамики прежде всего) и уровня чувствительности индивидуума, его восприимчивости к внешним впечатлениям.
18
Sedlmayr, Hans. Die Entstehung der Kathedrale. München, 1951. Знаменитую и далеко не всеми понятую идею балдахина можно истолковать как специфическую герменевтическую позицию, предполагающую наличие в соборе даже на пространственном уровне особой структуры богоприсутствия и богообщения, когда само устройство сакральной среды наглядно являет трансценденцию как непосредственный психэстетический опыт (или «эстезиологический», говоря словами экзистенциальной антропологии). Таким же способом следует понимать и зедльмайровскую идею собора как «отображения», отпечатка, проекции Неба. Об «эдикуле» как аналогии «балдахина» см. остроумные наблюдения Дж. Саммерсона: Summerson, John. Heavenly Mansions and other Essays on Architecture. New York, 1963. P. 1-28. Эдикула – это форма защищенности, укрытости и одновременно непосредственности и приобщенности. Понятно, что происхождение ее – из мира детства, как индивидуального, так и коллективного.
19
Sedlmayr, Hans. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Wien – München, 1956. Мы находим в этой, казалось бы, чисто монографической (но в духе фон Шлоссера!) книге своеобразную «проективную методологию», предполагающую самоидентификацию с предметом внимания и изучения, «почти мистическое единство» с ним, по словам самого Зедльмайра (см., в частности: Зедльмайр Ханс. Искусство и истина. М., 1999. С. 296-297, где говорится, в том числе, и о специфическом, обращенном на историю архитектуры «утопизме» мышления и фон Эрлаха, и его исследователя).
20
Этой проблеме посвящен отдельный сборник: Cassirer, Panofsky, and Warburg: Symbol, Art and History. New Haven, 1989.
21
Wittkower, R. Architectural Principles in the Age of Humanism. London, 1949. Уже в самом начале автор напоминает, что всякая архитектура опирается на иерархию ценностей, вершина которой – «абсолютные ценности сакральной архитектуры» (P. 1), так что невозможно говорить о «чистой форме», не «заряженной значением». Отсюда и программа книги – исследование именно символически значимой церковной архитектуры, вбирающей и кумулирующей в себе и объективные, и субъективные аспекты, измерения смысла и потому позволяющей судить, в том числе, и о «художнической интенции» ( P. 2-3).
22
Panofsky, Erwin. Gothic Architecture and Scholasticism. An Inquiry into the Analogy of the Arts, Philisophy and Religion in the Middle Ages. New York, 1951. Уже в подзаголовке присутствующая «аналогия» есть проявление структурного изоморфизма – одного из главных постулатов гештальт-теории. Напомним, что у Панофского гештальтно едиными и, соответственно, эквивалентными предстают два дискурса – философско-богословский и строительный, хотя, как нетрудно выяснить, за архитектурой у Панофского скрывается преимущественно проектная деятельность, то есть замысел, отчасти зафиксированный графически, иначе говоря, на плоскости и дискретно-линейно, что, собственно, и облегчает всякого рода аналогии, превращая их в общность когнитивно-языковых явлений, и не более того. В виде диаграммы можно представить практически все – и схоластический силлогизм, и готическую травею. Обогащение иконологического «логоцентризма» – концепция Отто фон Симсона, для которого в готическом соборе существен именно сплав непосредственно мистически-наглядного опыта с характерным планиметрическим геометризмом. Собор – это плоскостное, почти что графическое обозначение, отражение визионерского опыта, поэтому чертеж-проект можно рассматривать как «проекцию», имея в виду сакральную планиметрию – «структурно-невидимый», ментальный исток материального развертывания сакрального пространства, проект-проекцию движения, устремления или покоя-пребывания. Другими словами, известная мистика света дополняется мистикой числа, тем специфическим неопифагорейским нумерологическим рационализмом, точнее говоря, интеллектуализмом, который можно обнаружить вслед опять же за Зедльмайром и в «шизотимическом» творчестве Борромини (Die Architektur Borromini’s…).
23
Prak, Niels Luning. Te Language of Architecture. A Contribution to Architectural Teory. Te Hague, 1968 (русск. пер. Е.А. Ванеян – М., 2009). Ср.: «эстетическая оценка касается, прежде всего, значения форм, а не их композиции. Это значение может быть постепенно ассоциировано с рассматриваемыми формами или изначально входить в сознательное намерение; оно может быть различным для архитектора, для наблюдателя-современника и для позднейшего зрителя» (Idem. P. 5). И далее: «Символический способ оценки является эвристическим <…>» (Idem. P. 6).
24
Ср. его очень характерное рассуждение: «Когда говорят, что произведение искусства имеет значение, то тем самым указывают на выход за пределы материальной и формальной организации художественного творения, на помещение его в смысловой контекст более высокого порядка. Если произведение искусства понимается как сравнение, как замещение, как вещественная эманация чего-то другого, то тогда сфера произведения остается за спиной. Подобное указание-ссылка налицо в том случае, когда произведение искусства или что-то воспроизводит, или что-то передает» (Bandmann, G. Mittelalterliche Architektur als Bedeudetungsträger. Berlin, [1951], 1979. S. 11).
25
Evers, Hans Gerhard. Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur [1938]. Paderborn, 1970.
26
Эти формулировки относятся еще к немецкому периоду творчества Панофского и взяты из его статьи: «Imago Pietatis». Ein Beitrag zur Typengeschichte des «Schmerzenmannes» und der «Maria Mediatrix» // Festschrif für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstag. Leipzig, 1927. Цит. по: Lützeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf: systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. Freiburg i. Br., 1975. Bd. 2. S. 972.
27
Ibid. S.1014.
28
См., например, наиболее популярный текст: Norberg-Schulz, Christian. Intentions in Architecture. Cambridge (Mas.), 1966.
29
Jones, Lindsay. Te Hermeneutics of Sacred Architecture: Experience. V. 1: Interpretation, Comparison: Monumental Occasions, Refections on the Eventfulness of Religious Architecture; V. 2: Experience, Interpretation, Comparison: Hermeneutical Calisthenics, a Morphology of Ritual-architectural Priorities. Harvard, 2000.
30
См. наиболее показательные образцы семиотики архитектуры: Preziosi, Donald. Architecture, Language and Meaning: Te Origins of the Built World and Its Semiotic Organization. Te Hague – Paris – London. 1979; Bonta, Juan. Architecture and Its Interpretation: a Study of Expressive Systems in Architecture. London, 1979. У Бонты см. довольно незамысловатое различение иконографии и иконологии по характеру литературных источников: или прямых, или дополнительных (Op. cit. P. 77).
31
Białostocki J. Iconography // Dictionary of the History of Ideas. New York, 1973. Vol. II. P. 524-541; Idem. Iconography and Iconology // Encyclopedia of World Art. New York, 1963. Vol. VII. Col. 369-385.
32
Дж. Аккерманн прямо указывает, что «сведение формы и значения к их истокам» – отличительная черта «позитивистской интерпретации», к которой он относит, впрочем, не только марксизм, но и идеализм (того же Канта), оперируя при этом с легкой совестью все теми же концептами объекта и субъекта (Ackerman, James S. Distance Points: Studies in Teory and Renaissance Art and Architecture. Cambridge (Mas.), 1994. P.37).