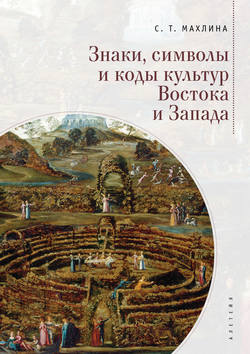Читать книгу Знаки, символы и коды культур Востока и Запада - С. Т. Махлина - Страница 5
Семиотика культуры
Знаковость вещей
Оглавление(Опубликовано: «Креативная экономика и социальные инновации», № 2 (7), 2014. Вып. 4)
Нас окружает в жизни множество вещей. Каждая из них – ценность, в которую мы вкладываем огромное количество смыслов. Уже в древней Месопотамии вещи, составлявшие богатство человека, высоко ценились. В «Поучениях Шуруппака» отец наставляет сына:
С хорошо устроенным имуществом.
Сынок, ничего не сравнится
(Цит. по: Клочков, 1983: 148).
Как писал И.С. Клочков, человека и вещи «связывали, можно сказать, личностные отношения» (Клочков, 1983: 7 (курсив И.С. Клочкова)). И в дальнейшем мы видим такую же привязанность к вещам. Так, в эпоху Средневековья вещи воплощали качества их обладателей. Они имели собственную душу, имя, судьбу, жизнь. «Вещи вообще могли воплощать качества их обладателей». (Гуревич, 1972: 7). Однако при этом одни и те же вещи могли менять свою статусность. Так, когда в бронзовом веке освоили литье легкоплавких металлов, ценились золото и серебро или электр (сплав из них). Однако, когда было освоено литье тугоплавких металлов, железо их заменило. Когда было открыто производство алюминия, ложечки из этого, тогда дорого металла, были сервированы для именитых гостей на приеме французского короля, несмотря на их непрезентабельный вид. Однако впоследствии, когда был найден дешевый способ производства, вилки и ложки из него стали распространенными в общепите (многие помнят их вид и неприятный запах).
История культуры показывает, что, несмотря на возрастание количества вещей, они продолжали оставаться важной характеристикой человека. В еврейском народном фольклоре есть такая притча. Народный герой, как всегда народный герой – бедный, плохо одетый, явился на богатую свадьбу. Естественно, увидев оборванца, его тут же выгнали. Тогда он достал себе одежду богатого вельможи. И теперь уже в таком виде явился все на ту же свадьбу. Вот теперь его посадили во главе стола, воздавая разного рода почести. А он стал класть еду и лить вино на одежду, приговаривая:
– Ешь, мой костюм, пей, мой халат.
– Что же вы делаете, господин? – вопрошали окружавшие его люди. На что он отвечал: «Но ведь в моей одежде вы меня не пустили. Значит, пустили не меня, а ту одежду, в которую я переоделся. Вот я ее и потчую».
Притча эта хорошо корреспондирует с русской пословицей «По одежке встречают, по уму провожают». Одежда всегда была знаковым элементом, характеризующим человека.
Уже в Древнем Египте фараон носил урей и клафт как знак его связи с богами, а схенти у него и его приближенных был из тонкой ткани, часто плиссированный, длиннее, чем у простого земледельца, а у раба вообще представлял собой кожаную повязку. В античности одежда также была знаковой для разных сословий. И продолжалась знаковость одежды и в Средние века, и в эпоху Возрождения и в Новое и Новейшее время. До сих пор одежда – определенный знак, показывающий, как человек себя репрезентирует. Сегодня у уважающего себя бизнесмена должны быть «пиджаки и от Кардена, и от Босса, и от Гуччи. Таковы опознавательные знаки системы…» (Рой О., 2013: 111). В 2011 и 2012 году на канале «Культура» демонстрировались телепередачи «Мост над бездной» Паолы Дмитриевны Волковой. В память о ней в марте 2014 года они повторялись. Каждую программу Паола Дмитриевна вела в костюме, соответствовавшем теме: аксессуары – кольца, браслеты, колье подчеркивали тонкость, чуткость художественного восприятия, глубину, эрудицию и изысканность ведущей.
Вещь – феномен культуры, который, благодаря своей способности аккумулировать в себе традиции, социально-психологические установки, эстетические запросы, приобретает аксиологическое звучание. В период становления национальных культур в первую очередь появляется нечто неповторимое, индивидуальное. На сегодняшнем этапе ясно видны тенденции сближения национальных культур. Диалог культур ощутим на каждом шагу. Важно, что вещи отражают образ жизни, который становится во всех странах похожим. Если раньше совершенно по-разному осмыслялась форма предметов в западной и восточной культурах, то в настоящее время между Западом и Востоком во многом начинают стираться различия. Раздаются даже предложения выделить науку о вещах – реалогию. В любой вещи, как бы ни было подчеркнуто ее назначение, наряду с ее практической функцией есть и иная, аксиологическая, отражающая отношение материально-предметного бытия к духовным запросам человека.
Г.В. Плеханов показал, что вещь может быть ценной, если только она символизирует значимые общественные отношения. Это обстоятельство позволяет выявить еще одну важную характеристику вещи в системе культуры: с древности она начинает служить в качестве знака, символа социального положения человека.
Однако в истории значение вещи меняется. Если в древности – вещь – выражение сущности человека, то уже в XX веке вещь – средство утвердить свое преимущество перед другими, но сама вещь при этом ничего не значит. Как писал И.С. Клочков, «между человеком и вещью, по существу, нет подлинной связи. Действительно, человек общества потребления стремится к вещам и высоко ценит их, но ценит как обеспечивающие комфорт средства или как знаки социального престижа. Настоящую привязанность к той или иной вещи он испытывает редко» (Клочков, 1983: 7). В 60-е гг. ХХ в. вещь становится подлинным воспитателем чувств, мерой значимости человека. Человек превращается в «вожделенный глаз», жадно вбирающий блага цивилизации, в ненасытного Потребителя. Эта мысль получила отражение в таких романах, как «Вещи. Одна из историй шестидесятых годов» Ж. Перека, «Игрушки» и «Печальные похождения мойщика витрин» Ж. Мишеля, «Прелестные картинки» С. де Бовуар, «Внуки века» К. Рошфор, «Нейлоновый век» Э. Триоле и др. Во многих романах показывается, как люди приобретают вещи, отнюдь не используя их. При этом они с удовольствием посещают магазины, закупая груды вещей и забивая ими свое жилище. Неслучайно, после смерти Энди Уорхола было обнаружено огромное количество прекрасных вещей, которыми он отнюдь не собирался пользоваться, хотя это и были предметы, которые приобретаются именно для непосредственного употребления – например, флаконы с дорогими духами.
Приблизительно в эти же годы обозначенные в книгах явления наблюдаются и в СССР. Показателен рассказ Екатерины Максимовой и Владимира Васильева, как на заре своих зарубежных гастролей они были приняты американским магнатом. Он повез их на свой остров в машине, вызывавшей восторг: там всюду были кнопки, с помощью которых можно было наблюдать диковинные для советского человека того времени превращения. В своем замке он показал им огромный подвал с напитками и подарил им две бутылки 200-летней давности. Они были покрыты паутиной, которую Екатерина принялась тут же счищать. Магнат остановил ее. Это был знак их высокой стоимости – много выше бриллиантов. Когда они вернулись домой, они получили квартиру, в которую в первую очередь купили весьма дефицитный по тем временам румынский сервант. В него-то и поставили диковинные привезенные бутылки. По случаю новоселья были приглашены гости. Наутро драгоценные бутылки были опустошены, но никто не запомнил, каков же был вкус их содержимого. При советской власти, когда большинство жило в коммунальных квартирах, вещей было не так много. Как правило, все нужно было «доставать». И чаще всего доступны были изделия из хрусталя, которые загружали в вожделенный сервант. Это была престижная выставка достатка данного интерьера. Но в то время «вещизм» порицался во всех средствах массовой информации. Впрочем, отказ от обилия вещей был характерен и на Западе. Характерен роман Элиаса Канетти, где герой, профессор, подбирает себе квартиру на последнем этаже для того, чтобы по все стенам, закрывая окна, поставить стеллажи для книг. Окно же для света он пробивает на крыше. Внутри же стоит только стол и кровать. Надо понимать, что не все советские люди были столь ущербны во вкусах. Многие представители интеллигенции старались назло окружающей обстановке, сделать свой дом изысканным и изящным. Особенно это было характерно для артистической среды. Известно по воспоминаниям современников, такой прекрасный интерьер был характерен для дома Марии Бабановой, где мебель была стильной, классицистической. Ей соответствовали посуда и приборы. И не беда, что на прекрасных тарелках могла подаваться обычная картошка в мундире.
Совсем иные представления стали характерны для периода после перестройки. Теперь многие получили доступ к частной собственности. Увы, многие были не подготовлены к обладанию большими средствами ни образованием, ни эстетическим воспитанием. В описании Оксаной Робски такого гламурного дома нуворишей не нашлось места ни для библиотеки, ни для места дл интеллектуальной деятельности (Робски, 2006). А как же? Зачем нужны книги, если есть Интернет? А работать надо не дома, а на работе. Дома надо отдыхать. В 90-е годы XX века многие стали приобретать квартиры и устраивать интерьеры соответственно мексиканскому сериалу, который транслировался тогда по телевидению и многие прилипли к нему. Поэтому новые квартиры того времени устраивали с обязательной аркой Санта Барбара, которая воспринималась как знак евроремонта. Многие художники зарабатывали при этом, так как у новых нуворишей не было подготовки к созданию индивидуального интерьера. Один из наших друзей как раз и зарабатывал таким образом. И я попросила показать сделанный интерьер. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила соединенную кухню со столовой, шикарную спальню, гостиную, кабинет, где стоял бильярдный стол. «А где же книги? – спросила я. – А это квартира любовницы бандита. Ни она, ни он читать не будут». Зато здесь были атрибуты богатства, понимаемые в то время как знак шикарной жизни. Нашло это отражение и в современной художественной литературе. Описывая интерьер современного удачливого бизнесмена, автор пишет, что «библиотеки в квартире не предполагалось. Это квартира для интернета, в котором все уже есть. Все необходимые книжки благополучно перекачены в сеть, а новые все прибывают» (Рой О., 2013: 80), что, конечно же, не соответствует действительности. Таким образом, как это уже показал Жан Бодрийяр, «современная домашняя обстановка целиком включается в знаковую систему «среды» (Бодрийяр, 1999: 45).
Итак, вещь олицетворяет богатство. Уже с древнейших времен. Но постепенно вещь получает в понятиях общества совсем иную нагрузку. Все больше осознается знаковость вещи. В работе М. П. Фуко «Это не трубка» (1973), посвященной картинам Магритта, автор говорит о разрушении самотождественности, идентичности вещи. Игра подобий, геометрически аналогичных форм уничтожает сходство вещей, сходство с первоначальной идеей. Только мысль, по его мнению, может быть наделена сходством. И только мысль оставляет вещам их истинное место в мире человека.
Каждая эпоха и социальная группа накладывают отпечаток на все вещи, в ней существующие и ее создающие. Исходя из этого, вещи можно рассматривать как носителей определенных значений. Если взять какой-нибудь предмет быта – скажем, стул – и проследить его изменения и модификации синхронно (по странам) и диахронно (по временам), то мы получим обширные представления и об образе жизни людей, и о развитии техники, и о причудах и разнообразии моды. Таким образом, в нем, в этом предмете, отразятся все особенности определенной культуры. Вещи, используемые в домашнем быту, приобретают, помимо и сверх их утилитарного назначения, функцию выражения определенного космологически цельного мировоззрения, в котором все предметы, их расположение в пространстве представляют собой непростую систему. В зависимости от контекста вещь может восприниматься и как знак совершенно далеких от нее явлений. Вот как, например, поэтично говорит о женской туфле Тимур Зульфикаров в своей притче «Евразийская чайхана»:
«– О мудрец, ты знаешь все тайны бытия и смерти! Да! Но! Как родилась обувь? Как родилась женская соблазнительная, бесовская, похотливая, змеиная, похожая на голову кобры, туфля? А?
Тогда Ходжа Насреддин улыбнулся и сказал:
– А что такое женская извилистая хищная туфля? Это союз! Это сладкая связь каблука и стреловидного носка! И каблук – это зебб-фаллос мужа, а змеиный узкий носок – это устье, это лоно, это эль кесс жены! И тут вечная погоня фаллоса мужа за лоном жены! И чем уже носок – тем выше, дольше каблук! А может, тут и вся разгадка земного бытия? А?..
И еще мудрец тихо шепнул:
– Говорят, что Адам, наш первоотец, соблазнил Еву, первомать, только тогда, когда она встала на каблуки, как на два вздыбленных фаллоса-зебба!.. И те первокаблуки были так высоки и тонки, что Ева не смогла удержаться на них и закачалась, замаялась, и оттого стала бешено желанной, и рухнула переспело в объятья Адама. С той поры так любят грешные блудные мужи высокие шаткие змеиные каблуки! Да! Айхха!.. Так что обувь родилась не для хожденья, а для соблазненья!..» (Зульфикаров, 2001: 8).
Любая вещь со временем приобретает свою значимость и повышенную стоимость. Так, например, образцы мужской и женской обуви второй половины XVII века, сделанные из дерева, но декорированные ажурной резьбой и лаковой росписью, были приобретены на аукционе 26 июня 2012 года за 8000 фунтов (Блюмин, 2013: 7). Ясно, что помимо их старины, они были значимы и как художественная ценность. В целом, одежда, украшения, дают представление о том, что представляет собой та или иная личность. И можно сказать даже больше: внешний облик, создаваемый с помощью костюма, может дать представление об эпохе (Упине, 2013: 66). В костюме выражается не только индивидуальное самоощущение, но и эмоциональное отношение к действительности.
Вещь вплетена в сложную систему разнообразных символических связей. Так, в славянской культуре печная утварь выполняла в обрядах стихию огня. Дом – один из наиболее значимых и символически нагруженных объектов человеческого окружения, место многочисленных ритуалов. Наиболее важная символическая функция – защитная. Красный угол в доме – наиболее парадное и значимое место. Стол – сакральный центр жилища. Печь наделена серией диффузных и противоречивых значений. Порог – элемент дома, играющий роль его символической границы с внешним миром, окно (произведено от «око») – источник света. Ложка играла заметную роль в обрядах восточных славян, олицетворяя собой конкретного члена семьи, использовалась в различных обрядах и символизировала многие явления, как и нож и решето. Место у печи – женское пространство, в красном углу – наиболее почетное. Противопоставление печь – красный угол было материальным воплощением двоеверия в структуре русского жилища: религиозно-мифологический способ видения с четко разработанной дихотомией закрепил второй центр, красный угол, в противопоставлении языческому – печи.
Наиболее значимыми элементами жилища в семиотическом плане являются его границы – стены, крыша, пол. В качестве границ в русском жилище выступают также локативы (печь, стол и др.). Однако выделяются в семиотическом плане в первую очередь входы и окна. Регламентированную связь с внешним миром представляют двери. Вот почему так много ритуалов, загадок, присказок, связанных с дверью. Нерегламентированную связь с внешним миром отождествляют с входом через окно, дымоход и т. д. Двери, ворота отождествляются также с утробой, вульвой, почему возникает актуализация порога, например, при болезни – с помощью манипуляций в двери лечили радикулит, детский испуг и т. д. Символика окон представляет собой оппозицию внешний – внутренний, как и двери. Но несет также оппозицию видимый / невидимый. Вот почему проницаемость окон для человека, птиц, животных считалась нежелательной. Отсюда считается дурным предзнаменованием, если птица залетает в окно. Окно, как правило, связано с идеей смерти, ибо, оставаясь во внутреннем пространстве, оно представляет собой проникновение во внешнее пространство.
Значимым в доме является семантическая роль матицы, сегментирующей внутреннее пространство жилища на три части – красный угол под образами, главный, собственно изба; подпорожье – задний угол, кут (у входа) и печной – перед печью, середина.
В красном углу находились объекты, которым придавалась высшая культурная ценность: стол, библия, молитвенные книги, крест, свечи. Все пространство в красном углу имеет знаковый характер. В зависимости от места в нем измеряется ценность находящихся там вещей и людей. Наибольшую ценность представляют образа и соответственно место под ними. Наиболее высокий знаковый статус имеют иконы. Но столь же значительна и сакраментальна роль стола, которому отводится важнейшая роль в ритуале свадебного ритуала.
Печь имеет многозначное семиотическое осмысление: приготовление пищи как обрядовой, так и обыденной; связь ее с социальной интерпретацией: тот, кто сидит на печи – свой. Кроме того, маркировано женское пространство, в отличие от красного угла, где доминирующее значение принадлежит мужчине. Рядом с печью – бабий угол. Эта часть избы исключительно женская.
Помимо горизонтального членения, семиотическое пространство избы имеет и вертикальную структуру. Пол и потолок делят его на три зоны – чердак, жилое пространство и подполье. Крыша определяет связь, является границей между небом и миром людей, хотя и осмыслялась в числе женских элементов жилища (в этот ряд входили все элементы жилища, имеющие отверстия – стены, печь и т. п.). Связь крыши с солярной тематикой, как правило, подчеркивается солярной семантикой.
Внутренние границы вертикального среза жилища представляют собой пол и потолок. Сами половицы имеют ярко выраженный знаковый характер: половица связана с идеей пути, вдоль них кладут покойника и никогда не стелят постель. Потолок составляет парность к полу, почему иногда его называют верхний пол. Пол входит в комплекс представлений о низе, потолок – о верхе. Соответственно чердак и подпол – выходят за границы жилого пространства и находятся на его периферии. Но внешнее и внутренне пространство взаимопроницаемы.
Наибольшей степенью семиотичности жилого пространства обладает его горизонтальная плоскость. Вертикальная же плоскость в этом плане – менее характерна.
Важным элементом в жилище является орнамент, нередко нанесенный на элементы жилища – оконные резные украшения, украшения на коньке крыши и т. д. Кроме того, обычно бытовая утварь сплошь связана с орнаментикой. Но орнамент представляет собой также знаковую систему, репрезентирующую эстетическую и мифопоэтическую информации этнической целостности. Орнамент как язык предстает в виде кода, передающего основные специфические особенности этноса. В структуре керамического орнамента, как и в объемной форме сосуда, смоделированы не только эстетические, но и этнопсихологические стереотипы. Сами объемы, их геометрические параметры, орнамент, тонкостенность керамики – все вместе выражают психологические характеристики людей, пользующихся этими вещами.
Народная мелкая пластика также дает возможность эстетической расшифровки семантики предметов, пространственные и временные границы распространения той или иной культуры. В разных ареалах проявляются типологические черты украшений, укладывающихся в следующую триаду: функция – канон – украшение. Сопоставляя особенности разных ареалов, в силу различных условий порождающих различные типы ментальности и отражающих ее в художественных средствах выразительности, можно декодировать структурные типы художественного отражения мира в сознании людей, создавших тот или иной орнамент. Причем, нередко художественный тип структуры орнамента схож с типами языковых структур. Антропоморфные мотивы в орнаменте часто являются проявлением древних сакральных представлений, послуживших возникновению и осмыслению таких отвлеченных категорий, как, например, смерть / бессмертие.
В наше время происходит все большее убыстрение смены вещей. И даже если старинные вещи приобретают все большую ценность, очень часто они выбрасываются. Так, в современной Англии сохранилось большое число старинных домов, наполненных мебелью, которую выкидывают на помойку, так как их реставрация стоит дорого. А средств у их обладателей нет.
Точно так же мы видим отношение к машине. Если раньше – обладание машиной представлялось роскошью, то сегодня уже важно, на какой машине ты ездишь. В Америке машина – не роскошь, а средство передвижения уже давно. И советским людям было удивительно, когда безработные там ехали на своей машине для случайно подвернувшейся работы. Однако в поисках работы очень важно, на какой машине ты ищешь эту работу. Недавно одна актриса рассказывала, что она ездила наниматься на работу на своей машине. И везде ей отказывали. Но однажды у нее в машине что-то сломалось, и подруга дала ей свой «Ягуар». Когда она приехала на нем, работа сразу же нашлась.
Время приносит новые формы, новые материалы. Иногда они удачны. Иногда – нет. Ролан Барт писал, например, о пластмассе: «Её строение характеризуется чисто негативно – она не обладает ни твердостью, ни глубиной и вынуждена довольствоваться лишь сугубо нейтральным (хотя и полезным на практике) свойством, а именно прочностью, то есть способностью не сразу поддаваться внешней силе. В поэтике материалов это материал – неудачник» (Барт, 1996: 213). И все же новые вещи часто способствуют комфорту и находят все большее применение. Отчасти потому, что становятся более дешевыми благодаря усовершенствованию технологии, отчасти благодаря широкому распространению. Вспомним, как раньше наличие мобильного телефона говорило о значимости его владельца. Теперь – это обычный предмет любого мало-мальски обеспеченного человека. Компьютер также изменил жизнь людей. И хотя сегодня есть профессора, которые с гордостью говорят о том, что они не пользуются компьютером, но новые модификации, наличие айфонов и других гаджетов совершенно изменяет жизнь людей, которые видят в этих новых вещах не только их сущность, но и знаковое наполнение.
Каждый предмет в квартире имеет определенную утилитарную форму, но несет на себе и груз подчас довольно трудно расшифровываемой семантики. Однако постепенно вещь приобретает статус знака, становясь элементом «совсем иного пространства – не материально-вещественного, но идеально-духовного» (Топоров, 1995: 11). Вещь может выступать в качестве этнического индикатора власти, показателя социальной или кастовой принадлежности владельца, даже может выражать его конфессиональную принадлежность. «действительно, вся жизнь человека связана с вещами. Каждое поколение создает свой предметный мир. Вещи создаются для человека и во имя человека. И поэтому у всякой вещи есть свое человеческое измерение. Вещи как зеркало культуры отражают насущные запросы повседневной жизни человека, его чаяния и завоевания, поиски красоты и радость самоутверждения» (Бирюков, Ионесов, 2012: 24). В культурологии сложилось несколько различных подходов к изучению семантики предметной среды: метод «этнографических аналогий» Дж. Фрезера, разработанный Г.Г. Шпетом и разделяемый новой этнографической школой; метод структурного анализа, предложенный К. Леви-Стросом; феноменологический метод Э. Гуссерля, который дает возможность познания вещи в ее историческом контексте; герменевтический метод, разработанный Дильтеем – Хайдеггером – Гадамером, разделяемый экзистенциалистами и позволяющий рассматривать вещь как целостный текст в контексте культуры. Все эти подходы при изучении семантики вещи могут быть использованы в современном анализе, однако следует помнить, что сама вещь выступает как культурный текст определенной, исторически обусловленной знаковой системы. При этом, по меткому замечанию Бодрийяра, «всякая вещь в глубине своей антропоморфна» (Бодрийяр, 1999: 33). Но если раньше она демонстрировала свою работу, (Бодрийяр дает такой пример: «Заступ или кувшин», «эти живые воплощения мужского и женского полового органа, своей ״непристойностью״ делают символический внятной динамику человеческих влечений», то теперь она отводит человеку «роль стороннего наблюдателя» (Бодрийяр, 1999: 63)).
Известный культуролог Г. С. Кнабе выделяет следующие свойства знаковости бытовых вещей:
1) историчность их семантики (помимо синхронных оппозиций, он выделяет диахроничность семантики бытовых вещей);
2) способность распознать эту знаковость лишь определенной социально-культурной группой, которая объединена пережитым общественным опытом;
3) эмоциональность вещи (помимо ее рационального смысла), актуализирующая те обертоны памяти, которые коренятся в социальном подсознании и часто самим человеком не осознаются. (Кнабе, 1982: № 9).
Образ вещи характеризуется, по Кнабе, тремя гранями, которым соответствуют три способа его восприятия: социальный, духовный и социологический. Социальный аспект характеризует обладателя вещи по признакам, определяющим его место в общественной структуре. Духовный аспект передает атмосферу чувств и переживаний, связанных с данным предметом, независимо от его денежной или эстетической значимости, вне четкой знаковой роли вещи. Социологический же образ дает «зонд, опущенный глубоко в общественное подсознание, в те глубины повседневного бытия, где раскрывается непосредственно человеческая текстура исторических процессов». (Кнабе, 1985, № 1; Кнабе, 1986).
Вещь не существует отдельно, как нечто изолированное в контексте времени. «Вещи связаны между собой. В одних случаях мы имеем в виду функциональную связь и тогда говорим о «единстве стиля». С другой стороны вещи имеют память» (Лотман, 1995: 10). Вещи навязывают нам манеру поведения, тем самым создавая вокруг себя определенный культурный контекст. Верно пишут А.В. Бирюков и В.И. Ионесов: «Именно вещи при помощи человека формируют предметный ландшафт социальных связей и визуально проецируют во внешний мир смыслы и образы человеческих исканий, материальных и духовных запросов общества» (Бирюков, Ионесов, 2012: 22).
Библиографический список
1. Барт Р. Мифологии. М.: 1996. – 213 с.
2. Бодрийяр Жан. Система вещей. – М.: Рудомино, 1999. – 231 с.
3. Бирюков А.В. Ионесов В.И. Люди и вещи: новые возможности интеграции культуры и экономики в эпоху глобализации // Вещи и коммуникация: экономические и культурные взаимодействия в меняющемся обществе. – Самара: ООО «Изд-во ВЕК#21», 2012. – 514 с.
4. Блюмин М.А. Старинная обувь на международных аукционах // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии / Материалы XVI международной научной конференции – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. – 620 с.
5. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М, Искусство, 1972. – 318, с.
6. Зульфикаров Тимур. Евразийская чайхана // «Литературная газета», № 30, 25–31 июля 2001 г., с. 8.
7. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и нравы русского дворянства XVIII–XIX вв. М.: Искусство, 1995, с. 10.
8. Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М.: Наука, 1983. – 207 с.
9. Кнабе Г. С. Внутренние формы культуры // Декоративное искусство СССР; 1982, № 9.
10. Кнабе Г. С. Быт как предмет истории // Декоративное искусство СССР. – 1982, № 9.
11. Кнабе Г. С. Язык бытовых вещей // Декоративное искусство СССР, 1985, № 1.
12. Кнабе Г. С. Древний Рим – история повседневностьи. Очерки. – М. 1986 – 206 с.
13. Робски Оксана. GLAMУРНЫЙ ДОМ; ИНТЕРЬЕР&ДЕКОР. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 239 с.
14. Рой О. Шаль: роман. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с.
15. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. – М.: Прогресс, 1995. – 634 с.
16. Упине А. М. Выявление композиционно – конструктивных параметров исторической одежды, влияющих на имиджевые характеристики эпохи // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии / Материалы XVI международной научной конференции – СПб.: ФГБОУВПО «СПГУТД», 2013. – 620 с.