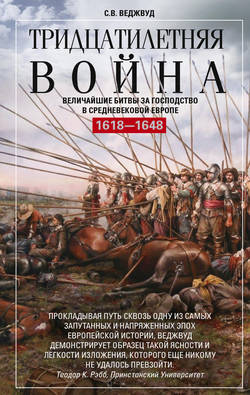Читать книгу Тридцатилетняя война. Величайшие битвы за господство в средневековой Европе. 1618—1648 - С. В. Веджвуд - Страница 3
Глава 1
Германия и Европа. 1618
2
ОглавлениеУстранение некоторых физических препятствий и недостатков в области административного управления за последние сто лет настолько изменило условия жизни, что нам нелегко разобраться в политике XVII века, не понимая ее механизма. Работа правительства была организована из рук вон плохо; политикам не на кого было опереться; честность, расторопность и благонадежность встречались нечасто, и типичные государственные мужи в своих действиях, по-видимому, исходили из неизбежности постоянной утечки денег и информации.
Скорость дипломатической коммуникации в Европе ограничивалась скоростью гужевого транспорта, на котором основывалось всякое сообщение, а в политические расчеты вмешивались неразумные силы природы: противный ветер и сильный снегопад порой могли затормозить или ускорить международный кризис. Важнейшие решения приходилось задерживать, а в каких-то совсем уж отчаянных случаях перекладывать на подчиненных, не имея времени посоветоваться с вышестоящей инстанцией.
Несовершенный порядок распространения новостей не позволял общественному мнению играть сколько-нибудь доминирующую роль в политике. Основная часть крестьян пребывала в полном неведении о происходящих вокруг событиях, безмолвно терпела их последствия и восставала, только если условия жизни становились совершенно невыносимыми. Горожане благодаря более эффективной передаче знаний имели возможность хотя бы в зачаточном виде выражать общественное мнение, но лишь относительно богатые и образованные люди могли постоянно усваивать и пользоваться политической информацией. Подавляющее большинство народа оставалось бессильным, невежественным и безразличным. В силу этого публичные действия и личные качества отдельных государственных деятелей приобретали несоразмерную важность, и дипломатическими отношениями в Европе управляли династические амбиции.
Неуверенность в будущем и тяготы жизни поощряли в правителях безответственность. Войны не приводили к немедленным бунтам, потому что в основном их вели профессиональные армии, а гражданское население – за исключением районов боевых действий – оставалось незатронутым, по крайней мере до тех пор, пока его не начинали обдирать как липку поборами и налогами, потому что у воюющих кончились деньги. И даже там, где шли сражения, бремя войны поначалу казалось не таким тяжким, как в наш уравновешенный цивилизованный век. Кровопролитие, изнасилования, грабежи, пытки и голод не так ужасали людей, которые сталкивались с ними в повседневной жизни, хотя и в более мягких формах. Разбойные нападения не были редкостью и в мирное время, пытки применялись в большинстве уголовных процессов, страшные и растянутые во времени казни совершались на глазах у толпы зрителей; землю то и дело опустошали чума и голод.
Даже образованные люди придерживались грубых взглядов на жизнь. Под маской вежливости скрывались примитивные нравы; пьянство и жестокость были обычным явлением во всех классах, судьи чаще проявляли суровость, чем справедливость, гражданские власти чаще действовали скорее круто, нежели эффективно, а благотворительность не могла ответить на все нужды людей. Лишения были слишком естественным делом, чтобы о них говорить; и зимняя стужа, и летний зной внезапной напастью обрушивались на неготового европейца: в их домах было слишком сыро и холодно для первой и слишком душно для второго. И правители, и нищие одинаково привыкли к вони от гниющих отбросов на улицах, грязным канавам между домами, к виду падальщиков, которые слетались на горы мусора и клевали разлагавшиеся трупы висельников. По дороге из Дрездена в Прагу один путешественник насчитал «больше ста сорока виселиц и колес с трупами грабителей, и еще свежими, и полуразложившимися, и останками убийц, которым на колесах одну за другой переломали конечности».
Война должна была лежать особо тяжким и долгим бременем на плечах этих людей, чтобы заставить их громко возмутиться, но к тому времени уже никто ничего не мог поделать.
Франция, Англия, Испания, Германия – уже в XVII веке историк встречает эти абстрактные конгломераты разнородных элементов. Самосознающая себя нация существовала, даже если связь этой нации с составляющими ее людьми с трудом поддавалась определению; у всех народов были свои проблемы на границах, свои меньшинства, свои разногласия. Некоторым профессиям была свойственна поразительная для современного ума текучесть: никто не считал странным, если французский полководец вел армию на французов, и преданность делу, вере, даже господину обычно ценилась выше, чем верность стране. Несмотря на это, национальная принадлежность уже начинала приобретать новый политический смысл. «Никто не может не любить своей страны, – писал Бен Джонсон, – тот, кто утверждает обратное, может восторгаться своими словами, но сердцем он там».
Но главным образом национальными чувствами мог воспользоваться государь, с правлением которого они были связаны, и, за редким исключением, династия в европейской дипломатии считалась важнее нации. Международную политику скрепляли королевские браки, а ее движущей силой была личная воля государя и интересы его семейства. С практической точки зрения неверно приравнивать династии Бурбонов и Габсбургов к Франции и Испании.
Между тем основы общества менялись так, что перед правителем вставал новый ряд проблем. В большинстве стран Западной Европы у власти стояла аристократия, сформированная в таком обществе, где землевладение и власть были неразрывно связаны друг с другом. Эта форма правления сохранилась и после того, как деньги сменили землю в качестве действующей силы, и политическая власть оставалась в руках тех, кто не имел богатства для осуществления своей воли, а торговые классы, имевшие средства, но не власть, часто находились к ней в оппозиции.
Возвышение класса, не зависящего от земли, уравновешивалось соответствующим упадком крестьянства. В феодальной системе, основанной на взаимных обязательствах между сеньором и держателем земли, серв (крепостной) занимал признанное, хотя и низкое положение. Открытое недовольство крестьян начинается со времен краха феодализма, когда землевладельческие и правящие классы начали обращать труд своих крепостных в деньги и использовать условия землепользования для извлечения прибыли.
Феодальная система предопределила такой мир, в котором все были связаны с землей и ответственность за физическое благополучие человека ложилась на землевладельца. По мере того как эта структура все больше отдалялась от реального положения дел, на церковь и государство легли новые обязанности. Медленный транспорт, плохое сообщение и нехватка денег не позволяли центральному правительству создать необходимый механизм для того, чтобы нести это растущее бремя, и государство раз за разом передавало свои полномочия уже существующим институтам – мировым судьям в Англии, приходским священникам и местным землевладельцам в Швеции, деревенским старостам и городским бургомистрам во Франции, знати в Польше, Дании и Германии. Таким образом, без содействия этих незаменимых помощников ни одно правительство не могло рассчитывать на то, что его распоряжения будут выполнены. Именно это дало польским, немецким и датским дворянам и английским джентри власть над центральным правительством, несоразмерную их фактическим богатствам, и восстановило баланс между землевладельческим и купеческим классами.
Однако не было ни адекватной связи между законодательной и исполнительной властью, ни четкого понимания того, как использовать государственные деньги. Поскольку налогообложение складывалось в основном как замена прежней воинской повинности, взыскание денег в сознании людей неразрывно переплеталось с военными лишениями. Идея взимания налогов на общественные службы еще не родилась. Парламенты, штаты, сеймы и кортесы – все эти частично представительные органы, возникшие за предыдущие века, полагали, что требовать денег можно только в кризисной ситуации, и упорно отказывались помогать правительству исполнять его повседневные обязанности. Это заблуждение породило немало зол. Монархи предавались легкомысленному расточительству в ожидании будущих доходов, распродавали земли короны, отдавали в заклад свои королевские привилегии и таким образом последовательно ослабляли центральное правительство.
Этим непониманием объясняются обиды и подозрительность по отношению к властям, характерные для средних классов в начале XVII века, – обиды, которые проявлялись в постоянном неподчинении и эпизодических мятежах. Переходные периоды всегда отличаются плохим управлением; таким образом, главной потребностью времени была эффективность власти. Остро чувствуя общую незащищенность, эта малая часть населения, обладавшая влиянием, была готова принять любое правительство, лишь бы оно гарантировало мир и порядок.
Итак, стремление иметь голос в политических решениях главным образом объяснялось не столько принципом свободы, сколько желанием иметь эффективное правительство. Теории о добре и зле, о божественном предопределении или естественном равенстве людей превращались в объединяющие лозунги, символы, за которые люди с чистым сердцем отдавали жизнь – и король Англии под топором палача, и австрийский крестьянин на колесе. Но успех или неудача в конечном итоге зависели от эффективности административного аппарата. Лишь немногие люди настолько бесстрастны, что предпочли бы жить в лишениях при правительстве, которое считают правильным, чем в довольстве при том, которое им кажется неправильным. Представительное правительство в Богемии (Чехии) потерпело крах потому, что работало значительно хуже, нежели деспотизм, который оно сменило, и Стюарты пали не потому, что идея божественного происхождения королевской власти оказалась несостоятельной, а по причине некомпетентности их правительства.