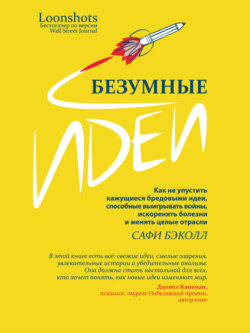Читать книгу Безумные идеи. Как не упустить кажущиеся бредовыми идеи, способные выигрывать войны, искоренять болезни и менять целые отрасли - Сафи Бэколл - Страница 9
Часть I
Инженеры удачи
1
Как безумные идеи выиграли войну
Жизнь на грани
ОглавлениеЕсли бы в 1939 году на мировой арене работал тотализатор, то большинство ставок делалось бы на нацистскую Германию.
В намечающейся схватке двух мировых держав союзники сильно отставали от Германии, причем больше всего в гонке новых технологий, которую Уинстон Черчилль называл «тайной войной». Новые немецкие подводные лодки доминировали в Атлантике и грозили перерезать пути снабжения Европы. Самолеты люфтваффе, готовые наносить сокрушительные бомбовые удары по Европе, превосходили технику воздушных флотов союзников. А открытие механизма ядерного деления, сделанное в том году двумя немецкими учеными, могло дать Гитлеру оружие невиданной мощи.
Черчилль писал, что в случае проигрыша гонки технологий «вся смелость и все жертвы народа оказались бы бесполезными».
А ведь к тому моменту, когда Вэнивар Буш, декан инженерного факультета Массачусетского технологического института, летом 1940 года оставил свой пост, отправился в Вашингтон и добился встречи с президентом, в руках у Военно-морского флота США уже был ключ для победы в этой гонке. Причем целых 18 лет. Они просто не знали об этом.
Чтобы отыскать этот ключ и одержать победу в гонке, Буш создал новую систему отношения к радикальным, безумным идеям.
И это стало секретным рецептом для победы в тайной войне.
«Дорчестер»
В конце сентября 1922 года два энтузиаста-радиолюбителя, работавшие на военно-воздушной базе ВМС США, расположенной буквально рядом с Вашингтоном, установили коротковолновый радиопередатчик с той стороны базы, которая выходила на реку Потомак. Лео Янг, которому на ту пору исполнился 31 год, был родом из маленького фермерского городка в Огайо. Он начал собирать радиоприемники еще в школе. Его партнер Хойт Тейлор, бывший 42-летний профессор физики, работал на флоте главным специалистом по радио. Они решили испытать, сможет ли повышение частоты обеспечить судам более надежную радиосвязь в море.
Янг настроил переделанный передатчик на частоту 60 мегагерц, то есть в 20 раз выше уровня, на который был рассчитан. Аналогичным образом он переделал и приемник, пользуясь способом, вычитанным в каком-то техническом журнале. Настроив оборудование, они включили передатчик, погрузили приемник на грузовик и перевезли его в Хейнс-Пойнт – парк, находившийся на другом берегу Потомака, прямо напротив авиабазы.
Янг и Тейлор поставили приемник на парапет набережной и направили антенну на передатчик на другом берегу. Приемник начал издавать четкий монотонный сигнал. И вдруг в какой-то момент громкость сигнала удвоилась. Затем он вообще пропал на несколько секунд, а потом вернулся с удвоенной мощностью, после чего сразу же вернулся к начальному уровню.
«Дорчестер» проходит по Потомаку между передатчиком и приемником
Они подняли головы и увидели судно «Дорчестер», которое как раз в этот момент проплывало между приемником и передатчиком.
Для обоих инженеров удвоение мощности было несомненным признаком того, что интерференция сигнала – сложение двух синхронизированных пучков радиоволн – была чем-то вызвана. Когда нос «Дорчестера» достиг определенной точки, пучок волн, отразившийся от него (луч № 1 в левой части рисунка) прошел дистанцию между передатчиком и приемником ровно на половину длины волны позже, чем прямой луч № 2. В этот момент оба пучка оказались синхронизированными, что объяснило удвоение мощности звука. Проходя зону прямой видимости, судно полностью блокировало сигнал. Когда после прохождения судна прямая видимость между передатчиком и приемником восстановилась, как показано в правой части рисунка, сигнал вернулся. А когда корма достигла определенной точки, луч отразился, и вновь произошла синхронизация, что и объясняло повторное удвоение сигнала.
Таким образом, Янг и Тейлор, испытывая средство коммуника-ции, случайно открыли средство обнаружения.
Оба инженера успешно повторили эксперимент несколько раз, а через несколько дней, 27 сентября, отправили своему непосредственному начальству письмо с описанием нового средства обнаружения вражеских кораблей. Американские корабли, оснащенные передатчиками и приемниками, могли, выстроившись в линию, сразу же обнаружить «прохождение вражеских судов независимо от тумана, темноты и дымовой завесы».
Это было самое первое предложение использования радаров в боевых условиях. Один из военных историков впоследствии писал, что данная технология изменила образ боевых действий «больше, чем какая-либо другая со времен изобретения аэроплана».
Но флот ее проигнорировал.
Не имея поддержки и получив отказ в финансировании, Янг и Тейлор забросили свою идею. Они начали работать над другими проектами, но не забыли про тот случай. Спустя восемь лет, в начале 1930 года, Янг и еще один инженер из его лаборатории, Лоуренс Хайленд, решили опробовать новую идею о наводке садящихся самолетов по радиомаяку. Передатчик на земле рядом с посадочной полосой посылал радиосигнал в небо. Пилот в приближающемся самолете следовал по направлению сигнала и совершал посадку. Однажды в жаркий и душный июньский день Хайленд решил протестировать приемник, который они намеревались использовать. Для этого он отъехал в поле на две мили от передатчика. Настраивая оборудование, он заметил, что звук в приемнике внезапно усилился, а потом снизился до нормального уровня. Спустя несколько секунд это явление повторилось. А потом еще и еще. Хайленд несколько раз проверил приемник, но не мог понять, в чем дело. И уже решив сдать неисправную технику в лабораторию, он вдруг заметил нечто странное: сигнал становился громче, когда над ним пролетал самолет.
Хайленд рассказал об этом Янгу, и тот быстро уловил связь с тем, что сам наблюдал на Потомаке семью годами ранее. Направленный в небо пучок радиоволн отражался от самолета и попадал в приемник Хайленда. Оказалось, что отраженные радиоволны способны обнаруживать не только корабли, но и самолеты, летящие на высоте до двух с половиной тысяч метров, причем даже за несколько километров. Янг и Хайленд провели испытания и в очередной раз предложили создать систему, никогда не использовавшуюся до этого в военном деле, – устройство для раннего обнаружения вражеских самолетов.
Но это ни к чему не привело. Просьба о выделении 5 тысяч долларов была отклонена, потому что сроки получения результатов «могли превысить два-три года». Еще один из чинов, рассматривавших просьбу, пренебрежительно отозвался о ней как о «безумной мечте, не имевшей практически никаких шансов на реальный успех», и перечислил кучу причин, по которым она не заслуживала внимания. Военным понадобилось еще пять лет, прежде чем был назначен человек, отвечавший за разработку этого проекта.
Один из офицеров, который вел во флотском командовании безуспешную борьбу за ускорение исследований в области радиолокации, впоследствии писал: «Мне было больно думать о том, сколько жизней, самолетов и кораблей могли бы спасти два года работы над радарами до 1941 года и сколько сражений мы могли бы выиграть в начальной стадии войны в тихоокеанском регионе».
Седьмого декабря 1941 года, в день нападения на базу Пёрл-Харбор, радиолокационная система раннего обнаружения все еще находилась в стадии полевых испытаний на Гавайях.
Этот внезапный налет 353 вражеских самолетов унес жизни 2403 человек.
Как не надо вести войны
Как и «пиранья» Миллера, о которой шла речь во введении, изобретение Янга и Тейлора было классической безумной идеей. Оно способно было изменить ход войны, но целое десятилетие мыкалось по коридорам отрицания и скептицизма.
Однажды в эти коридоры забрел человек, обладавший необычной способностью. Он мог подняться выше всеобщих сомнений. Это был Вэнивар Буш – высокий и худой молодой человек, сын священника, который ругался как моряк и одевался как работяга. К моменту начала Первой мировой войны Буш едва успел получить диплом инженера. Он добровольно пошел служить на испытательную станцию подводных лодок в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Опыт, который он получил там, очень напоминал то, что пережили Янг и Тейлор восемью годами позже. Флотское командование похоронило его самую ценную идею – магнитное устройство для обнаружения субмарин, находившихся в подводном положении. Этот случай, как писал впоследствии Буш, научил его тому, «как не надо вести войны». В гонке средств нападения и защиты, где борьба идет не на жизнь, а на смерть, слабым звеном всегда оказывается не отсутствие новых идей, а неумение реализовать их на практике.
Этот процесс требует доверия и уважения с обеих сторон. Но офицеры в Нью-Лондоне, как, впрочем, и везде, по словам Буша, «совершенно определенно давали понять, что ученые и инженеры, работавшие в военных лабораториях, – это низшая каста». В начале войны, в которой впервые был применен отравляющий газ, министерство обороны отклонило помощь, предложенную Американским химическим обществом, на том основании, что «по рассмотрении сути обращения было установлено, что в военном ведомстве уже имеется химик».
Несмотря на эти трения, Буш предпочел сохранить свои связи с флотом и после окончания войны. Для этого потребовалось развить в себе новое умение – не равнять всех по себе. Впоследствии это принесло ему огромную пользу. Буш продолжал служить во флотском резерве еще восемь лет, несмотря на то что параллельно развивалась его карьера как ученого, инженера и бизнесмена. Он был назначен профессором МТИ, изобрел один из самых первых компьютеров (аналоговую вычислительную машину) и участвовал в создании компании, на базе которой впоследствии возник крупный электронный концерн Raytheon.
В середине 1930-х годов Буш уже был второй по значимости фигурой в МТИ после ректора, но все еще продолжал консультировать ВМС. И то, что он наблюдал в военных кругах, его очень тревожило. Несмотря на растущую угрозу со стороны фашизма в Европе и Азии, в 1936 году вооруженные силы урезали расходы на исследование новых технологий до одной двадцатой от стоимости одного военного корабля. В армейских документах прямо говорилось, что единственной силой, с которой следует считаться, является пехота со своими винтовками и штыками. Буш бил тревогу, указывая на растущее технологическое отставание от Германии. Но это мало что меняло, как и в годы его службы в Нью-Лондоне. Генералов не интересовали мнения «чокнутых профессоров», как они называли гражданских ученых.
В 1938 году Гитлер присоединил к Германии Австрию и Судетскую область. Франко и его националисты захватили бо́льшую часть Испании. Муссолини полностью контролировал Италию. Япония вторглась в Китай и захватила Пекин. Буш и небольшая группа ведущих ученых, включая Джеймса Конанта – химика и президента Гарвардского университета, – были уверены, что надвигается война, к которой США явно не готовы. Им была известна тенденция генералов вступать в войну с оружием и тактикой, позаимствованными из прошлой войны. Они понимали, что повторение этой ошибки перед лицом куда более серьезной германской угрозы будет иметь фатальные последствия.
Буш знал, что командованию хочется иметь больше привычных и хорошо известных вещей: самолетов, кораблей, винтовок. Подобно крупной киностудии, которая снимает один и тот же бесконечный сериал, военные находились в так называемой фазе франшизы[1]. Для того чтобы создавать радикально новые технологии, необходимые для победы над Германией, армии нужно было перейти в совершенно иную фазу, которая, по словам Буша, давала бы ученым и инженерам «независимость и свободу разработки немыслимых вещей».
Другими словами, Буш интуитивно понимал, что умелое использование франшизы и разработка оригинальных идей – это разные фазы организации. Организация не может одновременно находиться в двух фазах. По этой же причине вода в обычных условиях не может быть одновременно твердой и жидкой.
Но в 1938 году об «обычных условиях» не могло быть и речи. Генералам действительно нужно было производить беспрецедентное количество оружия, налаживать отправку войск и снаряжения по четырем континентам, обучать миллионы солдат ведению боевых действий. Однако для победы в «тайной войне», о которой говорил Черчилль, им нужны были и новые технологии, которых еще не существовало.
Чтобы выжить, страна была вынуждена заниматься и тем и другим.
Одна молекула не в состоянии превратить лед в жидкую воду, как бы она ни старалась убедить соседние молекулы немножко ослабить имеющиеся связи. Поэтому Буш даже не пытался изменить военную культуру. Здесь нужен был другой подход, и Буш организовал новую структуру. При этом он пользовался принципами «жизни на грани», создавая уникальные условия, в которых две фазы могли бы сосуществовать.
В апреле 1944 года журнал Time в хвалебной статье превозносил Вэнивара Буша как «генерала секретной армии ученых, удостоенного всяческих почестей в Вашингтоне». В октябре 1945 года Комитет по ассигнованиям Палаты представителей заявил: «Можно смело утверждать, что без организации Буша мы бы все еще жили в ожидании победы».
Однако в 1938 году война Буша еще только начиналась.
Надвигающийся шторм
В середине 1930-х годов Буш приобрел широкую известность благодаря своему умению сводить воедино интересы науки, промышленности и правительства. Поэтому ни для кого не стало сюрпризом, что в 1938 году Институт Карнеги – располагавшийся в Вашингтоне мозговой центр по поддержке научных исследований – предложил Бушу место главы. В ответ президент МТИ выразил готовность уйти в отставку и уступить Бушу свой пост, если тот согласится остаться. Но Буш отказался. Хотя престижная карьера и поколения предков, живших в Новой Англии, удерживали его в Бостоне, он понимал, что судьбы национальной обороны решаются в Вашингтоне. Никто не умел наводить мосты так, как Буш. Он понимал, что обладает уникальной способностью мобилизовать ученых страны накануне войны.
«Все мои предки были морскими капитанами и знали, как управлять ситуацией, не проявляя сомнений, – говорил Буш много лет спустя. – Возможно, отчасти это обстоятельство, а отчасти поддержка дедушки, который командовал китобойным судном, дали мне силы вести борьбу, раз уж я в нее ввязался».
Приняв предложение Карнеги, Буш уволился из МТИ и переехал в Вашингтон.
С помощью деловых партнеров Карнеги, одним из которых был дядя президента Франклина Рузвельта, Буш составил план. «Я знал, что в этом чертовом городе никто ничего не сможет добиться, если его организация не будет находиться под крылом у президента», – вспоминал он впоследствии.
Но попасть под это крыло было маловероятно. Президент, будучи юристом, окружил себя социальными планировщиками и не проявлял никакого интереса ни к науке, ни к ученым. Буш же, будучи консерватором по своей природе, скептически относился и к Рузвельту, и к его «Новому курсу». Он не привык доверять «социальным новаторам», которых считал «сборищем длинноволосых идеалистов и лицемерных благодетелей».
Буш заручился поддержкой дяди президента, чтобы организовать встречу с ближайшим советником Рузвельта – Гарри Гопкинсом. Тот, в прошлом сам социальный работник и «благодетель» высшей марки, вряд ли мог считаться подходящим союзником. Много лет спустя Буш писал: «Тот факт, что мы с Гарри поладили, сродни чуду». Однако они действительно поладили: оказалось, что Гопкинс умеет ценить смелые идеи.
Двенадцатого июня 1940 года в 16:30 Буш и Гопкинс встретились с Рузвельтом в Овальном кабинете Белого дома. Они постарались донести до президента мысль о том, что армия и флот намного отстали от Германии в области технологий, и это ставит под сомнение их победу в грядущей войне. Рузвельту предлагалось в рамках федерального правительства создать новую научно-технологическую группу, которой будет руководить Буш, напрямую подчиняющийся президенту.
Рузвельт выслушал их, прочитал предложение Буша – четыре коротких абзаца на одном листе бумаги – и наложил резолюцию: «ОК – ФР». Вся встреча продлилась не более десяти минут.
Новая организация Буша, получившая название Управление научных исследований и разработок (УНИР), давала ему возможность привлекать к работе ученых, инженеров и изобретателей из университетов и частных лабораторий. Это был национальный департамент безумных идей, распространявший по всей стране многообещающие, но игнорируемые всеми проекты. Группа специализировалась на разработке никем до этого не применявшихся технологий, которые военные отказывались финансировать. И возглавлял ее чокнутый профессор.
Военные и их сторонники, как и ожидалось, выступили с возражениями. Они называли новую группу Буша «сборищем ученых и инженеров, которые, действуя в обход установленных правил, наделили себя некими полномочиями и присваивают средства, выделенные на программу создания нового оружия».
Буш на это отвечал: «Именно так и было задумано».
Жизнь при 0 °C
Представьте, что вы подвели ванну с водой к точке замерзания. Малейший сдвиг в сторону понижения или повышения температуры – и вся ванна либо замерзнет, либо останется в жидком виде. Но на грани этих двух состояний кристаллики льда могут соседствовать с жидкостью. Это сосуществование двух фаз на границе фазового перехода называется фазовым разделением. Фазы существуют как бы отдельно друг от друга и в то же время вместе.
Связь между двумя фазами проявляется в сбалансированном колебании то в одну, то в другую сторону. Молекулы из ледяных кристаллов переходят в жидкость, а молекулы из жидкости присоединяются к поверхности ледяного кристалла. Этот круговорот, в котором ни одна из фаз не превалирует над другой, называется динамическим равновесием.
Существование на грани
Как мы вскоре убедимся, фазовое разделение и динамическое равновесие стали главными ингредиентами в рецепте Буша. «Суть работоспособной военной организации заключается в жесткости ее структуры. Однако жесткая структура не склонна к инновациям, – писал Буш, – а попытка ослабить ее внутренние связи в военное время таит в себе опасность. Тем не менее может быть налажено взаимодействие между военными и организацией, структура которой сознательно лишена жесткости».
Другими словами, надо разделить две фазы, сохраняя связь между ними.
Попытка Буша применить первый из этих принципов – разделение фаз, – заключавшаяся в создании нового ведомства под своим контролем, протекала поначалу не слишком гладко. Один из офицеров заявил Бушу, что «ни у одного штатского не хватит мозгов, чтобы разобраться в военной проблематике». Реакция Буша: «Я ответил ему: к сожалению, до сих пор еще есть офицеры, у которых мозги настолько закоснели, что они не замечают революции, происшедшей в методах ведения войны».
Еще один высокопоставленный военный, рассмотрев предложение группы Буша о создании нового типа транспортера-амфибии, заявил, что «армия не нуждается в подобных машинах и не будет их использовать, даже если получит на вооружение». Буш проигнорировал его мнение. Созданный его группой вездеход под названием DUKW широко использовался во второй половине войны. Бывшие коллеги Буша, университетские профессора, тоже скептически смотрели на взаимодействие с военными. Они рассматривали надзор со стороны федеральных органов как вмешательство в свои дела.
Буш сумел примирить обе группы. Пользуясь своим авторитетом в среде ученых, он убедил их, что они полностью свободны в своем творчестве. В то же время Буш объяснял им, что целью их деятельности являются не блестящие идеи, а работоспособные продукты. Принимая нового ученого в свою группу, он в ходе собеседования ставил перед ним примерно следующую задачу: «Вы должны высадиться посреди ночи на надувном плоту на побережье, занятом немцами. Ваша миссия заключается в том, чтобы уничтожить жизненно важное радиооборудование противника, в охране которого задействованы вооруженные патрули, собаки и прожекторы. Вы можете брать с собой любое оружие, какое только можете себе представить. Опишите это оружие». Ученые понимали, чего от них хотят. Практичность изысканий была вопросом жизни и смерти.
Буш действовал быстро. К концу 1940 года, то есть спустя шесть месяцев после встречи с президентом, УНИР подписало 126 контрактов на исследования с девятнадцатью промышленными лабораториями и тридцатью двумя учебными заведениями.
Для заключения одного из таких контрактов Буш обратился не к университетским ученым и не в промышленную лабораторию, а к богатому инвестиционному банкиру по имени Альфред Ли Лумис, который считался специалистом по шахматам и фокусам, носил безупречно отглаженные белые костюмы и жил двойной жизнью. Днем он работал на Уолл-стрит, а по вечерам и выходным отправлялся в свой массивный каменный замок, расположенный в сорока милях от Нью-Йорка, в Такседо-Парке. Там находилась секретная частная лаборатория, оснащенная самым разным оборудованием, построенным или купленным для удовлетворения любопытства ее владельца. В середине 1930-х годов посетителей замка Лумиса провожали в комнату с удобным креслом, где один из его помощников, вооружившись маленькими ножницами, выстригал у них часть волос, протирал кожу головы спиртом, закреплял электроды и просил расслабиться. Эти люди участвовали в экспериментах (Лумис был одним из основоположников электроэнцефалографии – ЭЭГ).
От Альберта Эйнштейна, Энрико Ферми и других европейских ученых, посещавших его лабораторию, Лумис получал тревожные вести об успехах германской науки в военной области и пугающих открытиях в сфере ядерной физики. Вместе с Бушем и Конантом Лумис сотрудничал с американскими военными в годы Первой мировой войны и тоже пришел к выводу, что сами по себе они не способны наверстать отставание от немцев. Поэтому, получив от Буша предложение присоединиться к его организации, Лумис забросил все остальные проекты и полностью посвятил себя новой технологии – радару, работавшему в микроволновом диапазоне.
К концу 1940 года Лумис собрал дюжину лучших инженеров и физиков в одном из неприметных зданий МТИ. Перед ними стояла задача разработать радарную систему, которая использовала бы микроволны с длиной волны, измерявшейся десятками сантиметров, вместо радиоволн с длиной волны в десятки и сотни метров. Чем короче волна, тем выше разрешение. Работавшие в диапазоне радиоволн системы, изобретенные в военно-морской лаборатории (а потом независимо от них и в Британии), могли обнаруживать корабли и самолеты. Микроволновые системы способны были разглядеть и перископ подводной лодки, и летящий снаряд. Но еще более важным их преимуществом был размер. Длина волны определяет размер антенны. Поэтому микроволновая печь помещается на кухне, а радиомачта – нет. Если бы исследователям удалось построить микроволновые радарные системы, их можно было бы сделать портативными и разместить на любом судне, самолете и даже грузовике.
Пока Лумис работал над радаром, команда в Англии приближалась к завершению создания радарной системы в национальном масштабе. Стимулом к изобретению англичанами радара стали отчасти публичные призывы к министерству авиации провести исследования по использованию лучей смерти в качестве оружия. Эти запросы исходили от мало известного в ту пору бывшего члена правительства, который повсюду пророчествовал о возможных воздушных атаках на Лондон. Его звали Уинстон Черчилль. К концу 1930-х годов вдоль всего британского побережья выстроилась цепь радарных антенн.
После того как осенью 1939 года Германия маршем прошлась по Польше, а к весне 1940 года расправилась с остальной Европой, Гитлер обратил свое внимание на север. В июне Черчилль заявил в парламенте: «Полагаю, скоро начнется битва за Британию… Гитлер знает, что выиграть войну он может лишь одним способом – сломив наше сопротивление и захватив этот остров».
Слова, сказанные Черчиллем в продолжение этого выступления, считаются, пожалуй, самыми известными в ХХ веке: «Так давайте же засучим рукава и примемся за работу для того, чтобы, даже если Британская империя и Содружество просуществуют еще тысячу лет, люди все равно продолжали помнить нас и говорить об этом времени: “То был их звездный час!”».
В июле Гитлер перешел в атаку. Его генералы рассчитывали на то, что люфтваффе, вдвое превосходившее по количеству самолетов Военно-воздушные силы Англии, в течение двух-четырех недель обеспечит превосходство в воздухе, как это было повсюду в континентальной Европе. Они разрабатывали планы по вторжению в Британию сухопутных сил (операция «Морской лев»), которое должно последовать за победой в воздухе.
Победы так и не случилось. Цепь радарных антенн позволяла английской авиации обнаруживать вражеские самолеты еще до того, как они приблизятся к побережью. Данные разведки позволяли англичанам сосредоточивать свои ограниченные силы на направлениях атак. Пятнадцатого сентября (с тех пор эта дата отмечается в Англии как День битвы за Британию) были сбиты 144 немецких пилота, в то время как потери англичан составили только 13 человек. Один летчик немецкого бомбардировщика, чья эскадрилья за час потеряла треть состава, писал: «Если нам предстоят еще миссии, подобные этой, то шансы выжить будут равны нулю».
Спустя два дня Гитлер отложил вторжение в Англию на неопределенный срок. К концу октября немецкие налеты практически закончились. Это было первое поражение Германии в той войне.
В то время англо-американские отношения были весьма деликатными. Американцы все еще официально соблюдали нейтралитет, и изоляционисты оказывали на Франклина Рузвельта мощное давление, чтобы убедить его держаться подальше от войны. Американский посол в Лондоне Джозеф Кеннеди повсюду распространял слухи, что Англия вскоре сломается под ударами Германии (один из британских дипломатов называл Кеннеди «образцом двурушника и пораженца»). Вдобавок был разоблачен как германский шпион сотрудник посольства, имевший полный доступ к секретной переписке Черчилля и Рузвельта.
И все же 6 августа 1940 года Черчилль направил в США группу британских ученых. Они должны были поделиться всей имеющейся у них информацией о радарах с Альфредом Лумисом и его командой.
Эта технологическая информация придала мощный импульс работе Лумиса, и уже вскоре стала совершенно очевидна потребность в чем-то совершенно новом.
Бойня
В феврале 1941 года, спустя четыре месяца после поражения Германии в воздушной войне над Британией, Гитлер издал очередную директиву. Если Германии не удалось поставить Англию на колени бомбежками, надо уморить ее голодом, установив блокаду. Главным средством достижения этой цели должны были стать подводные лодки. К несчастью для союзников, длинноволновые радары, использовавшиеся против авиации, оказались бессильны против них. Их антенны требовали слишком много энергии и были слишком тяжелыми для установки на суда и самолеты. Звуковые локаторы тоже вряд ли могли что-то противопоставить гитлеровским подлодкам: их радиус действия был слишком мал. Кроме того, сонары не способны были обнаруживать подводные лодки на поверхности.
Потери союзников стремительно росли. Если в 1939 году было потеряно 750 тысяч тонн грузов, то в 1941 году эта цифра выросла до 4,3 миллиона тонн. Каждый месяц подводные лодки топили больше кораблей, чем союзники успевали построить. И урон становился все больше.
К концу года, 11 декабря, то есть спустя четыре дня после Пёрл-Харбора, Гитлер объявил Соединенным Штатам войну. Он дал разрешение вице-адмиралу Карлу Дёницу, командовавшему подводным флотом, топить американские корабли в Атлантике.
В отличие от Великобритании, США не приходилось в последнее время иметь дело с вражескими подводными лодками. Яркие огни парков развлечений и казино отражались в ночных водах океана, привлекая к побережью командиров немецких субмарин. Один из немецких офицеров, пораженный контрастом с Европой, где по ночам вводилось затемнение и царила кромешная тьма, писал: «На фоне огней мы видим силуэты кораблей во всех деталях. Их буквально подносят нам на блюдечке: угощайтесь, пожалуйста!»
Тринадцатого января капитан Райнхард Хардеген, командовавший подводной лодкой дальнего действия U-123, прокрался в нью-йоркскую гавань. Вскоре после полуночи он заметил приближающийся к порту корабль со всеми включенными бортовыми огнями. Хардеген посмотрел в бинокль и сказал вахтенному офицеру: «Это танкер. Огромный». Подводная лодка под его командованием слегка отошла к югу, чтобы обеспечить нужный угол атаки. С дистанции 800 метров были запущены две торпеды. Им понадобилась минута, чтобы в полной тишине добраться до танкера. Затем раздался взрыв такой силы, что субмарина покачнулась. В небо взметнулось огромное пламя, после которого в воздухе повисло черное, мрачное грибовидное облако высотой 150 метров. Танкер «Норнесс» водоизмещением 9577 тонн стал первой жертвой целой серии атак, предпринятых у американского побережья, в ходе которых горстка подводных лодок уничтожила или повредила почти 400 судов. Погибло почти 5 тысяч пассажиров и членов команд.
В своих военных мемуарах Черчилль описал возможности союзников по защите своих флотов как «безнадежные и неадекватные… Бойня продолжалась нарастающими темпами неделя за неделей».
Потери морских грузов у союзников в 1942 году достигли устрашающей цифры – 7,8 миллиона тонн. В начале 1943 года поставки продовольствия в Англию сократились до двух третьих от нормального уровня. Правительство было вынуждено ввести рационирование основных продуктов питания. Запасов нефти в стране оставалось меньше чем на три месяца, а если воспользоваться всеми неприкосновенными армейскими запасами, то на десять месяцев. Поставки черного золота открыто не обсуждались, но все командиры по обе стороны Атлантики понимали все без слов. Отсутствие нефти означало, что не будет ни самолетов, ни кораблей, ни транспорта. Страна не сможет противостоять германской военной машине. У Англии заканчивался запас прочности.
В начале марта 1943 года немецкие дешифровальщики перехватили радиограмму, в которой говорилось, что два крупных конвоя, включавших в себя в общей сложности более ста судов, движутся на восток. На их перехват вышли 43 подводные лодки. В течение 48 часов они потопили 20 судов, не понеся никаких потерь.
Английское судно «Канадиан Стар» подверглось атаке 18 марта. Один из выживших так описывает эту сцену: «Волны прокатывались по всей палубе от носа до кормы. Я видел, как людей, у которых больше не было сил держаться, одного за другим смывало и уносило в море».
Битва в Атлантике
Корабельный плотник, которому было 58 лет, решил, что шансов у него уже не осталось. «Он крикнул одному из судовых офицеров: “Прощайте, сэр, я неплохо пожил”, – а затем махнул рукой и спокойно шагнул в накатывавшую с кормы волну. Впечатление было такое, будто кит проглотил мелкую рыбешку».
В Берлине Дёниц и его штаб праздновали победу. В ходе одной атаки им удалось причинить противнику самый большой ущерб за всю историю войны.
Но это был их последний праздник.
В том же месяце, когда потопили «Канадиан Стар», бомбардировщики ВВС США В-24 «Либерейтор», оснащенные двумя новыми устройствами, разработанными Лумисом и его командой, вылетели на патрулирование Атлантики. Первое устройство представляло собой мощный радар, работавший в микроволновом диапазоне. Созданный менее чем за 30 месяцев, он мог днем и ночью сквозь облачность и туман засечь даже перископ подлодки на поверхности моря.
Однако охота за подводными лодками в бескрайнем океане требует от летчиков умения быстро определять свое местоположение и выдвигаться в заданную точку по просьбе конвоя. В случае облачности навигация по звездам невозможна. Лумис и его команда придумали следующий способ: сеть радиоимпульсов с наземных станций покрывала весь Атлантический океан, и с помощью приемника со специальным декодером пилот мог вычислить по этой сетке свое положение.
К весне 1943 года дальние бомбардировщики «Либерейтор», оснащенные микроволновым радаром и системой радионавигации, были полностью готовы патрулировать Атлантику.
В порядке очереди
Одиннадцатого мая конвой SC-130, в составе которого было 37 судов, вышел из Канады и взял курс на Англию. Спустя шесть дней германская разведка, перехватив радиопереговоры, вычислила его маршрут и выслала ему навстречу волчью стаю из двадцати пяти подводных лодок. Вечером 18 мая посреди Атлантики конвой встретился с первыми из них. Командир кораблей сопровождения Питер Греттон запросил по радио поддержку. Бомбардировщики «Либерейтор» были на месте уже через несколько часов. Ни темнота, ни туман не были помехой для их микроволновых радаров. Прежде невидимые субмарины ярко высвечивались на экранах радаров.
Греттон и бомбардировщики устраивали охоту за каждой подлодкой, которая только появлялась в поле видимости. Чтобы укрыться от глубинных бомб и пушек, подводные лодки уходили на глубину, едва завидев самолет или противолодочный корабль. Лодка U-645 радировала в Берлин: «Вынуждены до сих пор оставаться в подводном положении из-за атак самолетов, скрывающихся в низкой облачности, и кораблей сопровождения». Ей вторила U-707: «Постоянно находимся под водой». Когда «Либерейтор Р/120» по прибытии на место сразу обнаружил группу подлодок, пилот запросил по радио у Греттона информацию о приоритетах целей. Тот выдал ему целый список. Пилот пошутил: «Как говорила Мэй Уэст в одном из фильмов, “джентльмены, пожалуйста, в порядке очереди”».
На протяжении всего боя, длившегося три дня, немецкие подводные лодки так и не смогли провести ни одной успешной атаки. Дёниц в Берлине получал аналогичные радиограммы от командиров подлодок со всей Атлантики: бомбардировщики загоняли их под воду, не давая пополнить список трофеев.
Из охотников они превратились в добычу.
Двадцатого мая Дёниц дал по радио команду группе подлодок, вышедших на перехват конвоя SC-130: «Прекратить преследование конвоя». Битва была окончена. Союзники не потеряли ни одного судна. Три подводные лодки были потоплены вместе с экипажами, включая ту, на которой вышел в свой первый поход молодой офицер. Ему только что исполнился 21 год, и это был сын Дёница.
Самолеты и корабли союзников только в мае потопили в общей сложности 41 лодку – больше, чем за три предыдущих года войны. Немцы потеряли почти треть своего подводного флота, находившегося под командованием Дёница. Двадцать четвертого мая, оценив реальную обстановку, Дёниц отозвал подводные лодки из Атлантики. Позднее он писал: «Вот уже несколько месяцев подводная война неэффективна из-за действий противника. Он добился этой цели не за счет превосходящей тактики или стратегии, а за счет превосходства в научной сфере и располагает теперь самым современным оружием – средствами обнаружения».
За 90 дней потери союзников на море сократились на 95 процентов – с 514 тысяч тонн в марте до 22 тысяч тонн в июне. Дёниц признал: «Мы проиграли битву за Атлантику».
Подводные лодки больше не угрожали прохождению конвоев. Морские пути были открыты для вторжения союзников в Европу.
* * *
Радары оказали куда большее влияние на ход войны, чем можно было предположить поначалу, и их использование вышло далеко за рамки борьбы с подводными лодками. Установленные на самолетах радары давали союзникам возможность производить прицельное бомбометание днем и ночью, независимо от погоды, и разрушать вражеские склады, мосты и транспортные колонны. Зенитные орудия при поддержке радаров позволяли эффективно защищать авианосцы, что создавало решающее преимущество в ходе боев на Тихом океане.
Превосходство в области науки
В июне 1944 года Германия впервые применила для обстрела Лондона «Фау-1» – первый самолет-снаряд с реактивным двигателем и характерным пугающим звуком, который напоминал жужжание насекомого и который жертвы слышали уже издалека. Это «чудо-оружие», как окрестил его Гитлер, было разработано с огромными затратами и, по его заявлению, могло причинять ущерб противнику, оставаясь неуязвимым для вражеских самолетов. «Фау-1» стали последней надеждой Германии. Однако устройства радарного слежения на зенитных орудиях позволяли быстро обнаруживать и сбивать их.
Кроме того, радар сыграл значительную роль в Арденнском сражении в Бельгии в конце 1944 года. Это была последняя наземная наступательная операция Германии, которая застала союзников врасплох. Армия применила артиллерийские снаряды со взрывателями, оснащенными радаром. Они были сконструированы таким образом, что взрывались при подлете к цели, что позволяло повысить эффективность огня в семь раз (это то же самое, что в семь раз увеличить количество пушек). После того как была одержана победа, генерал Паттон сказал: «Эту победу за нас одержали хитрые взрыватели».
* * *
Способность созданной Бушем системы с поразительной скоростью и эффективностью реализовывать самые сумасшедшие идеи не ограничивалась только радарами. Работы УНИР по производству пенициллина, средств от малярии и столбняка тоже внесли весомый вклад, позволив снизить смертность среди солдат от болезней в 20 раз по сравнению с Первой мировой войной. Исследования ученых УНИР по переливанию плазмы крови спасли тысячи жизней на полях сражений и стали стандартной клинической процедурой после войны.
Но одно изобретение, которое до сих пор внушает восхищение и ужас, затмило все остальные.
В первые два года после открытия в 1939 году механизма деления ядер большинство физиков полагали, что оно не будет иметь никакого практического применения ни в военном деле, ни где-либо еще. Такое же решение принял и научный комитет при президенте Рузвельте, получив знаменитое письмо Эйнштейна, в котором тот предупреждал об угрозе создания нового типа бомбы.
Но результаты, полученные в 1941 году группой английских ученых-атомщиков, убедили Буша в обратном. Он подготовил доклад для Рузвельта и его министра обороны Генри Стимсона, в котором говорилось, что, хотя шансы на создание ядерного оружия невелики, США не могут рисковать и не вправе допустить, чтобы такое оружие появилось сначала у Германии или Японии. Рузвельт согласился с аргументацией Буша и поручил ему возглавить соответствующий проект. Буш разработал обширную программу исследований, которая впоследствии получила известность как «Манхэттенский проект», и, заручившись поддержкой военных и политических лидеров, передал ее военному ведомству.
Атомная бомба, появившаяся тремя годами позже, уже не смогла внести свой вклад в победу в войне в Европе. Ее роль в окончании войны в Тихоокеанском регионе до сих пор остается сомнительной, несмотря на восемь десятков лет, прошедших с тех пор. Однако если бы США проиграли в той гонке – а ведь никто не мог дать гарантий, что страны «оси» не справятся с этой задачей первыми, – то наш мир сегодня мог бы оказаться намного более мрачным местом.
Бескрайние горизонты
В ноябре 1944 года, когда о предстоящей победе над Германией можно было говорить как об уже решенном деле, Рузвельт вызвал к себе Буша.
Рузвельт: Что будет с наукой после войны?
Буш: Она будет влачить жалкое существование.
Рузвельт: И что нам с этим делать?
Буш: Надо что-то предпринимать, и как можно быстрее.
Буш знал, что до войны наука в США пользовалась очень слабой поддержкой и что будущее страны зависит от того, сможет ли она преодолеть зависимость от других стран в области фундаментальных исследований. «Мы больше не можем рассчитывать на разгромленную Европу как на источник фундаментальных знаний», – писал он.
Вскоре после этой беседы Рузвельт направил Бушу официальное письмо с просьбой разработать национальный план по поддержке науки. Президент писал, что нет никаких оснований полагать, что система, созданная Бушем в годы войны, «не может быть использована с пользой для дела и в мирное время».
Бушу в то время не было известно, что Рузвельт страдал серьезным сердечным заболеванием и, возможно, раком в стадии образования метастазов. В своем письме президент особо подчеркивал необходимость медицинских исследований:
Тот факт, что ежегодная смертность в нашей стране всего от одного-двух заболеваний намного превышает общее число потерь в боях в ходе войны, должен заставить нас осознать свой долг перед будущими поколениями…
Для разума открываются новые горизонты, и если мы будем двигаться к ним с той же дальновидностью, смелостью и страстью, с которой вели эту войну, то сможем обеспечить лучшую занятость населения и создать более насыщенную и плодотворную жизнь.
Доклад Буша под названием «Наука: Бескрайние горизонты», представленный президенту Трумэну в июне 1945 года, спустя два месяца после смерти Рузвельта, и опубликованный месяцем позже, стал сенсацией. В нем говорилось, что в стране отсутствует государственная политика в сфере науки. Филантропия и частный бизнес уже не могут рассматриваться как источники финансирования фундаментальных исследований, которые «задают темпы технического прогресса» и крайне важны для национальной безопасности, экономического роста и борьбы с болезнями. В докладе была намечена архитектура новой национальной системы научных исследований.
Спустя несколько дней после опубликования доклада последовали отклики в крупнейших новостных изданиях. New York Times подвергла сомнению его выводы и прочитала нравоучение о природе науки Бушу (и его соавторам, в числе которых был 41 доктор наук): «Научные методы всегда одинаковы, независимо от того, о чем идет речь: о радаре или болезни. В докладе доктора Буша этот факт игнорируется». Times указала, что есть и более совершенные модели: «Советская Россия подходит к этой задаче с бо́льшим реализмом».
Пожалуй, только журнал Business Week, дав высокую оценку Бушу как «практичному бизнесмену и ученому», подчеркнул, что «Бескрайние горизонты» представляют собой «эпохальное явление», и этот доклад должны прочесть все американские бизнесмены.
1
Термин «франшиза» привычно используется для краткости в кинопроизводстве, разработке лекарств и некоторых других видах бизнеса. Причина его использования будет разъяснена ниже.