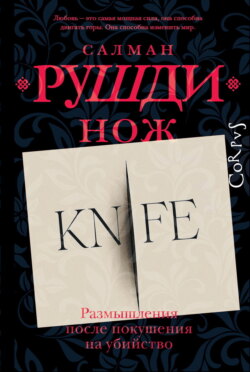Читать книгу Нож. Размышления после покушения на убийство - Салман Рушди - Страница 3
Часть первая
Ангел смерти
2. Элиза
ОглавлениеВ сборнике эссе “Языки правды” я описал рождение фестиваля американского ПЕН-клуба “Голоса мира” и то, чем это было вдохновлено. Чтобы не повторяться, я лишь скажу, что, если бы Норман Мейлер не был в далеком 1986 году президентом ПЕН-клуба, не сумел бы найти бешеные деньги и не пригласил бы в Нью-Йорк блестящую плеяду самых крупных писателей со всего мира на тот легендарный конгресс, где Гюнтер Грасс и Сол Беллоу разругались друг с другом из‑за нищеты в Южном Бронксе, Джон Апдайк использовал маленькие синие почтовые ящики Америки как метафору свободы, разозлившую значительную часть публики, посчитавшей ее местечковой, Синтия Озик обвинила бывшего австрийского канцлера Бруно Крайского (который сам был евреем) в антисемитизме из‑за того, что он встречался с Ясиром Арафатом, Грейс Пейли сердилась на Нормана из‑за того, что в работе секций принимает участие слишком мало женщин, а Надин Гордимер и Сьюзен Сонтаг не соглашались с ней, поскольку “литература – не тот работодатель, что предоставляет равные возможности”; и если бы я сам не был там переполненным благоговения ребенком, если бы не было тех диких дней в отеле “Эссекс-хаус” на Сентрал-Парк-Саут, у меня никогда не возникло бы мысли организовать международный литературный фестиваль восемнадцать лет спустя в городе, где проходят международные фестивали, посвященные всему чему угодно, кроме – до того момента – литературы. Если бы я не начал заниматься созданием этого фестиваля с помощью Майка Робертса и Эстер Аллен из ПЕН-клуба и многих других его членов, если бы он не стал успешным ежегодным литературным аналогом бейсбольного “Поля его мечты” из одноименного фильма (“Если вы его построите, они придут”) … тогда бы, по всей вероятности, я никогда не встретил Элизу. Но все это случилось, и таким образом я повстречал ее майским днем 2017 года в зеленом зале университета Купер-Юниона перед открытием фестиваля. Возможно, все это произошло лишь для того, чтобы мы смогли встретиться. В таком случае я должен признать, что своей счастливой судьбой мы обязаны Норману Мейлеру.
Я возглавлял этот фестиваль на протяжении первых десяти лет его существования, а затем передал руководство в надежные руки других, первым из которых стал Колм Тойбин. К 2017 году моей единственной обязанностью сооснователя было провозгласить начало церемонии открытия и вывести на сцену первых выступающих – прекрасного сирийского поэта Адониса (Али Ахмада Саида Эсбера), который должен был читать свои стихи на арабском, а также человека, который будет декламировать его стихи в английском переводе, совершенно неизвестную мне афро-американскую поэтессу Рэйчел Элизу Гриффитс. Я подошел поприветствовать Адониса (на французском, он не говорит по‑английски) и был одарен ослепительной улыбкой женщины, стоявшей рядом с ним, она пожала мою руку и представилась: “Элиза”.
Читатель! Эту улыбку нельзя было не заметить.
Она предпочитает, чтобы ее называли ее вторым именем, сказала она, потому что так ее всегда называла мама. Вообще‑то я также использую свое второе имя, так что это нас объединяет. Никто никогда не называл меня Ахмед, кроме моей матери, когда она на меня сердилась, но и тогда она произносила оба имени сразу: “Ахмед Салман, иди сюда сейчас же!” За годы я составил у себя в голове список известных людей, пользующихся вторыми именами – Джеймс Пол Маккартни, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Робин Рианна Фенти, Ф. Мюррей Абрахам, Лафайет Рон Хаббард, Джозеф Редьярд Киплинг, Эдвард Морган Форстер, Кит Руперт Мёрдок, Томас Шон Коннери, Рэйчел Меган Маркл. Иногда (возможно, излишне часто) я перечисляю людей из этого списка, это мой давний трюк, но что‑то в улыбке Элизы удержало меня, и я не пошел по этому пути.
Не выпендривайся, сказал я сам себе.
Мудрое решение.
И еще немного об именах. Как мне предстояло скоро узнать, отец и все члены ее семьи, да и почти что все друзья, называют ее Рэйчел. Но она попросила меня назвать ее Элизой, и я так и продолжаю это делать. Смерть матери в 2014 году стала главным потрясением в ее жизни, и пережитое вдохновило ее на создание пятой книги стихов “Рассматривая тело”: она хотела оставаться материнской версией самой себя. И это была “Элиза”. Мама часто называла ее так, потому она захотела быть ею, находилась в процессе становления.
Я бы сказал, что на данный момент счет Рэйчел – Элиза где‑то 50:50. Элиза набирает очки.
Тем вечером в зеленом зале никто из нас не думал ни о чем романтическом. Про нее я знаю точно, что же до меня, я был в разводе уже почти пятнадцать лет, а за последние полтора года даже не посмотрел ни в чью сторону. Незадолго до этого я разговаривал со своей сестрой Самин – она на год младше меня, но сама считает себя моей “сильно младшей сестрой”, – и мы оба сошлись на том, что романтические главы нашей жизни, видимо, остались в прошлом. Для нас это было нормально, мы были с этим согласны. Что касается меня, у меня была хорошая жизнь – двое прекрасных сыновей, любимая работа, милые друзья, красивый дом и достаточно денег. Прежние скверные дни остались в далеком прошлом. Мне нравился Нью-Йорк. В этой картине не было изъянов. Там всего хватало. И мне не нужна была в этом пейзаже еще одна фигура – спутница, любовница, – чтобы он стал завершенным. Всего было более чем достаточно.
Так что я совсем не искал любви. На самом деле я активно и решительно не искал ее. Вот когда она подошла ко мне со спины и вмазала в ухо, я не смог ей противиться.
Как сказал бы Мандалорец о любви: Вот как оно бывает.
Когда программа “Голоса мира” завершилась, публика вышла на Купер-сквер к статуе Питера Купера, наблюдавшей со своего постамента за проходившим там пикетом в поддержку движения Black Lives Matter[6], участники которого держали зажженные свечи. Дух молодого Трэйвона Мартина, убийцу которого, Джорджа Циммермана, освободили, что и послужило началом движения, впоследствии превратившегося в BLM, витал в воздухе. Мы с Элизой присоединились к толпе и вместе взяли свечу. Я попросил кого‑то сфотографировать нас на мой айфон, и я сейчас рад, что у меня есть фотография этого момента, пусть тогда еще ничего не произошло – или, точнее сказать, казалось, что ничего не произошло. Мы некоторое время подержали свечу, и затем каждый пошел своей дорогой.
Вечеринка ПЕН-клуба, посвященная завершению мероприятия, проходила на крыше отеля “Стэндард Ист-Виллидж”, совсем рядом с университетом Купер-Юнион. Я встретился с Марлоном Джеймсом и Колумом Маккэнном, выпил с ними в баре на первом этаже отеля и подумал: Может, я просто поеду домой. Они сказали, что идут наверх на вечеринку и буквально принудили меня пойти, хотя бы на чуть‑чуть. Я немного помычал и похмыкал, но потом согласился.
В такие судьбоносные моменты жизнь может перемениться. Случай влияет на нашу долю ничуть не менее фундаментально, чем выбор или такие несуществующие вещи, как карма, кисмет и судьба.
Когда я поднялся наверх, на вечеринку, первым человеком, которого я увидел, была Элиза, и после этого я не смотрел ни на кого больше. То, что не произошло – и казалось, не должно было произойти, – в зеленом зале и во время пикета, в конце концов случилось тогда, когда мы этого не ожидали. Мы погрузились в легкую беседу, совсем немного окрашенную флиртом.
Вечеринка на крыше проходила в помещении и на террасе на открытом воздухе, эти площадки разделяли раздвижные стеклянные двери во всю длину зала. Был теплый ясный вечер, я предложил выйти наружу и полюбоваться залитым огнями городом. Она шла впереди. Следуя за ней, я не заметил одну важную вещь – то, что одна из створок раздвижной двери была открыта, и Элиза прошла через нее, в то время как другая оставалась закрытой. Я спешил, пребывал в сильном смятении от компании блестящей прекрасной женщины, с которой только что познакомился, в результате чего на самом деле не смотрел, куда иду, и, думая, что передо мной открытое пространство, с силой налетел на стеклянную дверь и драматично растянулся на полу. Такая глупая смешная нелепость. У П. Г. Вудхауса есть рассказ “Сердце обалдуя”. Это название отлично подошло бы и для данного эпизода.
У меня кружилась голова. “Не отключайся, – упорно твердил я себе, – не смей терять чертово сознание!”
Очки разбились и врезались мне в переносицу, из‑за чего по моему лицу текла кровь. Элиза подбежала ко мне и стала вытирать кровь с моего носа. Я слышал голоса, которые кричали, что я упал. Началась порядочная суматоха. Однако я не отключился. С небольшой помощью я поднялся на ноги и, потрясенный, заявил, что мне лучше взять такси и поехать домой.
Элиза спустилась на лифте вместе со мной. Подошло такси. Я сел в него.
Тогда и Элиза тоже села в такси.
“И, – как я люблю говорить, рассказывая эту историю друзьям, – с того самого момента мы вместе”.
А еще я люблю говорить: “Она в буквальном смысле отправила меня в нокаут”.
Мне кажется, это пример того, что на языке голливудских романтических комедий называют “нежной встречей”.
Очевидно, что, если бы не это болезненное столкновение с раздвижной стеклянной дверью, Элиза никогда не села бы со мной в такси. (Она полностью согласна с этим утверждением.) Она поехала, поскольку беспокоилась обо мне и хотела удостовериться, что со мной все в порядке.
Мы приехали ко мне домой и начали разговаривать. И проговорили, наверное, часов до четырех ночи. В какой‑то момент она сказала, что рада, потому что теперь мы можем быть друзьями. Я ответил:
– У меня достаточно друзей. Это что‑то другое.
Это возымело эффект. А, подумала она, у него достаточно друзей. Она была польщена.
Она уехала домой в Бруклин на рассвете. После ее отъезда я сделал запись. “Я думаю, что влюблен в Элизу. Надеюсь, это настоящее”.
В этой сцене в духе романтической комедии присутствуют странные совпадения с нападением – разбитые очки, кровь (гораздо меньше крови, но все же это кровь), падение на пол в помутненном сознании, люди, столпившиеся надо мной. Но есть и огромное отличие – это счастливая сцена. Она о любви.
Один из самых главных моментов, благодаря которому я понял и произошедшее со мной, и саму суть истории, которую я сейчас рассказываю, – это то, что в этой истории ненависти – а нож это метафора ненависти – противостоит, и в конечном счете ее побеждает, любовь. Быть может, эта раздвижная стеклянная дверь – аналог coup de foudre, удара молнии. Метафора любви.
Мне всегда было интересно писать о счастье, во многом потому, что делать это очень трудно. Французскому писателю Анри де Монтерлану принадлежит известное выражение “Lе bonheur écrit à l’encre blanche sur des pages blanches”. Счастье пишет белыми чернилами по белым страницам. Иными словами, ты не можешь сделать так, чтобы оно появилось на странице. Его нельзя увидеть. Оно не показывается. Что ж, думал я, это вызов. Я начал писать рассказ “Белые чернила на белом листе”. Его главного героя звали Генри – знак почитания в адрес Монтерлана, а также Генри из “Песен сновидений” Джона Берримена. Я хотел, чтобы мой Генри страдал от счастья так же, как люди страдают от неизлечимой болезни или глупости. Я думал о вольтеровском “Кандиде” и хотел, чтобы Генри, в духе Кандида, считал, что живет в лучшем из всех возможных миров. Я думал, что Генри никак не может быть цветным, раз может быть вот так счастлив. Он должен быть белым.
Я написал первый абзац: “Генри Уайт был белым и счастливым. Долгое время про него можно было сказать только это. Все окружавшие его люди испытывали несчастья, о которых можно было рассказывать, а он был доволен жизнью и потому оставался своего рода белым пятном. Никто не знал, что с ним делать. Он был белым и счастливым с того самого дня, когда появился на свет. Однако сам он не думал о том, что он белый, ведь белый – цвет кожи людей, считающих, что думать о том, какой у них цвет кожи, неважно, ведь они просто люди; цвет – это то, о чем думают другие люди, которые не просто люди. Счастье было природой Генри, природой человека, которого никогда не подводило счастье и который думал о себе как о человеке, приговоренном иметь его, о чем было сказано в Декларации задолго до его рождения. Рядом с семейным почтовым ящиком на своей лужайке в Новой Англии, немного в стороне от дома, принадлежавшего стоматологу, на фасаде которого красовалась табличка «Зубная боль», он установил свою собственную деревянную табличку. Надпись на ней гласила: «Счастливый дом»”. (Сноска: моя тетушка Баджи жила в доме, который тоже назывался “Счастливым домом”, он располагался в Карачи, Пакистан, на Дипчанд-Оджха-роуд, и было это миллион лет назад.)
На этом месте я остановился. Быть может, я допишу этот рассказ, а быть может, и нет. Я много думал о Генри, о Генри Берримене и о своем.
Однажды на платане я был счастлив,
Я был на самой верхушке и пел,
– говорит нам Берримен в самой первой “Песне сновидений”. А чуть позднее появляется и Индия-Генри:
И Генри был счастлив, рядом с ней в потрясении
Рядом с собой, со своими возможностями;
Он слал свой “салам” начинающемуся рассвету,
И прокаженные сквозь дождь слали свой “салам” ему.
Я хотел совершить с Генри ужасные вещи в своем “Кандиде” – хотел, чтобы у него умерли родители, чтобы он утратил свою удачу, чтобы его прекрасная Кунегунда бросила его, а после заболела сифилисом и потеряла все зубы. Я хотел, чтобы его почти убило во время землетрясения в Лиссабоне, чтобы прокаженные ограбили его и потешались над его страданьями. Я хотел, чтобы он был уничтожен тем же оружием, что дала ему его белая кожа, чтобы он стал смотреть на мир глазами небелого, сделался Генри не-Уайтом. Если после всего этого он остался счастливым и продолжил взращивать свой сад, тогда его счастье, а быть может, и все счастье как таковое, есть блаженное безумие. Морок. Наш мир ужасен, так что счастье – это ложь. Быть может, в конце будет то же, что у Берримена, – мост, чтобы с него спрыгнуть и чтобы все было кончено.
По крайней мере такое счастье-безумие не должно писать белым по белому.
Я так и не дописал этот рассказ. Он до сих пор живет где‑то в скрытой части моего мозга.
Думаю, я прекратил писать его потому, что что‑то совершенно невозможное произошло со мной благодаря нашей счастливой встрече с Элизой: я стал счастливым. Счастье сделалось теперь и моей собственной историей, а не только историей моего героя, и оно совсем не писало белым по белому. Оно пьянило.
Я был счастлив – мы были счастливы – на протяжении пяти с лишним лет. А потом одна из тех катастроф, которые я хотел наслать на моего Генри, обрушилась на меня самого. Сможет ли наше счастье выдержать подобный удар? И если да, не будет ли оно мороком, попыткой отвести взгляд от ужаса этого мира, который нож сделал столь очевидным? Что может значить быть счастливыми, переживая последствия покушения на убийство? Что может значить – и как может отразиться на нас – перестать быть счастливыми?
12 августа 2022 года эти вопросы показались бы мне абсурдными, реши я поразмыслить над ними. В тот день казалось, что никакая часть меня не уцелеет.
Она была красива, но ее отношения с красотой, как она рассказывала, всегда были сложными. Она любила Рильке, который считал, что “с красоты начинается ужас. Выдержать это начало еще мы способны; мы красотой восхищаемся, ибо она погнушалась уничтожить нас”.[7]
Она состояла из красоты и ужаса в равной пропорции. Я заказал все книги ее стихов, прочитал их и понял, что ее дар, ее природа, ее присутствие в мире уникальны. Она написала:
Я – женщина вне закона,
Танцующая танец теней. Моя жизнь слишком
стремительна, чтобы образовывались синяки. Вот так
Называют коллекционеров прекрасного.
Я чувствовал себя Али-Бабой, узнавшим волшебные слова, открывающие вход в пещеру с сокровищами – Сезам, откройся, – а в ней – от блеска слепило глаза – нашедшим сокровище, и этим сокровищем была она.
Мне очень повезло, что я тоже ей приглянулся. Через несколько лет отец спросил у нее, как мы полюбили друг друга, и она сказала, что вскоре после знакомства мы вместе ужинали в ресторане и она поняла, что все, чего она хочет, – это провести оставшуюся жизнь с этим мужчиной. Так что каждый из нас получал и давал любовь. Самый прекрасный обмен дарами.
События развивались быстро. Наши жизни слишком стремительны, чтобы образовывались синяки. Прошло всего несколько недель, и мы уже жили вместе, несмотря на то что у нас обоих на самом деле синяки были. (Если говорить исключительно обо мне, у меня остались боевые шрамы от моего изменчивого романтического прошлого.) Наши друзья призывали нас быть осторожнее. Ее друзья, начитавшись недобрых и неправдивых слов обо мне в прессе, предостерегали ее на мой счет. Мои, видевшие, как часто и глубоко я бывал ранен в прошлом, встревоженно интересовались: Ты уверен? Возможно, мир неизбежно становится на этот путь, когда новорожденная любовь – не первая, не юная, не невинная, а следующая за горьким опытом. Будьте осторожны, предупреждал нас мир. Не получите новых ударов.
Но мы двигались дальше, лодчонки против течения. Что‑то очень сильное пришло в наши жизни, и мы оба это знали. Со временем она познакомилась с моими друзьями, а я с ее, и предостережения больше не звучали. Недель через шесть после моего столкновения со стеклянной дверью мы отправились в центр, в китайский ресторан в Трайбеке, с женщиной, которая была ее самой близкой подругой, поэтессой Камилой Аишей Мун, автором двух высоко оцененных поэтических сборников – “Свет луны и грязь” и “У нее нет имени”. Аиша, еще одна среди тех, кто предпочитает свое второе имя, была старше и печальнее Элизы (она звала ее Рэйчел), но они были близки, словно сестры. Мы с ней довольно мило передразнивали друг друга, и вечер получился приятным и наполненным смехом. А когда Элиза ушла в уборную, Аиша тут же подалась вперед, чтобы заглянуть мне в глаза и сказать невероятно серьезно: “Ты уж веди себя с ней как следует”.
Мир поэтов, начал я открывать для себя, гораздо более замкнут, чем мир прозаиков. Поэты, казалось, все друг друга знают, читают друг друга, тусуются вместе, постоянно совместно проводят чтения и прочие мероприятия. Поэты звонят друг другу поздно ночью и сплетничают до зари. Прозаику, годами просиживающему в комнате в одиночестве и лишь изредка поднимающему голову посмотреть поверх перил, поэты кажутся удивительно склонными сбиваться в стаи, они напоминают традиционную семью или общину. А внутри большой поэтической общины круг Черных поэтов оказывается еще более тесным и склонным к взаимовыручке. Как много они друг о друге знают! Как интересуются творчеством друг друга, как сильно переплетены их жизни! Очевидно, что в поэзии речь идет о меньших деньгах, чем в прозе (если ты не Майя Энджелоу, Аманда Горман или Рупи Каур), и похоже, что экономическая “узость” этого мира рождает более глубокие связи между людьми. Такому можно позавидовать.
Пересечение границы Поэтляндии и Прозавилля часто предполагает путешествие через Воспомистан. Мемуары на сегодняшний день стали важным жанром в искусстве, они позволяют нам пересмотреть свое восприятие настоящего сквозь призму личного жизненного опыта, нашего уникального прошлого, воспоминаний. (Одним из последних примеров может служить “Как сказать «Вавилон»” Сафии Синклер – мощные, написанные богатым языком воспоминания о взрослении на Ямайке и необходимости оторваться от склонного к тирании отца-растафарианца.)
Элиза была другой. Она всегда хотела писать романы, рассказала она мне, – когда она начала грезить о том, чтобы стать писательницей, именно это было ее мечтой. Она писала прозу всю свою жизнь, на самом деле начала раньше, чем стала сочинять стихи; однако теперь, когда она была автором пяти поэтических сборников – четыре из них увидели свет до нашей встречи, пятый, “Рассматривая тело”, был в процессе публикации, – пришло ее время прозаика.
Я быстро понял, что ее высоко ценят товарищи-поэты. Однако я отчасти разделял и расхожее мнение о том, что лишь немногим поэтам удалось успешно перейти в мир прозы. (Мне известен и непреложный факт, что очень, очень немногие прозаики способны перейти в мир поэзии. За свою жизнь я опубликовал одно стихотворение, и совершенно незачем говорить о нем что‑либо еще.) Так что, когда Элиза сказала мне, что закончила черновой вариант своего дебютного романа, я – скажем так – начал нервничать.
Она нервничала тоже и какое‑то время не хотела давать мне прочитать черновик. Мы оба знали, что практически невозможно двум писателям жить вместе, если им не нравится творчество друг друга, – и под “нравится” я подразумеваю здесь “по‑настоящему нравится, до влюбленности”. Но в конце концов она дала мне текст, и, к своему облегчению, я смог искренне сказать, что нахожусь под впечатлением. Вскоре после этого я узнал, что она известна также как уникальный фотограф и прекрасная танцовщица, что крабовые кексы, которые она готовит, стали легендой и что она также поет. Никто и никогда не хотел слушать, как я пою, или смотреть, как я танцую, или попробовать мои крабовые кексы. Будучи человеком, который умеет делать всего лишь одно дело, я был потрясен многогранностью ее талантов. Мне стало ясно, что наши отношения не были отношениями равных, а скорее отношениями, где я не дотягивал. И даже лучше: это были отношения, строящиеся не на конкуренции, а на всемерной взаимной поддержке.
Счастье.
Существует разновидность глубокого счастья, которая предпочитает приватность, оно расцветает вдали от людских глаз и не ищет оценки со стороны: счастье, предназначенное исключительно для тех, кто его испытывает, и этого, самого по себе, достаточно. Я чувствовал себя больным от того, что мою личную жизнь препарируют и рассматривают чужие люди, что я связан злобой их длинных языков. Элиза была и есть очень закрытый человек, и больше всего она опасалась, что из‑за меня ей придется отказаться от свойственной ей приватности и купаться в кислотном свете публичности. Я слишком долго жил в этом ярком свете без тени и также не хотел для нее такой участи. Я и для себя ее не хотел.
Что‑то странное случилось с самой идеей приватности в наше сюрреалистичное время. Многие люди на Западе, в особенности молодые, перестали ею дорожить, наоборот, приватность стала чем‑то обесцененным и на самом деле нежеланным. Того, что не представлено публично, попросту не существует. Ваша собака, ваша свадьба, ваш отдых на пляже, ваш ужин, интересный мем, который вы только что нашли, – всеми этими вещами необходимо ежедневно делиться.
В Индии приватность остается роскошью богачей. Бедняки, ютящиеся в тесных, перенаселенных пространствах, никогда не бывают одни. Многие обездоленные индийцы вынуждены совершать одну из самых интимных функций, свои естественные телесные отправления, на улице. Тот же, у кого есть собственная комната, должен быть при деньгах. (Не думаю, что Вирджиния Вулф когда‑то бывала в Индии, но ее афоризм остается актуален – даже там, даже для мужчин.)
Дефицит рождает спрос, и для большей части населения Земли собственная комната – в особенности для женщин – до сих пор остается предметом мечтаний. Однако на жадном Западе, где внимание сделалось чем‑то самым желанным, где погоня за подписчиками и лайками сделалась неуемной, приватность стала ненужной, нежеланной, даже абсурдной.
Элиза и я, мы выбрали быть людьми приватными.
Это не означает, что мы держали наши отношения в секрете. О них знали мои родственники и ее тоже. Знали мои друзья и ее знали. Мы вместе выходили ужинать, ходили в театры, болели на стадионе за “Янки”, посещали художественные галереи, отплясывали на рок-концертах. Вели, короче говоря, обычную для ньюйоркцев жизнь. Но мы сторонились социальных медиа. Я не “лайкал” ее, она не “лайкала” меня. В результате чего на пять лет, три месяца и одиннадцать дней мы полностью исчезли с радаров.
Мы доказали, как мне кажется, что даже в эту эпоху зависимости от внимания два человека все еще могут вести, при том довольно открыто, счастливую приватную жизнь.
А потом появился нож, разрезавший эту жизнь на куски.
Когда мне было 20 лет и я учился в Кингс-колледже, Кембридж, прославленный антрополог Эдмунд Лич был провостом этого колледжа (“провостом” на языке Кингса именовался президент). В тот год, 1967‑й, в год легендарного “Лета любви”, Хейт – Эшбери и цветов в волосах, знаменитые лекции Рейта на радио BBC читал Лич. Его выступления сделались притчей во языцех благодаря одной фразе. Вот она: “Семья, с ее ограниченной приватностью и пошлыми секретиками, является источником всех наших неудовлетворенностей”.
1967‑й не был удачным для идеи семьи годом, поскольку молодое поколение – мое поколение – либо включилось, настроилось и выпало, как рекомендовал Тимоти Лири, либо – не в Британии, но в Америке – было поставлено под ружье и отправлено во Вьетнам под музыку Country Joe and the Fish “Я чувствую, что готов умереть” (“Станьте первыми в своем квартале, чей сын приедет домой в гробу”). К ужасу консерваторов по обе стороны океана семьи разрушались в результате политических протестов, совместного приема психоделических наркотиков, так называемой “контркультуры”, так что лекция Эдмунда Лича, прочитанная в самом сердце британского истеблишмента, показалась некоторым бунтарским шагом, призывом к революции.
Что касается меня, я не находил общего языка со своим отцом, который, помимо прочего, сделался склонным к агрессии пьяницей. Мы с сестрами знали о его ночных приступах ярости, однако наша мама сделала все, чтобы оградить нас от них. Мы знали, что вечерами следует держаться от него подальше. Знали, что, если у отца красные глаза, лучше за завтраком помалкивать. Но мы очень редко – считаные разы – испытывали всю мощь его гнева, порожденного виски. Когда в январе 1961 года мы с ним прилетели в Англию, где я должен был учиться в школе-интернате, мы провели вместе несколько дней в Лондоне перед началом семестра. Мы жили в одном гостиничном номере, и я скоро понял, что виски “Джонни Уокер” будет также проживать вместе с нами.
Эти холодные январские ночи в отеле “Кумберленд” меня сильно травмировали. Мне предстояло просыпаться от того, что отец ранним утром трясет меня, когда они с “Джонни” дошли до дна бутылки, предстояло выслушивать в свой адрес оскорбления на языке, которого я прежде не слышал, словами, которые, как я полагал раньше, вообще не должны были быть известны моему отцу, не то что произноситься в адрес своего первенца и единственного сына. Все, о чем я мог думать, – как бы удрать от него, и я больше никогда не переставал думать об этом. Когда в 1968 году я окончил Кембридж, он не приехал на выпускную церемонию и не купил ни одного билета на самолет, ни для моей матери, ни для моих сестер, так что я стоял в одиночестве со своим дипломом на лужайке Королевского колледжа, окруженный счастливыми семейными группами, праздновавшими успех моих товарищей.
Источник всех наших неудовлетворенностей, думал я. Да, именно так.
После выпуска я долго не возвращался домой, а решил устраивать свою жизнь в Англии. Еще много лет после этого семейная жизнь – или скорее поиск в ней стабильности – давались мне нелегко. Были браки, разводы. Мой отец умер, и в последнюю неделю его жизни у нас состоялось знаменательное, хотя и слишком короткое, воссоединение. И все же здесь неподходящее место, чтобы сообщать слишком много частных подробностей либо раскрывать пошлые секретики. Я лишь скажу: мы не были бы теми, кто мы есть сейчас, если бы с нами не произошли несчастья нашего прошлого.
К моменту, когда я встретил Элизу, вокруг меня сплотилась маленькая любящая семья: двое моих сыновей, моя сестра, две ее дочери, начало подтягиваться и следующее поколение. Они стали сердцем всей моей жизни, которое лишь окрепло благодаря нестабильности прошлых лет. И все они тут же полюбили Элизу. Их так не воодушевляли одна или две ее предшественницы. (Мой сын Милан принадлежит к тому сорту молодых людей, которые говорят то, что на самом деле думают. “Папа, – сказал он однажды, – у тебя столько потрясающих друзей-женщин, они все восхитительны, с ними тепло, они умеют произвести впечатление, они действительно мне нравятся”. И добавил, выдержав идеальную для комического эффекта паузу: “Так почему же ты встречаешься не с такими женщинами?”)
А когда он и все остальные члены моей семьи познакомились с Элизой, они стали говорить мне: “Наконец‑то”. (Тогда Элиза заказала для меня футболки с надписью НАКОНЕЦ-ТО.)
Когда я познакомился с семьей Элизы – с ее отцом, еще тремя детьми и их половинками, – они как раз переживали последствия тяжелой утраты, смерть матери Элизы, Мишель. Даже тогда это была дружная, любящая семья, они глубоко участвовали в жизнях друг друга, будучи щедро одаренными многими талантами. Элиза была старшей из четверых детей. Ее брат Крис еще до того, как ему исполнилось сорок, сделался партнером в юридической фирме и к тому моменту был первым и единственным чернокожим, который когда‑либо сидел на судейской скамье в Верховном суде Делавэра; брат Адам был талантливым художником и автором графических романов; сестра Мелисса успешно работала в сфере финансов. Их отец Норман, ныне пенсионер, также был юристом и успешным политиком, которого в его родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, не раз выбирали на ответственные посты.
Они все тепло приняли меня. Норман признался Элизе, что никогда не видел ее более счастливой и, если причина этого – я, его устраивают наши отношения. Мелисса вторила ему, словно эхо: “Попробуй заметить, как счастливо звучит твой голос, – сказала она Элизе однажды, – вы оба прекрасно друг другу подходите”.
Я понравился ее семье! Она понравилась моей семье! Наше счастье во многом основывалось на силе, которую может дать семья. Я чувствовал, что оставил Эдмунда Лича за спиной. Семья больше не была источником моих разочарований.
Но…
Представлялось ли возможным – было ли это просто приемлемо или этично – говорить о счастье в разгар пандемии? Мы оба заразились и успешно вылечились от вируса COVID-19 в самом начале, в марте 2020 года. Это было непросто. Я болел очень сильно, потом заразилась Элиза, но, даже будучи больной, она продолжала заботиться обо мне. Позже она призналась мне: “Были моменты, когда я думала, что мы не справимся, думала, что, может быть, это конец”. Но мы справились. Каждый вечер люди стучали по кастрюлям и сковородкам, выражая свою признательность медикам, работавшим на передовой. Мы присоединились к ним, чтобы отметить в том числе наше собственное выздоровление.
А потом ангел смерти постучался в каждую дверь. Никто не знал, как победить смертельный вирус. Врачи и медсестры работали сутками и тоже умирали. Больницы стали местами, куда людей привозили умирать. Если тебя подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, шансов, что тебя с него снимут и ты будешь жить, почти не оставалось.
22 августа 2022 года я узнал, что значит быть на аппарате искусственной вентиляции легких. Было невозможно – в тот момент – думать о гигантской трагедии, которой стала пандемия, гораздо большей, чем моя собственная.
За время пандемии Элиза потеряла двух своих любимых дядюшек. В нашей семье никто не умер, но безвременно скончался один из моих близких друзей, а еще очень многие были на грани, но выжили. Моя невестка, жена Зафара, Натали, болела очень тяжело и была госпитализирована, и какое‑то время мы боялись, что потеряем ее. Ее выздоровление стало огромным облегчением, но поправлялась она очень долго и медленно. И я не мог поехать в Лондон повидаться с родными, а они не могли приехать ко мне в Нью-Йорк; это длилось два года – эти года казались столетиями.
Миллионы людей умерло, а я здесь распинаюсь о том, что счастлив? Да и помимо пандемии мир находится в состоянии кризиса. Америку раскалывают на две части радикально настроенные правые, в Соединенном Королевстве страшный разброд, Индия стремительно несется к авторитаризму, свободу повсюду атакуют подавшиеся вправо левые и накладывающие запреты на книги консерваторы, сама планета находится в отчаянном положении – беженцы, голод, нехватка воды, война на Украине. Заявлять вот в такой исторический момент: “Я счастлив” – разве это не роскошь? Не намеренная слепота, упрямая и эгоистичная? Не то самое, в чем состоит вина “Генри Уайта”, героя моего неоконченного рассказа, – счастье как форма привилегии, необъяснимая наглость? Не форма побега от реальности в узость солипсизма “возделывать свой сад”? Какое право имеет человек претендовать на подлинное счастье в нашем практически постоянно несчастном мире?
И все же сердце знало то, что знало, и настаивало на своем.
В субботу 1 мая 2021 года мы с Элизой отмечали нашу четвертую годовщину. Так, как могли это сделать в условиях продолжающихся пандемийных ограничений. Мы решили ненадолго поселиться в отеле с видом на парк. Нам повысили категорию забронированного номера до сьюта на 25‑м этаже, так что вид оттуда открывался сказочный. После ужина Элиза смущаясь напомнила мне, что несколько месяцев назад я спросил у нее, какой размер колец она носит. Я хотел знать это в качестве общей информации, уточнила она, или сейчас, по прошествии четырех лет, этот вопрос был задан с какой‑то конкретной целью?
– Подожди минутку, я сейчас вернусь – ответил я, встал и отправился в спальню.
Мой внезапный уход вкупе с бесстрастным выражением лица заставили ее переживать. Не дала ли она маху, размышляла Элиза. А потом я вернулся, протянул ей маленькую фиолетовую коробочку и сообщил ответ на ее вопрос. Это был один из очень немногих моментов, когда мне удалось ее полностью удивить.
Так произошла наша помолвка высоко в небесах над Центральным парком, и в каком бы положении ни пребывал тогда мир, никто бы не мог сказать, что мы не самые счастливые из людей.
– Ты – мой человек, – сказала она.
– Ты – мой человек, – ответил я.
Как сыграть приватную свадьбу в век нулевой приватности: 1. Не делай этого в Нью-Йорке. 2. Сделай это в Уилмингтоне, штат Делавэр, где выросла Элиза и никто не слышал твоего имени. Когда мы пришли получать свидетельство, дама-чиновница вписала в него мое имя, явно услышав его впервые. Мне пришлось диктовать ей его по буквам. 3. Пригласи своих друзей на обед и предупреди: никаких соцсетей.
Вот и все.
Мы поженились в пятницу, 24 сентября 2021 года, об этом знали все наши друзья и родственники, однако это ускользнуло от широкой общественности и оставалось неизвестным для нее на протяжении почти что года, и, наверное, продолжало бы оставаться таковым и по сей день, если бы не нож.
Это был чудесный день. Погода, наши друзья, церемония, радость. Мы объединили две наши традиции – надели друг на друга гирлянды (индийская традиция) и перепрыгнули через веник (афро-американская). Она произнесла адресованную мне речь в стихах – поэтический дар – ее суперсила, – и, чтобы поддержать величие момента, я включил в свои гораздо более прозаические слова, обращенные к ней, стихотворение э.э. каммингса “я ношу твое сердце в себе (твое сердце в моем)”:
я ношу твое сердце в себе (я ношу
его внутри своего) я не отпускаю его никогда (всюду
куда я иду идешь со мной ты, дорогая; и все что сделано
мною это то что сделала ты, моя любимая)
я боюсь
не судьбы (ведь моя судьба это ты, моя милая) я хочу
не миром владеть (ведь мой мир это твоя красота, моя настоящая)
это ты есть все то что вовеки несет нам луна
и все о чем только поет нам солнце тоже ты
это самый страшный секрет о котором не знает никто
(это корень всех корней и ствол всех стволов
и небо всех небес у дерева которое зовется жизнью; оно вырастает
выше чем может верить душа и разум втайне стремиться)
это то чудо что сохраняет все звезды на небе
я ношу твое сердце в себе (я ношу его внутри своего)
Моей семьи не было на свадьбе, поскольку в это время США из‑за коронавируса не допускали на свою территорию иностранцев. Мы взяли на церемонию ноутбук и установили его на подиуме, так что они наблюдали за всем происходящим из Лондона посредством новшества, именуемого Zoom и ставшего столь необходимым. Друзья и члены семьи говорили весело и трогательно. Сестра Элизы по поэтическому цеху Араселис Гирмай зачитала поэтический коллаж из многих стихотворений. После того что Хемингуэй назвал бы изысканным обедом (мы ели с благодарностью, и еда была отличной), мы, то есть Элиза, я и ее семья вместе с фотографом и его ассистентом отправились делать свадебные фотографии в изящный сад Мариан Коффин у подножия огромного здания под названием “Гибралтар”, которое сейчас пустует и ветшает. Через пару дней мы улетели в Лондон, где провели небольшое послесвадебное торжество для моей семьи и друзей по ту сторону океана. Я чувствовал, что моя жизнь получила новое начало.
Однако горе поджидало нас, до него оставалось меньше года.
Милан, Сардиния, Капри, Амальфи, Рим, Умбрия. Лето 2022 года. После затяжного пандемийного ретрита Италия казалась чудом, она заключила нас в жаркие дружеские объятия. Очень жаркие, если быть точным. Жара стояла аномальная, реки пересохли. Было невозможно выйти на улицу на полуденное солнце. Но Италия обновила нас. Она забирает у тебя старые поношенные части, вместо которых на нужных местах вырастают новые. Италия была улыбкой и праздником. Италия была музыкой. Мы провели там месяц. В Милане мы ужинали в моем излюбленном ресторанчике “Риголо” в районе Брера, и мне было приятно, что его владельцы вспомнили меня. На Сардинии я отметил свой семьдесят пятый день рождения в доме своих дорогих друзей среди гористого пейзажа, напоминавшего мне мир в романе, который я только что закончил, а хозяин, Стив Мерфи, в качестве подарка на день рождения спел, аккомпанируя себе на гитаре, одну из моих любимых песен Боба Дилана “Love Minus Zero/No Limit”. В Амальфи и Равелло мы снова встретили старых друзей, Альбу и Франческо Клементе, ночью на фестивале, посвященном святому Андрею. В 1544 году этот святой наслал шторм, разрушивший флот сарацинов, прибывший сюда, чтобы завоевать город, и с тех пор является святым покровителем для всех местных жителей, что ходят в море. Сначала люди подносят его статую к воде на паланкине, чтобы он мог благословить лодки. Затем проносят святого по улицам города и, наконец, поднимают по крутым ступеням в собор – любой неверный шаг, и произошла бы беда, но никто не сделал неверного шага. После шествия со статуей святого был фейерверк, мы смотрели его с террасы дома Альбы, расположенного высоко на горе над городской площадью, и нам казалось, что удивительные вспышки сверкают непосредственно перед нами. В Риме было слишком жарко, чтобы просто двигаться, и я купил Элизе веер (в Милане я купил ей сумку). В Умбрии мы участвовали в знаменитом писательском ретрите Чивителла Раньери, который проходит в замке XV века, принадлежащем семье Раньери. У них есть другой замок, где они живут, так что это их второй, запасной замок, но для нас он оказался весьма хорош. Мы отлично поработали там и приобрели много новых друзей. Днем мы писали, а вечером наступало время хорошей еды, вина и разговоров далеко за полночь. Я играл в пинг-понг с писателями в два раза моложе и не посрамил себя. В один из дней мы съездили в Ареццо и осмотрели фрески работы Пьеро делла Франческа, отдали должное памятнику Гвидо из Ареццо, изобретателю современной системы нотной записи, нотные станы, музыкальные ключи и все прочее. Я правил верстку “Города Победы”, и мне она нравилась.
Вырвавшись из этих прекрасных объятий, мы вернулись в Америку, поскольку Элиза создала фото- и видеоработы, которые составили визуальный ряд к “Кастор и Пейшенс”, новой опере, созданной Грегори Спирсом на стихи подруги Элизы, поэтессы Трейси К. Смит. Премьера оперы должна была состояться в Цинциннати в четверг 21 июля. Смена местоположения с итальянского замка на Цинциннати казалась немного радикальной, но премьера прошла успешно, и работу Элизы хвалили.
После этого нам оставалось еще двадцать дней нашей прежней жизни. Я начал планировать поездку в Лондон, чтобы повидаться с родными. В четверг 28 июля я внес самые последние, заключительные правки в верстку “Города Победы”, и роман был готов к печати. Во вторник 9 августа мы прочли, что Серена Уильямс планирует уйти из спорта после турнира U. S. Open. Конец эпохи, подумали мы вместе со всеми вокруг. В ту ночь мне приснилось, что на меня нападает гладиатор. В среду 10 августа мы устроили вечером свидание в итальянском ресторане под названием “Аль Коро”.
Мелочи повседневной жизни.
А потом, утром в четверг 11 августа, я в одиночестве улетел из аэропорта Джона Кеннеди в Баффало, откуда красивая женщина по имени Сандра отвезла меня по берегу озера Эри в Чатокуа.
Мы планировали, что Элиза поедет навестить своих родных в Делавэр, а я на неделю отправлюсь в Лондон к своим. Однако Элиза решила остаться в Нью-Йорке и устроить мне сюрприз, когда я вернусь из Чатокуа: мы сможем пробыть вместе ночь перед тем, как разъехаться по семьям. В это же время в Лондоне мои сыновья Зафар и Милан, моя сестра Самин и мои племянницы Майя и Мишка были воодушевлены моим скорым приездом, а Зафар рассказывал своей еще даже не двухлетней дочери Роуз, что скоро она познакомится с Дедушкой, что он придет на ее занятие по плаванию и будет наблюдать за тем, как она бултыхается. И мои издатели из Random House назначили мне встречу через Zoom, на которой вскоре после моего возвращения мы должны были обсудить подробности, связанные с выходом моей книги. Казалось, все шло хорошо.
А потом мир взорвался.
Подруга Элизы Сафия Синклер позвонила ей утром и дрожащим голосом спросила, все ли с ней в порядке. Так Элиза узнала, что на меня напали. А после она кричала возле телевизора, пока бегущая строка внизу экрана в эфире CNN не подтвердила эту новость. Казалось, что целую вечность было не получить подробной или надежной информации. Телефон звонил не переставая. Слухи были доступны вместо фактов, что только усиливало ее мучения. Я умер. Я ранен, но не убит. Меня поставили на ноги, и я покинул сцену в полном порядке.
В далеком Лондоне, который внезапно оказался таким далеким, как никогда прежде, словно Атлантический океан в одно мгновение увеличился в размерах, мои родные тоже нетерпеливо разыскивали новости с ужасом, написанным у всех на лицах. Они звонили Элизе, она звонила им, и никто не был ни в чем уверен. Источники Зафара в соцсетях сначала также не были надежны. Меня ударили ножом пять, нет, десять раз. Нет, со мной все в порядке. Нет, меня ранили пятнадцать раз. В Лондоне день подходил к концу, начинался вечер, большая часть моей семьи собралась дома у Самин, просто чтобы быть вместе, и правда медленно прояснилась.
Меня доставили по воздуху в ближайшую больницу. Шансы, что я выживу, были очень невелики. Это станет ясно за ближайшие двадцать четыре часа.
В Нью-Йорке Элиза пыталась найти самый быстрый способ добраться туда, где был я. Ее телефон разрывался. Это был кромешный ад.
Кто‑то позвонил ей – потом она не смогла вспомнить, кто это был – и сообщил, что ей следует поторопиться, поскольку вряд ли мне удастся выжить. Ее мир рассыпался на куски. Исполненная любви жизнь, которую мы выстраивали на протяжении пяти последних лет, подошла к жестокому концу. Ночной кошмар пересек границу между сном и явью и сделался реальностью. Картина ее мира рассыпалась, ошметки валялись под ногами.
В своей великой книге “Человек ли это?” Примо Леви говорит, что “безграничного счастья в жизни быть не может”[8], как и, по его предположению, не может быть и безграничного несчастья. В тот момент Элиза, наверное, не согласилась бы с ним. Безграничным несчастьем называлась страна, в которой она отныне проживала.
Она поговорила с моими литературными агентами, Эндрю Уайли и Джином О. Эндрю плакал. Мы дружим тридцать шесть лет, и во время того шторма, что обрушился на меня после публикации “Сатанинских стихов” и фетвы Хомейни, он оставался моим самым преданным товарищем. Мы вместе прошли ту войну, а теперь еще и это? Он не мог этого вынести. Но в тот момент надо было действовать, а не плакать. “Тебе нужно ехать туда прямо сейчас”, – сказали они Элизе. На машине дорога займет не менее семи часов. У нее не было семи часов. Единственным решением оставался самолет.
Мы не принадлежим к тем людям, что арендуют частные самолеты. У нас нет таких денег. Но в тот момент деньги не имели значения. Важно было только одно – добраться. Воспользоваться картой Amex и беспокоиться о деньгах после. Эндрю и Джин нашли для Элизы самолет. Он ждал на посадочной полосе в Уайт-Плейс, Нью-Йорк. Это обойдется в двадцать с лишним тысяч долларов. Ничего страшного.
– Поезжай, – велели они.
Она поехала, ее сестра Мелисса и муж Мелиссы Эмир Браун, скромный школьный учитель из Бруклина, поехали вместе с ней. Всю дорогу Элиза тащила с собою ношу тех слов, что услышала в телефоне – вряд ли ему удастся выжить, – слов, после которых ничто не может утешить.
В то же время в Вашингтоне ее брат Адам вместе со своим мужем Джеффом Лиже прыгнули в машину и помчались на северо-запад, по направлению к озеру Эри. В Уилмингтоне ее брат Крис тоже прыгнул в машину и помчался туда же.
Вот как повели себя родственники. Элиза (для них она Рэйчел), конечно, была в семье любимицей. Но теперь и я был их семьей, и они должны были быть там для меня так же, как и для нее.
Ей звонили из полиции штата Нью-Йорк. Звонили из полиции штата Пенсильвания. Вертолет доставил меня через границу штата в больницу Хэмот, Медицинский центр университета Питтсбурга, Пенсильвания, за пятьдесят с лишним километров от расположенного на озере Эри Чатокуа, в “единственный аккредитованный центр травмы в регионе Эри”, как пишут в интернете, который был по этой причине единственным местом, где у меня был шанс выжить.
Вряд ли ему удастся выжить.
Когда самолет сел, повсюду были полицейские машины. К этому моменту новость разлеталась по миру. В аэропорту и в больнице был установлен усиленный режим безопасности. Элизу, Мелиссу и Эмира посадили в полицейский автомобиль и повезли в Хэмот. В машине никто особо ни о чем не рассказывал. Мне не хотят говорить, что он умер, думала Элиза. Меня везут, чтобы я сама увидела мертвое тело мужа.
Я не умер. Я был на операции, и множество хирургов одновременно трудились над разными частями моего израненного тела. Моя шея, мой правый глаз, моя левая рука, моя печень, мой живот. Резаные раны на лице – лоб, щеки и рот – и на груди. Операция продолжалась где‑то около восьми часов.
И когда она закончилась, я был на аппарате искусственной вентиляции легких, но не умер.
Я был жив.
Год спустя моя невестка Натали прислала мне несколько заметок, которые она написала через несколько недель после нападения и где описала первые сутки. Когда Зафар узнал эту новость, говорит она, он был потрясен. “В нем что‑то сдвинулось”. В Лондоне было около полуночи, когда Элиза позвонила им из больницы. Она была рядом с врачом и включила громкую связь. Врач сказал всем готовиться к худшему, поскольку шансов, что я выживу, почти нет. Когда он описывал полученные мной повреждения, Натали слышала, как Элиза горестно восклицает: “Нет, пожалуйста, нет!” Той ночью Зафар и Натали лежали в темноте и “мир казался таким тяжелым, тихим и темным”. Зафар проплакал всю ночь. “Его плач звучал, как слезы ребенка, который хочет обнять своего отца, – написала Натали. – Он знал, что, если уснет, может получиться так, что его отца уже не будет с нами, когда он проснется”. Но на следующий день Элиза позвонила снова. Я очнулся и пришел в сознание, хотя все еще находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Она поднесла телефон к моему уху, чтобы Зафар смог сказать, как сильно он меня любит. Я услышал его и пошевелил большими пальцами на ногах, и когда Элиза сказала ему об этом, Зафар заплакал от радости.
Позднее мы узнали, что А. поместили в окружную тюрьму Чатокуа, отказав в возможности выйти под залог. Против него выдвинули обвинения в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах. Еще позднее мы с Элизой познакомились с Шерри, агентом ФБР, который навестил меня в больнице, чтобы заверить, что федералы работают над моим делом “не покладая рук”, чтобы привлечь его также и по статье о терроризме. Федералы и полиция штата приходили, чтобы взять у меня показания, и остались под впечатлением от того, какая у меня хорошая память. Возможно, это была простая вежливость. Еще позднее мы узнали, что “тридцать тысяч улик” были найдены у него в подвале в Нью-Джерси – все, что было в его ноутбуке, все его сообщения и мейлы, предположили мы. Все это казалось нам – казалось мне – очень абстрактным. Конкретным в эти первые дни было лишь простое: выжить.
Жить. Жить.
6
Black Lives Matter (BLM – “Жизни чёрных имеют значение”, англ.) – общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих.
7
Э. М. Рильке “Элегия Первая”, перевод В. Микушевича.
8
Перевод Е. Дмитриевой.