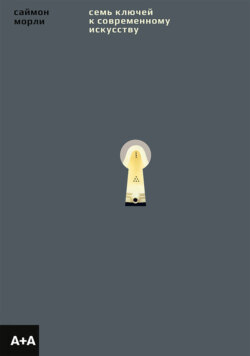Читать книгу Семь ключей к современному искусству - Саймон Морли - Страница 3
Введение
ОглавлениеЕще один путеводитель по современному искусству
Книги, подобные этой, помогают нам в понимании странного и порой пугающего феномена под названием «современное искусство», характеризующегося различными стратегиями, которые, похоже, уводят нас всё дальше и дальше за пределы привычных границ – зон комфорта художников и уж точно нас самих. Художники ставят во главу угла самовыражение и новаторство. Они возмущают, чтобы возмутить, и делают вещи, которые кажутся запредельно интеллектуальными – настолько, что часто лишь узкий круг посвященных способен их понять.
Путеводители по такому искусству акцентируют внимание на визуальных и теоретических аспектах, не бросающихся в глаза, реконструируя оригинальные замыслы художников и контексты, в которых были созданы их произведения, и в то же время пытаясь показать, насколько они важны и злободневны на сегодняшний день. Несомненно, это очень непростая задача – представить в едином комплексе объективные особенности произведения, выраженные в нем намерения художника, порождаемые им интерпретации историков искусства и критиков, а также постоянно меняющуюся культурную перспективу, которая определяет наше понимание всех этих факторов. Семь ключей к современному искусству, призванные послужить полезным руководством, дополняют другие книги, написанные с этой же целью, но идут своим путем.
Слово «ключ» в названии нашей книги предполагает метафору, согласно которой она обещает открыть значения рассматриваемых произведений. Но мы не хотели бы ограничиваться информацией, которая уже расшифрована и понятна. Напротив, задача Семи ключей – поддержать в читателе свободу размышления над затронутыми темами, быть путеводителем, который не столько указывает на то, как смотреть на художественные произведения, сколько помогает смотреть вместе с ними.
Не пытаясь кратко обозреть всевозможные художественные направления или «измы», Семь ключей фокусируются всего на двадцати произведениях искусства, которые охватывают в комплексе период с 1911 года до начала 2000-х и представляют широкое разнообразие средств, стилей, тем и замыслов, будучи созданы мужчинами и женщинами разных времен, разных сред и разного происхождения.
Разумеется, выбор этих произведений субъективен, и всё же он продиктован не только моими личными предпочтениями. «Важность» художников или признанных шедевров тоже не была для него определяющей. Скорее, произведения выбраны потому, что вместе они отражают многообразие современного и актуального искусства, предоставляя вместе с тем удобные подступы друг к другу, к другим работам тех же художников или к миру искусства в целом. Поэтому некоторые темы повторяются по ходу книги – как лейтмотивы, связующие абсолютно разные на первый взгляд явления.
В предлагаемом рассмотрении отдельных произведений искусства нет ничего необычного – необычно то, что каждое из них обсуждается с помощью одних и тех же семи ключей. Эти ключи помещают каждое произведение в несколько стандартных контекстов, полезных для их интерпретации. Каждая глава открывается вступительным обзором, объясняющим в общих чертах важность произведения, которому она посвящена, после чего оно анализируется с помощью семи ключей в том порядке, который показался мне для него подходящим. В конце каждой главы вы найдете два перечня, призванные сориентировать вас в дальнейшем: «Где посмотреть?» (здесь приведены основные музеи, где можно увидеть работы художника, которому посвящена глава, а также фильмы о нем) и «Что почитать?» (здесь перечислены избранные книги и статьи о художнике).
Семь ключей
Исторический ключ
В данном случае произведение искусства рассматривается в рамках непрерывного диалога с темами и стилями искусства прошлого. Новое часто имеет больше общего со старым, чем кажется на первый взгляд, а потому сравнение со старым или противопоставление ему – едва ли не лучший способ для понимания нового. Исторический ключ помещает произведение искусства в контекст, где оно оказывается не просто предметом материальной культуры с присущими ему эстетическими и экспрессивными качествами, но знаком или симптомом более широких социокультурных процессов и стилистических обычаев, которые действовали в период его создания. Важность искусства определяется его символичностью, а значит, его следует рассматривать, принимая во внимание динамику всего того, что сохраняется или, напротив, меняется в области кодов и стилей.
Биографический ключ
Помочь пониманию произведения может знакомство с событиями жизни его автора, которые оно до некоторой степени отражает. Существует два варианта биографического подхода: жесткий его вариант, часто называемый «заражением», исходит из того, что через знакомство с работами художника зритель получает прямой доступ к его характеру. В мягком варианте уникальность любого произведения искусства связывается с личными и локальными обстоятельствами, повлиявшими на художника, чья эмоциональная и интеллектуальная жизнь обусловливает силу его искусства, позволяющего в результате взойти к более общим социальным и психологическим проблемам.
Эстетический ключ
С точки зрения эстетики произведение искусства рассматривается в первую очередь как визуальный артефакт, обладающий конкретными пластическими или формальными свойствами, которые вызывают у нас эмоциональный или интеллектуальный отклик. Внимание в данном случае сосредоточено на эмоциональном восприятии линий, цветов, форм, текстур материалов и т. д. Эстетический ключ основывается на том, что, реагируя на произведение искусства, мы используем те же когнитивные и аффективные процессы, что и при встрече с обычными вещами и обстоятельствами, с той лишь разницей, что объект восприятия исключается из сферы практических знаний и целей. Как следствие, эстетический опыт предполагает некоторую отрешенность и рефлексию. У всего, что вызывает в нас те или иные ощущения, есть потенциал стать искусством, поскольку всё может иметь эстетическое измерение. Но то, что культура определяет как искусство, определяется социальным консенсусом, и оценка произведения в конечном счете опирается на сочетание целого ряда факторов – биологических, личных, культурных и т. д.
Эмпирический ключ
Для эмпирического ключа главное – то, каким образом произведение передает информацию сквозь время, пространство и культуру, обращаясь к базовым эмоциональным и психологическим зонам чувствительности. У этого ключа есть два аспекта. Первый – субъективный и феноменологический, рассматривающий отклик зрителя на мультисенсорный опыт, который предлагает ему произведение. Второй – анализирует подобные отклики с помощью исследования психологии и нейробиологии восприятия, воображения и творчества. Значительно влияют на то, как мы реагируем на искусство, социальные условия, определяющие значения, которые мы придаем опыту, а сам опыт, извлекаемый из знакомства с произведением, создается совместно нашими мозгом, телом и окружающим пространством.
Теоретический ключ
На сей раз в центре внимания – не эстетическое, эмоциональное или экспрессивное, а языковое и интеллектуальное отношение к искусству. Для теоретического ключа важна не столько способность искусства открывать перед нами душу художника, захватывать наши чувства или расширять потенциал наших эмоций, сколько то, как оно будит в нас мысль. Чаще всего теоретический ключ следует двумя путями. Первый путь сводится к изучению теоретических положений, принимаемых и высказываемых художниками и критиками. Произведение искусства рассматривается в данном случае как средство анализа абстрактных идей или иных нематериальных явлений вроде бытия, причинности и истины. В искусстве тем самым обнаруживается исследование первооснов, вписывающееся в контекст глубоких и вневременных вопросов о смысле жизни.
Второй путь подходит к произведению искусства с точки зрения скрывающихся за ним суждений о ценности и значении. В данном случае особое внимание уделяется институциональным рамкам, в которых функционирует произведение, социальным и политическим предпосылкам его значения и сохраняющимся в нем следам предрассудков общества, в котором оно было создано.
Скептический ключ
Никакой общепринятый взгляд не исключает сомнений, и скептический ключ исходит из того, что культурное признание никогда не следует воспринимать как должное. Оценочные суждения чаще всего формируются элитами. Даже если произведение искусства демонстрируется в музее, превозносится критиками и обладает высокой экономической ценностью, это не выводит его из-под прицела конструктивной критики. Более того, суждение о ценности произведения современного искусства неизбежно страдает неопределенностью, поскольку лишь по прошествии времени появляется необходимая дистанция, позволяющая судить о нем взвешенно. История полна примеров влияния моды на мнения об искусстве. Поэтому важно всегда сохранять скептический настрой. Этот ключ призывает читателя занимать позицию «адвоката дьявола», искать другие мнения и рассуждать об искусстве с критической точки зрения.
Рыночный ключ
Искусство глубоко вовлечено в паутину властных отношений, подразумевающих различные виды обмена. Рыночный ключ рассматривает художественное произведение как товар в капиталистической экономике и как символический и политический актив, используемый государством. Искусство действует в рамках экономической системы, которую одновременно поддерживает и, парадоксальным образом, критикует и подрывает.
Сходясь на конкретном произведении искусства, эти семь ключей смотрят на него с разных точек зрения. Иногда они оказываются несовместимы друг с другом, поскольку одна точка зрения игнорирует, оспаривает или даже отметает другую. Разумеется, каждое конкретное произведение требует своих ключей, поэтому их порядок в рассмотренных ниже случаях может меняться, но он всегда достаточно произволен и мог бы быть другим.
Исторический ключ придает суждению необходимую емкость, очерчивает широкий культурный контекст, в котором произведение соседствует с ему подобными и соотносится с символическим мировоззрением своей эпохи. В то же время он не уделяет внимания сугубо личному и зачастую решающему переживанию искусства здесь и сейчас. Эстетический ключ побуждает к размышлениям о том, что мы видим, но может вселить ошибочное мнение о том, что произведение всецело существует в некоем отрешенном от действительности мире – иллюзию, которую рассеивают биографический ключ, выявляющий в произведении сугубо человеческое измерение, и рыночный ключ, привязывающий произведение к экономике.
Конечно, я мог бы предложить и другие ключи – например, психологический, ведь Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и их последователи оказали огромное влияние на истолкование искусства. Однако психологический ключ уже в значительной степени учтен в ключах теоретическом и эмпирическом. Полезными могли бы оказаться политический и феминистский ключи, но и их точки зрения во многом представлены ключами теоретическим и скептическим. Наконец, к произведению можно было бы подобрать технический ключ, детально рассмотрев материалы и приемы, использованные в процессе его создания. Однако эстетический и эмпирический ключи уже отчасти рассматривают искусство в этом практическом ракурсе.
Помимо прочего, Семь ключей призваны отразить вклад в понимание искусства двух, возможно, самых интересных подходов к нему, предложенных в последнее время. С одной стороны, это исследования мирового искусства, для которых важен глобальный масштаб художественной культуры. Они ищут общие характеристики искусства различных культур и периодов и вместе с тем принципиальные различия между ними, обусловленные особыми в каждом случае географическими, социальными и религиозными факторами. С другой стороны, нейроэстетика опирается на данные исследований деятельности головного мозга, которые стали возможными благодаря достижениям современной биологии. Сегодня мы можем судить о том, как эволюция человека влияла на механизмы познания, и о том, как связаны возможности нашего мозга с широким социальным и природным контекстом искусства. Это позволяет нам лучше разобраться в воздействии искусства на наши мысли и чувства.
Совместными усилиями исследования мировых культур и нейроэстетика привлекают внимание к сложной корреляции между тремя взаимосвязанными уровнями опыта, которые задействованы в понимании искусства: это развитие и приспособление к миру конкретной личности; локальные культурные нормы, являющиеся результатом коллективной реакции на идущие вокруг изменения; и универсальные для всего вида особенности, основанные на константах человеческого опыта и продиктованные биологией. Эти природные данные переплетаются с внешними влияниями на отдельных людей и коллективы, отливаются в культурные формы и убеждения, которые затем непрерывно трансформируются под воздействием внутренних и внешних факторов.
Если подход, предлагаемый в этой книге, обладает оригинальностью, то она заключается не столько в самой модели семи ключей, которые как таковые давно известны, сколько в ее использовании. К каждому произведению подбираются разные ключи, сохраняющие самостоятельность и в то же время работающие в связке с другими. Они конкурируют между собой: каждый ключ стремится доказать, что именно он предоставляет лучший, наиболее проницательный и рациональный подход, и вместе с тем этот подход корректируется другими, альтернативными.
Каждый ключ самодостаточен, но остальные служат ему поддержкой. Предоставление одному из ключей полной независимости оставило бы слишком мало места для их координации и коммуникации, а безусловное объединение ключей в единый комплекс привело бы к потере гибкости. В этой книге предпочтение отдается не бинарному, а эквивалентному или комплементарному принципу, поэтому произведения всегда пребывают в промежутке между различными точками зрения на них, столкновение которых позволяет применять кажущиеся несовместимыми модели познания, сохраняя при этом их внутреннюю независимость друг от друга.
Предлагаемые нами ключи составляют сеть, внутри которой противоположности вдаются друг в друга, завязывают отношения между собой и эволюционируют в состоянии динамического становления. Древним символом подобной комплементарности является даосская оппозиция начал инь и ян. Такого рода мышление отвергает идею неизбежного выбора между единством, тождеством или синтезом, с одной стороны, и разнообразием и множественностью – с другой.
Недостатком подхода, предлагаемого в Семи ключах, может показаться то, что он не выстраивает никакой иерархии: читатель не получает синтеза, не видит авторского предпочтения в пользу одного из ключей, о каком бы произведении ни шла речь; напротив, здесь поощряется нейтральное, отстраненное и довольно сухое отношение к искусству. Но, как я уже говорил выше, моя цель – использовать каждый ключ в гибком и динамичном взаимодействии с другими, ведь только таким образом можно избежать ограничений, навязываемых рассмотрением или чтением, которое последовательно применяет аналитический или, наоборот, синтетический подход.
Совместное использование ключей позволяет сформировать своеобразный смысловой экстракт сложной мультисенсорной и когнитивной реальности каждого произведения. Само слово «ключ» можно в нашем случае понимать, исходя из его значения в мире музыки, где свой «естественный» ключ, определяемый диапазоном используемых высот звука, есть у каждого инструмента и произведения. В этом смысле образцом для нашего представления о ключе служил альбом Стиви Уандера 1976 года Songs in the Key of Life (Песни в ключе жизни).
Ценность реальности
Многочисленность и доступность изображений, предоставляемых нам сегодня цифровым миром, ошеломляют. На момент написания книги (эти показатели постоянно меняются) в Instagram загружаются в среднем 52 миллиона фотографий ежедневно, а в ответ на поисковый запрос «Mark Rothko» Google выдает 933 тысячи результатов за 0,55 секунды. Более того, мы чем дальше, тем активнее взаимодействуем с гиперреальностью, создаваемой цифровыми медиа, и даже живем внутри нее, а потому обладаем беспрецедентной свободой от ограничений материальной реальности и телесного существования. Соблазн дематериализованного и бестелесного существования огромен, но вместе с тем чрезвычайно опасен, особенно в мире, который стоит на пороге экологической катастрофы.
В такой ситуации способность ощущать и ценить физическое присутствие произведения искусства, общаться с ним «во плоти» позволяет отвлечься от сомнительного утешения виртуальной реальностью и вернуться к осознанию нашего разумного и воплощенного «я», движущегося и думающего здесь и сейчас. Произведения искусства могут помочь нам не потерять связь с подлинными мыслью и опытом, которые всё чаще забываются, подавляются, принижаются или игнорируются в культуре, раздираемой противоречивыми устремлениями. С одной стороны, ей не дают покоя практические задачи и алгоритмы – то, что принятие решений всё чаще доверяется «умным» машинам и осуществляется в абсолютной виртуальности интернета. С другой, она боится не справиться со вполне физическими угрозами: экологической катастрофой, социальными беспорядками и насилием, а также с бесконечным натиском нарциссического избытка эмоций.
Произведение искусства, если, конечно, оно не создано специально для цифровой сферы, – это особый объект, средой обитания которого является трехмерный мир. Это такой объект, на который мы реагируем, исходя из нашего культурного контекста, интеллектом и телом. Поэтому имеет смысл на секунду задуматься о том, сколь многое – текстура, размер, истинный цвет предметов и т. д. – остается за рамками нашего восприятия, когда мы смотрим на фотографию произведения в книге или на экране компьютера. Становясь фотографической репродукцией, произведение искусства отрывается от своих корней. Теперь оно может бесконечно воспроизводиться в различных контекстах, для которых вовсе не предназначалось. Двумерная белизна книжной страницы – это место, отведенное в первую очередь для слов и стоящих за ними размышлений. Визуально уменьшенное и помещенное в книгу или на экран, имитирующий книгу, произведение искусства переносится в контекст, где отдается заведомый приоритет определенному типу мышления – чтению и рефлексии. Напротив, среда, для которой это произведение создано, чаще всего представляет собой трехмерное и достаточно обширное архитектурное пространство, окруженное стенами помещения, и знакомство с ним в подобном пространстве гораздо менее сковано интеллектуальным этикетом (по крайней мере, в теории, так как, например, музейные этикетки с легкостью превращают это пространство в подобие книжной страницы).
Однако возможность того, что мы уже видели или когда-либо увидим наяву все произведения, представленные в Семи ключах, невелика. Одни из них находятся в Европе, другие в США или в Восточной Азии, хотя все, за исключением работ Роберта Смитсона и Дорис Сальседо (первая существует в реальном пейзаже, а вторая – только в виде фотографии), хранятся в публичных коллекциях. Пурист посоветовал бы нам полагаться только на непосредственные впечатления от произведения. Но это едва ли осуществимо, да и прямой контакт отягощен имеющимся у нас багажом знаний и контекстов – например, нашими воспоминаниями о других произведениях искусства, в том числе как о фоторепродукциях, и предвзятыми мнениями, которые формируются до знакомства с ними «во плоти».
К тому же что, собственно, значит «во плоти»? Одно из рассматриваемых в Семи ключах произведений уже не существует и было задумано как недолговечное изначально, почему и сохранилось лишь в форме документальной фотографии (Сальседо, с. 262). Другое находится настолько далеко, что я, признаюсь, и сам видел его только на фотографии, сделанной сразу по завершении (Смитсон, с. 174). Среди других примеров – видеофильм, ничуть не меняющийся в зависимости от места демонстрации (Виола, с. 225), копия утраченного произведения (Дюшан, с. 60), реконструкция работы, созданной специально для нью-йоркской галереи, а затем исчезнувшей (Кусама, с. 147), или произведение, репродукция которого, не считая разницы в размерах, не отличается от него практически ничем по внешнему виду, а следовательно, и по значению (Крюгер, с. 200).
Искусство как опыт
Исходная предпосылка Семи ключей заключается в том, что ни одно великое произведение искусства не создавалось в расчете на рациональное объяснение, документацию или социологическое исследование. Напротив, мы стремимся обратить внимание на то, что часто остается в тени, как в тех случаях, когда искусство становится маргинальной или несущественной частью в жизни людей, так и в других, когда искусство институциализируется и профессионализируется: больше всего мы ценим во встречах с произведениями искусства их способность доставлять нам преобразующий опыт.
С точки зрения Семи ключей, смысловая или выразительная структура произведения – отнюдь не главный фактор его значимости для нас; куда важнее сам опыт встречи с искусством, принципиально непередаваемый и неподвластный достоверному обобщению в виде ясной идеи или эмоции. Произведение искусства – это в первую очередь структура бытия. Даже картина кого-либо из «старых мастеров», надежно прописанная в музее как объект «священного» наследия и погребенная под горой научных истолкований, тем не менее остается неустойчивой переменной величиной, существующей в интерактивном поле бесконечных экспериментов, где мы можем двигаться лишь «на ощупь», пробуя и на ходу меняя наши когнитивные подходы.
Все великие произведения искусства – скорее аморфные организмы, существующие в экосистеме, чем устойчивые неподвижные объекты. Они обладают способностью неограниченно приближаться к нам из своего первоначального местонахождения на физическом, интеллектуальном, эмоциональном, духовном, практическом, социальном, образовательном, институциональном и финансовом уровнях, взаимодействуя при этом с другими произведениями. Встреча с искусством – это гораздо больше, чем способ провести свободное время или пополнить исторические и теоретические познания. Вполне возможно, это способ выживания.