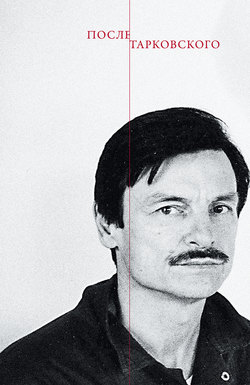Читать книгу После Тарковского - Сборник статей, Андрей Владимрович Быстров, Анна Владимировна Климович - Страница 5
Доклады
Тарковский после Тарковского. (Кино после пленки)
Джей Хоберман
Перевод с английского Андрея Карташова
ОглавлениеДоклад посвящен кинематографу и теории Андрея Тарковского, его посмертному влиянию на амбициозных режиссеров за пределами России, включая Белу Тарра и Ларса фон Триера, и релевантности его философии для постцифрового кино.
Допустим, мы согласны с тем, что Андрей Тарковский был модернистом, но какой модернизм он воплощал? Тарковский не был наивным модернистом, как Д. У. Гриффит. Он не был представителем той традиции советского модернизма, которая связана с именами Эйзенштейна и Вертова, хотя, как и они, он был теоретиком кино. Не был он и популярным модернистом, как коммерческие режисеры наподобие Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика, действовавшие сразу на двух уровнях – для массовой аудитории и для гипотетической интеллигенции от кинематографа. Тарковский не является и постмодернистом, как его современники Жан-Люк Годар и Душан Макавеев, изобретатели кинематографа радикально неправильного и бескомпромиссно антиклассического.
Можно было бы провести параллели между Тарковским и его коллегами из других стран социалистического лагеря, а именно Миклошем Янчо и Анджеем Вайдой, но мне кажется более продуктивным связать модернизм Тарковского с такими уникальными и маргинальными фигурами, как немецкий режиссер Ганс-Юрген Зиберберг и американский авангардист Стэн Брэкидж: пророками от кинематографа, видящими свое искусство (и искусство вообще) как квазирелигиозное призвание, а себя – как племенных шаманов. «Лес, описанный в японской книге, не имеет ничего общего с сицилийским или сибирским лесом, – сказал однажды Тарковский. – Я не могу увидеть лес теми же глазами, что автор или его соотечественники».
Как и Брэкидж с Зибербергом, Тарковский был в равной мере консерватором и авангардистом. Зиберберг или Брэкидж могли бы, подобно Тарковскому, сказать, что «кино так же достойно защиты законами, как окружающая среда». Что это значит? Хочет ли он защитить сам медиум или принцип художественного творчества?
На взгляд внешнего наблюдателя, значимость Тарковского для российских режиссеров очевидна. Я имею в виду Алексея Германа, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева. За пределами России он стал источником влияния и примером для двух режиссеров из числа самых значительных европейских постановщиков после 1960-х годов – Ларса фон Триера и Белы Тарра. Фон Триер начинал с прямой имитации Тарковского в своих террариумных мизансценах; Тарр перешел от подражания Джону Кассаветису к подражанию Тарковскому. Тем не менее оба режиссера через влияние Тарковского вышли к созданию сильных, оригинальных картин.
Кажется, ясно, что для них Тарковский воплощает идею героического художника от кино – ту идею, которую, наверное, воплощал для предыдущего поколения Карл-Теодор Дрейер. Даже у нас в Америке есть подражатели Тарковского. Терренс Малик, наверное, – самый очевидный пример, но можно вспомнить, что периодически независимый режиссер Стивен Содерберг сделал ремейк «Соляриса», а всегда независимый Джим Джармуш создал шедевр, который можно было бы назвать тарковскианским вестерном, – «Мертвец».
Если мы принимаем утверждение (я его принимаю), что цифровой поворот, произошедший примерно тогда же, когда кинематограф праздновал свое столетие, глубоко изменил природу кино, то можно сказать, что Тарковский за десятилетия, прошедшие после его смерти, приобрел статус последнего мастера пленочных фильмов – хотя, если судить по видеоролику, который мы сейчас посмотрим, он вряд ли стал бы противником цифровой обработки изображения.
Это последний кадр «Ностальгии» – первого фильма Тарковского, сделанного за пределами его родины, в котором это обстоятельство становится главным предметом. Этот план можно трактовать по-разному, но мне кажется, что Тарковский здесь повторно подчеркивает устремление фильма замкнуть время и пространство на само себя, найти дом во вселенной кинематографа. Я не знаю в точности, как он снял этот план, но достаточно сказать, что сейчас это было бы гораздо проще сделать при помощи компьютерной генерации изображения (CGI).
Вскоре после Второй мировой войны французский кинокритик Андре Базен предложил свою концепцию в противовес актуальной тогда идее о том, что кино развивается благодаря духу научного исследования. Базен представил кино как идеалистический феномен, его производство – как предприятие с изначально иррациональной мотивацией, как навязчивое желание найти ту полную репрезентацию, которую он назвал тотальным кино.
«Не было такого изобретателя, который не стремился бы сочетать звук и объем с движущимся изображением», – писал Базен. Каждое технологическое нововведение – синхронный звук, цвет, стереоскопическое (3D) кино, технология Smell-O-Vision – служит тому, чтобы приблизить кино к его воображаемой сущности. Иными словами, «кино еще не изобретено!» Более того, как только подлинное кино будет создано, сам медиум перестанет существовать – как государство при коммунизме!
Базен считал, что это произойдет уже к 2000 году. На деле случилось нечто другое: развитие CGI разрушило особенные отношения, существовавшие между фотографией и миром. Миф тотального кино[7] – «воссоздание мира по его же подобию» – для Базена был элементом сущности кино: неотъемлемый реализм медиума был обеспечен беспристрастным взглядом камеры, а также химической реакцией, благодаря которой свет оставлял след на фотографической эмульсии. В эссе «Онтология фотографического образа», опубликованном в 1945 году, он отмечал:
«Фотография воздействует на нас, как естественный феномен. ‹…› Существование [сфотографированного предмета] зависит от существования модели».
Из-за онтологической связи между фотографией и объектом съемки кинематограф производил почти автоматическое изображение, не нагруженное художественной интерпретацией. Как тень или след от пули, фотография была формой доказательства, факта. Более того, каждая фотография была производной от собственного материального свидетельства в виде негатива – результата фотохимической реакции. Негативы можно было изменить, кадрировать во время печати или даже уничтожить, но – по крайней мере, в самом начале своего существования – изображение было физической единицей, в отличие от бесконечно гибкого бинарного кода, пусть и произведенного индексальным способом при помощи цифровой камеры.
В то время как подверженная цифровой манипуляции фотография заменила природу в качестве исходного материала для производства изображений, кризис в кинематографе оказался еще более сущностным. Базен представлял кино как объективное «воссоздание мира». Однако в производстве цифрового изображения мир, да хотя бы просто существующий предмет, помещенный перед камерой, перестает быть необходимым, не говоря уже о самой камере. Фотография, если не само желание производить движущиеся изображения, оказалась вытеснена. Чаплин стал примечанием к Микки Маусу, и тем же стали «Рождение нации» и «Броненосец „Потемкин“» по отношению к «Истории игрушек 3». С появлением CGI история кино стала историей анимации.
Не думаю, что это бы расстроило Тарковского, все-таки относившегося к числу художников, для которых изображения были самоценны: в одном интервью он сказал, что его образы значат не больше, чем то, что в них можно увидеть; слова он, что удивительно для сына поэта, охарактеризовал как «шум, производимый человеком». В своем гиперреализме некоторые фильмы Тарковского, в особенности «Сталкер» и «Ностальгия», – не только кинематографические произведения, но и виртуальные вселенные, хотя, как описывает «Миф тотального кино» Базена, здесь всегда есть чувство того, что сам мир пытается прорваться сквозь экран.
Сущность постфотографического кино можно обнаружить у Тарковского в понятии «запечатленного времени». Говоря о значении первых кинохроник Люмьеров в своей одноименной книге, он пишет:
«Впервые в истории искусства, впервые в истории культуры человек нашел способ непосредственно запечатлеть время. И одновременно – возможность сколько угодно раз воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к нему. Человек получил матрицу реального времени. Увиденное и зафиксированное время смогло теперь быть сохраненным в металлических коробках надолго (теоретически – бесконечно). ‹…› Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, – вот в чем заключается главная идея кинематографа как искусства».
Недавнюю иллюстрацию этой идеи мы можем обнаружить в инсталляции Кристиана Марклея «Часы» (2010) – цифровом видео, собранном из фрагментов фотографических (снятых на пленку) кинокартин: поминутно фиксируя время хронологически смонтированными кадрами из фильмов, оно служит круглосуточным, синхронизируемым с реальным течением времени хронометром. В Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и любом другом месте «Часы» демонстрируют мысль Тарковского, хотя и в упрощенном виде, заставляя зрителей завороженно наблюдать за ходом времени.
Тарковский не пишет о фотографии как таковой, но в «Запечатленном времени» он замечает, что «кино ‹…› родилось, как способ зафиксировать само движение (выделено мной. – Дж. Х.) реальности» – что отличается от простой фиксации реальности. Мы можем обнаружить это в фильмах тех художников, чей способ работы с цифровой технологией подчеркивает реальное время и длительность, делает, так сказать, кинематографический медиум в еще большей степени собой; в их числе – «Русский ковчег» Александра Сокурова.
«Русский ковчег» – фильм, представляющий собой путешествие по Эрмитажу в одном 95-минутном срежиссированном движении, – вошел в историю благодаря сразу нескольким достижениям: это первый полнометражный фильм, снятый без монтажа единым планом; самая длинная сцена, снятая на Steadicam; первый фильм, записанный в несжатом видео высокого разрешения на мобильный жесткий диск. Тем не менее некоторые теоретики называли его антикинематографическим.
Отметив, что «информация, собранная при помощи цифровых технологий, онтологически не отличается от синтезированной цифровым путем продукции, которая составляет виртуальные миры», американский теоретик Дэвид Родовик утверждает, что достоверное наблюдение абсолютной, непосредственной длительности более невозможно. Кроме того, он замечает, что «Русский ковчег» подвергся значительной обработке на постпродакшне. В некоторых моментах изображение было кадрировано, чтобы удалить нежелательные объекты, подогнана скорость движения камеры, изменено освещение, скорректированы цветовые температуры. В одной из сцен имитируется съемка широкоугольным объективом, а в финале мы видим отрисованные на компьютере снежный буран и туман.
Можно сказать, что, как и последний кадр «Ностальгии», «Русский ковчег» представляет собой анимационный фильм, созданный из фотографического материала. «Фильмический объект» Сокурова, созданный цифровым способом, разрушает оппозицию постановочного вымысла и документальной правды. Режиссер вызвал к жизни нечто и заставил это произойти в реальности. Этот фильм – базенианский в перформативном аспекте, то есть в режиссировании соединения камеры и события, происходящего перед камерой.
Хотя «Русский ковчег» можно трактовать как консервированный театр, Сокуров использовал цифровую технологию для производства того, что является квинтэссенцией кино. Единственный план «Русского ковчега» Тарковский назвал бы «запечатленным временем», хотя он и использует ресурсы постфотографической технологии – для того чтобы ввести кинематограф в двери, открытые «Ностальгией».
Джей Хоберман – кинокритик, автор двенадцати книг, преподаватель истории кино в Университете Нью-Йорка и Гарвардском университете.
7
Так называется статья Андре Базена, к которой Джей Хоберман отсылает в своем докладе. – Примеч. ред.