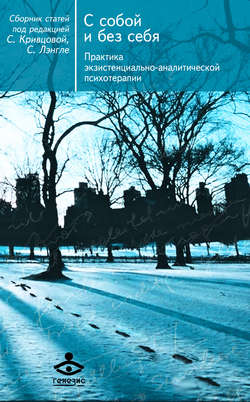Читать книгу С собой и без себя. Практика экзистенциально-аналитической психотерапии - Сборник статей, Андрей Владимрович Быстров, Анна Владимировна Климович - Страница 6
«Работайте, пока свет еще с вами». Специфика экзистенциально-аналитической психотерапевтической практики
Проблема отсутствия интереса
ОглавлениеНеинтересно – это сегодняшняя проблема, пожалуй, стоящая в первых строчках рейтинга напастей нашего времени. Неинтересно работать, больше не трогает, не «заводит», не бередит душу то, что раньше оказывало огромное влияние. Для подобных феноменов появился даже термин – эмоциональное выгорание (burn-out). Впервые описан он был, кстати, у специалистов помогающих профессий. Неудивительно, именно люди, требующие помощи и заботы, почему-то быстро наскучивают даже большому энтузиасту всяческой помощи и любви. Терапевту знаком этот феномен: «Я слышу его слова, он еще не знает, что чувствует, а я уже лучше его могу описать его страх или его фиксированную установку, я слышал это столько раз, и это каждый раз одно и то же». Да, патология лишает свежести, которая сопутствует свободе, болезнь уравнивает и стандартизует чувства. Люди жалуются, негодуют, ведут себя по-детски капризно и беспомощно – некрасиво себя ведут. Какие глубокие чувства все это может затрагивать? В какой резонанс приводить присутствующего при этом терапевта? Жалость, сострадание? В экзистенциально-аналитической психотерапии принято не столько сострадать, сколько активно искать и находить доступ к тому, что в человеке все-таки есть интересного. Интересно же свободное, не шаблонное, свежее, свое. Person – свободное в человеке. Терапия должна быть ориентированной на Person, просто для того, чтобы терапевт не превратился в скучающего разочарованного циника. Искать в человеке отголоски персональности иногда бывает очень сложно. Он ведь и сам не может ее найти или, как часто бывает при личностных расстройствах, виртуозно научился прятать, лишь создавать видимость того, чем он себя показывает. Ни доверительный тон разговоров, ни длительные беседы на самые интимные темы не могут скрыть того факта, что Person ускользает, сущностное, настоящее, личное невозможно ухватить. В этом глубокая проблема пациента, а не его грех. Сможет ли психотерапевт за завесой недовольств пациента различить отчаяние духовности, которая не находит способа себя проявить? Если да, тогда психотерапевт превращается в Ведущего, он как бы берет пациента за руку и ведет его на дорогу, обращенную в сторону себя. А пациент, ирония ситуации, упирается, подобно ведомому на заклание. Что это за способы, которыми экзистенциальный аналитик пытается добраться до персонального? В психотерапевтической практике принято задавать вопросы. Экзистенциальный анализ вообще разговорный жанр – «психотерапия, реализуемая преимущественно в вербально индуцированном процессе», – как отмечает сам А. Лэнгле[8]. Задавать вопросы, иногда провокационные, конфронтировать, уточнять, быть настойчивым, даже занудливым. Снова и снова задавать вопросы о том, что человек в его актуальной ситуации чувствует, что она, ситуация, с ним делает, что он думает о происходящем, каковы его суждения о ней, что он считает правильным, а что – нет, как ему следует действовать, что он может сделать, а что – пока нет и т. д. Вопросы – лучшие провокаторы. Они обращают пациента к себе, снова и снова заставляют слушать себя, искать собственные тихие ответы, различать свой голос среди чужих голосов. Свобода и непостижимость Person в конечном итоге обнаруживает себя в совести как самой большой глубине, коренящейся в духовном бессознательном. К ней обращается психотерапевт, вместо того чтобы подсказывать правильный ответ. Лишь иногда он может сказать что-то от себя лично. Например, такое: «Если бы это проделали со мной, я был бы взбешен». Он этим как бы вводит в поле ситуации свою личность, свою Person, беря часть персональной работы на себя. И снова раз за разом теребит пациента, ожидая и приветствуя его искренние персональные проявления. Методы персонального экзистенциального анализа (PEA) и нахождения персональной позиции (РР) придают методичности этой фасилитаторской работе, определяя ее конкретные шаги. И когда что-то получается, тогда становится интересно, и процесс работы, в значительной степени состоящей из рутинного труда, дает замечательный, неповторимый и запоминающийся на всю жизнь результат. В самом деле, психотерапевты помнят своих пациентов, как женщины помнят свои любовные романы, в подробностях и на всю жизнь. Ведь каждая встреча в феноменологической затронутости немного меняет и личность психотерапевта, после каждого пациента терапевт становится другим, это и называется учиться у пациентов, я бы даже уточнила – воспитываться у них.
Вера в то, что в каждом человеке под спудом симптомов и комплексов бьется не подверженная болезням Person, поддерживает, когда кажется, что пациент не работает, а терапия буксует. Заботливое занудство терапевта, которое может ведь и не дать результата, подпитывается этой верой и также тем, что благодаря профессиональному образованию терапевт представляет, как скоро и с какими типичными рецидивами отступает, поддается лечению та или иная болезнь. Здесь важным становится опыт. Но и опасным одновременно. Так, балансируя между зоркой феноменологической наивностью и профессиональным знанием, движется психотерапевт к тому моменту психотерапии, когда пациенту подпорки и помощники больше не нужны. То, чего добивается экзистенциально-аналитический терапевт – это чтобы пациент сам теперь мог разговаривать с собой так, как с ним долгое время разговаривал психотерапевт: честно и уважительно, дружелюбно и тепло, справедливо и открыто, а главное – с большой верой в то, что таких разговоров этот человек достоин. Принимать себя всерьез, становиться себе другом, не предавать себя – относиться к себе по-человечески.
8
Лэнгле А. Экзистенциальный анализ – найти согласие с жизнью // Московский психотерапевтический журнал. 2001. № 1(28). С. 5–23.