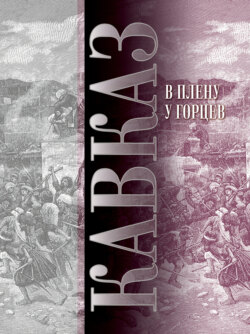Читать книгу Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев - Сборник - Страница 9
Том I
Сергей Беляев. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев
III
ОглавлениеВечера. – Возвращение к Абазату. – Суд над Абазатом. – Сирота Даланкай. – Правила воспитания. – Полоумный Ажгир. – Друзья Абазата: Яна и мулла Алгозур. – Снятие кандалов. – Пленные солдаты. – Покос. – Встреча с Шамилем. – Мужик Петр. – Незабвенные слова Абазата. – Два дня в лесу.
Смеркалось – я садился у порога и опускал голову, полную дневных картин; темнело – входил в саклю и искал новых картин в своем огоньке. Тогда я был на родине и пристально смотрел на картину семейную; представлял себе своих товарищей сидящими со мной у этого горского камина, где они не искали бы ни диванов, ни кресел, ни стульев. Ложился, когда укладывались все. Бренча кандалами, часто бредил, призывая старшего брата, как отца нашему семейству.
Поутру Ака расспрашивал, кого я поминаю, не жену ли или какую возлюбленную, и что такое «Ах, Господи! Ах, Господи!».
Дни пролетали, а новые наносили новой тоски. Часто говорили:
– Самагатти, самагатти! (Не скучай!) Привыкнешь, а здесь будет хорошо.
Часто Ака уговаривал меня оставить свою веру и принять их: может быть, ему хотелось выдать за меня свою дочь. Он говорил, целуя мои руки:
– Живи у меня, Судар: может быть, я скоро умру или убьют меня, а останутся дети – и некому будет присмотреть за ними, а тебя они любят.
Веры переменять я и не думал; принуждения же у них нет. Если пленный не хочет жить, то говорит прямо: продай меня такому-то или кому-нибудь; я не хочу у тебя жить. Удержать нельзя: всегда сковывать – не поможет: в кандалах плохой работник. Хозяин боится побега и продает.
Еще как взяли меня, они говорили, что скоро отдадут назад русским; сначала я верил и не брил своей головы с месяц; но после все нет да нет, и однообразные картины, и ничего занимательного – невольно заставляло думать о родине. Я часто спрашивал, скоро ли отдадут меня, тогда Ака, может быть притворно, со слезами говорил мне:
– И ты не хочешь жить со мною?
– Хотел бы, – говорил я, – но у меня есть мать, братья и сестры, а здесь народ беспрестанно укоряет меня понапрасну и ругает как гяура.
– Ну, если не хочешь, иди назад к Абазату.
И отдал.
Абазат взял с радостью, а я загрустил больше, думая, для чего я обидел Аку: быть может, со временем было бы мне и хорошо; а для чего я сам так дерзко распоряжаюсь собой, когда теперь, ничтожный, должен бы вовсе отдаться на произвол своей судьбе. Абазат наконец не вытерпел, видя меня печальным, и начал говорить:
– Разве я хуже Аки, что ты тоскуешь? Если бы я не любил тебя, не взял бы назад, когда уже продал совсем. Не то я продам тебя в горы ни за что: отдам за одного барана.
– Я не сомневаюсь в тебе, но к Аке я уже привык.
Мы насилу помирились.
* * *
Еще до меня Абазат, как удалой, похитил в одном ауле лошадь и продал ее русским; хозяева лошади не хотели ничего как только воротить покражу, а русские просили за нее пленного; розыски и переговоры продолжались, и Абазат надеялся отдать меня, потому-то я все и ждал. Но воротить лошадь не удалось: она переходила у наших из рук в руки. Абазат был посажен в яму на пять дней. Пищу носила ему Хорха, его любимица; я, как неприлично мужчине нести женские повинности, только посещал его. Наконец он был приговорен к смерти. Мюрады конфисковали все его имение, остался один бычок; двоюродный брат Абазата, Янда, отдал быка; Высокай, его тесть, отдал свою лошадь. Все это досталось истцам.
Уважая род Абазата и его собственное молодечество, жители нашего аула собрались к наибу просить виновного на поруки. Все кровли хижин покрылись любопытными провожать осужденного. Абазат шел весело, издали прощаясь со всеми родными. Дадак, как героиня, не отстала от мужчин.
Такого чувствительного и нежного сердца, как в этой женщине с геройским духом, я мало встречал и между своими.
Возврата все ждали к вечеру. Вдруг крики «Ля илляга, иль Алла! Ля илляга, иль Алла!» подняли всех оставшихся ауле. Все с нетерпением хотели знать решение наместника: Абазат остался у наиба в заключении.
Скоро суд кончился, и мой хозяин воротился таким веселым, как и перед приговором. Мы зажили по-прежнему.
Абазат и я, его жена Цацу и племянник Абазата, сирота Даланбай, составляли наше семейство.
Роскошная природа, доброта Абазата и крепкая надежда на возврат по временам делали меня веселым гостем. Как после исповеди, так после тяжких трудов, если не мило все, по крайней мере ничто не тревожит нас. Видя в горцах тех же людей и смотря на их вечерние молитвы, когда человек, как бы прощаясь со светом, отдается тьме, умилительно прося осенение своему бездейственному телу, я роднился с ними. А всякое призвание Бога, в ком бы оно ни было, порождает в нас какое-то сострадание; я предался моим мечтам и был еще доволен, что судьба так милостиво водит меня по извилистым путям, я приятно забывался!.. Тоску ничем иным не считаю я, как греховным бременем на слабом теле. Бодрость духа есть благодать, ниспосылаемая нам свыше за безусловную любовь нашу к людям и надежду на вечную жизнь. Сами мы бываем причиной своего горя, и если бы мы постоянно любили друг друга, не видели б суровых дней. Когда человек весел, ему все братья. Откровенно говорю я о состоянии души моей, когда мне было весело и когда тяжело. Было весело – когда надеялся, и тяжело – когда сомневался. Жизнь моя у горцев была переменчива, и тоска моя об этом была наказанием за грехи мои.
* * *
Одноаульцы, приятели Абазата, мулла Алгозур и Яна, часто посещали нас. Мулла благоговейно говорил о догматах и жизни вообще, Яна иногда вступал с нами в суждение, Абазат большей частью слушал покорно.
Когда являлся в такую беседу брат Яны, полоумный Ажгира, и своими неуместными вопросами перебивал речь, все смеялись, подшучивали над Ажгиром, не оскорбляя его, и тогда беседа делалась еще веселей.
Из разговоров я ловил незнакомые слова и тотчас записывал углем на стене или на потолке. В сакле не осталось чистого места, где бы не было написано. Иногда они сами сказывали мне свое слово, зная, что оно мне незнакомо.
В какой сакле был я, туда все и собирались. Любуясь вечерним небом, я уходил от сакли и ложился на мягкий луг, помечтать на просторе. Тогда подходил ко мне Яндар-бей, видел, что я смотрю на небо, объяснял мне звезды, служащие им проводниками во время ночных грабежей. Звезда против Каабы, «кильба-сияда», у них главный маяк. Но осторожный Ака, боясь, чтобы эти толкования не послужили мне в пользу при побеге, заставлял Яндар-бея сдержаться. Когда оставался я один, было мне спокойнее. Думая, что я уединяюсь от тоски, Яндар-бей если не сам, то был посылаем ко мне, чтобы развлечь меня, и больше надоедал мне. Он хотел привлечь меня к себе рассказами о разных разностях и не скрывал от меня ничего, о чем только я ни спрашивал, кроме того, что могло служить к побегу.
* * *
Неприятен был Даламбай Цацу. Без Абазата он беспрестанно плакал, произнося: «Мецэ-у!» (Я голоден!). Цацу называла его обжорой – сутур; ребенок больше капризничал и обещал пожаловаться Абазату; но когда, чтоб заглушить крик, Цацу кормила его, тогда он, несмотря на все ее насмешки, спокойно кушал, не по своему возрасту. Часто проказничал на огороде, и когда я говорил Абазату, что его надо бить за проказы, жалостливый Абазат отвечал:
– Он буа (сирота), кто его приласкает! Если он проказничает, то еще мал, а это значит, что он будет удалой. Он будет настоящим Даламбаем, который так много отличился своим удальством против русских. Побоями ничего не возьмешь, а только заглушишь в нем все, и он будет бабой; вырастет большой – не станет делать глупостей и будет джигит. Ест он много – значит, будет богатырь.
Вскоре он отдал его куда-то на всю зиму от своей жены, потому что сам не надеялся быть всегда дома. Цацу была рада.
Дни большей частью проходили у нас в игре в шашки, а вечера в разговорах. Так, однажды вступил я в суждения с муллой: тут больше уверились, что и мы знаем Бога, когда мулла подкрепил, что я знаю всех пророков и закон Магомета.
– Недаром, – говорил Абазат, – завещал покойный Мики смотреть на тебя не как на других урусов! Ты останешься у нас, и можешь быть муллой.
Ложимся спать, и я по-прежнему спрашиваю у своей хозяйки кандалы, как всегда бывало; постлав мне войлок и под голову седло, она клала передо мной эту железную закуску.
Абазат отвечает:
– Не надо! Так и быть! Уйдешь так уйдешь. Может быть, еще и убьешь кого-нибудь из нас, но тогда ответишь Богу, а Он у нас у всех один!
Сильно тронули меня эти слова, и я сквозь слезы мог только сказать:
– Будь уверен, Абазат, что я умею дорожить доверенностью и не изменю.
Не раз и прежде они говорили мне:
– Не сердись за то, что мы сковываем тебя: мы еще хорошо не знаем твоего сердца. Дики на хаи дек хюа! Поживешь, не станем заковывать, не посмотрим ни на кого в ауле.
Так и было.
Плакал я, когда видел в «дикарях» проявление таких чувств!..
* * *
В ауле было два солдата пленных, и все мы виделись друг с другом. Часто Ака, чтоб показать народу, что мне у них жить хорошо, брал с собой к мечети, куда они по вечерам собираются беседовать, просил быть веселей, посылали тотчас за солдатами, втроем мы разговаривали, прочие слушали. Солдаты просили меня писать письмо к своим, но я отговаривал.
– Если они не захотят отдать нас, то не отвезут и письма, а, замечая нашу тоску, будут больше присматривать за нами. Будешь пока жить, – говорил я.
– Какое житье с ними, собаками! Вот нашел людей-то! Тебе, верно, не хочется на свою сторону!
Что оставалось мне говорить таким разумным! Я отвечал:
– Да, у меня не то сердце, что ваше, и нет также родных!..
При разговорах все присутствовавшие обращались к нам:
– Ты мужик, и ты мужик, а это князь.
Ненависть была явная. Когда они приходили ко мне, я всегда чем только мог угощал их, как хозяин: срывал на огороде огурцы, арбузы и дыни, а хозяйка приготовляла тотчас сыскиль.
– Вот видишь, как живешь ты! Что же понесет тебя к своим!
Вот как понимали они ласку моих хозяев и злобно завидовали моей жизни. Покушали и не поблагодарили даже, хозяева только улыбались, прощая им грубость и принимая их единственно для меня.
Но о родине нечего говорить, когда она воспета хорошо. Хотя они и желали на родину потому только, что в плену им было хуже, чем у своих. Я не хотел обижать их, не хотел также и оскорблять ими своих хозяев – и перестал к ним ходить и звать к себе.
* * *
В начале августа начался покос. Первый мой опыт, или урок, был помогать Яне. Все мои хозяева отправились с косами, меня же взяли безо всего.
– Что же я буду делать? – говорил я им.
– Катта-бац! Будешь смотреть; может быть, поучишься да поешь хорошо: там будет много мяса.
Пришли на покос, стыдно было мне взяться за косу. Народу человек тридцать, но только половина из них была с косами, и так одни сменялись другими. Ака показал мне место под деревом, чтобы я лежал.
– Ях дац! (Стыда нет!) – говорил он.
Началась работа, один говорит:
– Ну зачем же ты сюда пришел? Коси.
Я взял у него косу и начал стараться, но он, выхватив ее, заревел:
– Даваля! Уаха! (Долой! Ступай отсюда!)
Досадно и стыдно было мне. Спустя немного, стали завтракать, я отговорился, тогда все удивились моей стыдливости и уверились в моем неуменье. Еще немного, стали опять подкрепляться, но я опять отказался, что как не работал, то и не должен есть.
– О, дики кант у! – говорили они вслух.
Сын Яны, мальчик лет четырнадцати, во время отдыха других учился косить; Ака, смотря на него, говорил мне:
– Неужели ты не сумеешь? Ну как-нибудь! Потешь нас и хозяина!
Я взял косу и прошел ряд, потом другой, и после уже не отставал от других; сменял часто и солдата, которому никто не помогал.
* * *
Горцы косят справа и слева, не как наши – в одну сторону. Косы их легкие, плоские с обеих сторон, в длину не более трех четвертей; конец немного загнут; косник выгнут в середине и без ручки, как у наших. Снимая сено с рядов, тоже вороченных, как и у нас, сначала кладут маленькие копны – канча (что можно взять вилами); потом из трех или четырех таких канчей составляют одну, и эти уже к вечеру по три складываются в копны – литта; а на другой или третий день, смотря по солнцу, кладут небольшие стога – холи – арбы в две. В подгорных аулах на зиму в скрытых местах кладутся стога большие, арб в десять и больше; если же нет удобных мест, то сено складывается небольшими стогами в разных местах леса. Иногда прямо из канчей кладут большие копны – такор, которые уже по осени возят на арбах в стога. В арбу идет два или три таких такора.
На мелкие клочки сено раскладывается для того, чтобы лучше уминалось, и стог не осаживается уже после; а чем плотнее он сложен, тем невредимее от дождя.
Литты носят они шестами, на концах которых с одной стороны вделаны жердочки; острыми концами шестов продевают под копны и волокут очень легко.
* * *
Собирались косить и мы, начались приготовления. Верст за десять отправились мы с Абазатом в кузницу точить свою косу; он точил, я вертел точило. Вдруг крик «Ля илляга, иль Алла!» заставил нас бросить работу: это ехал Шамиль благодарить жителей всех аулов за Ичкерийский лес. Над ним виднелся зонтик, придерживаемый одним из его телохранителей, ехавшим верхом же с ним рядом. Это было неблизко, и я не мог рассмотреть всего; осенью же я видел Шамиля хорошо, когда он проезжал Гильдаган. Он ехал на серой яблочной (уважаемый цвет) лошади, передовые ехали в саженях тридцати от него, а рядом с ним наиб, позади вся свита, человек из пятидесяти, где несли секиру, или алебарду на древке, как эмблему смерти за неисполнение законов. Он проехал молча, только взглянул на меня; наиб же приветствовал меня с усмешкой:
– А! Иван!
Вообще горцы всех русских называют Иванами.
Шамиль – стройный мужчина (в то время лет сорока, но говорили, что ему сорок пять), лицом бел, длинная окладистая черная борода; лицо умное, но с каким-то равнодушием, и нет ничего, что бы заставило разгадывать. На голове его чалма с разноцветным тюрбаном; сверх обыкновенного платья надет был черный овчинный полушубок (мужчины вообще носят полушубки черного цвета, женщины – белого), покрытый шелковой материей с черными и розовыми полосками.
* * *
Скоро мы всей фамилией начали свой покос. Тут я косил уже взапуски; но ревность к работе они удерживали и заставляли отдыхать вместе, а в день доводилось отдохнуть раз десять. Они говорили:
– Нам стыдно одним сидеть и есть, мы устали, так и ты садись.
И у горцев, так же как и у нас, покос считается тяжелой работой.
– Страда, – говорят они; и к этому времени хозяйки припасают масло и сыр своим мужьям.
* * *
Ака и после, как старший в роде, все-таки был старшим и надо мной. Часто заботился, не голоден ли я, часто вызывал меня к себе и угощал теми огурцами, за которыми ходили я и его дочь, говоря:
– Это вот плоды твоих и ее рук.
Худу улыбалась и вместе с отцом повторяла:
– Судар, я! Я! (Кушай, кушай!)
Жена Аки – Туархан, Чергес, Пуллу и двухлетняя Джанба – все твердили:
– Я! Я!
Старшие говорили:
– Послушай, Судар, Джанба и та тебя просит.
Напоминая таким образом о своих ласках, Ака уговаривал меня перейти опять к себе, ссылаясь на Абазата, что у него нечего делать и что он потому продаст кому-нибудь. Абазат, замечая это, в свою очередь говорил мне, что и у него не хуже Аки, что Ака не джигит, что он достанет себе лошадь и будет чаще в набегах, и что тогда будет у меня все платье.
– Я знаю, Судар, – говорил он, – почему ты тоскуешь: не одет? Вот потерпи: я достану платье, и мы заживем!
Много за меня доставалось Цацу, когда она напоминала ему, чтобы продал меня, что у них работы почти нет. Он же, надеясь на свое удальство, хотел сделать меня домоседом. Не раз шутя говорил он мне, когда уходил куда надолго, как, например, на недельный караул:
– Ну, Судар, если ты захочешь уйти, то не уходи так, а голову долой моей жене. Вот топор в твоих руках.
При такой шутке боязливо морщилась моя хозяйка и в самом деле никогда не оставалась со мной одна на ночь, а всегда призывала кого-нибудь.
* * *
На все просьбы родных и знакомых моих хозяев отпустить меня к ним на работу Абазат отказывал всем, кроме своего тестя, просьбе которого он уступал нехотя и потому только, что тот отдал за него лошадь. Этот старик, Високай, надеясь за долг взять меня, уговаривал меня перейти к себе, обещая отдать за меня свою дочь Хорху; но с намерением, как объяснил мне Абазат, из-за барышей перепродать в горы, где пленные ценятся втрое дороже, чем в пригорных местах, где более возможности к побегу. Я не отказывался, а ссылался на Абазата: как он хочет; между тем сам упрашивал не продавать; Абазат обещал. Раз, выпросив меня себе, он отдал своему племяннику, без ведома Абазата; мне отказаться было нельзя, и я должен был работать день на нового хозяина. Тут не мог я смотреть без жалости на пленного, взятого под Кизляром. Он зависел от пятерых, бывших в набеге, и потому работал на каждого из них понедельно, следовательно, не имел отдыха. Оборванный, всегда в кандалах, он должен был трудиться, не смея отдохнуть без позволения своего хозяина; а это был один из пятерых злодеев. Но, несмотря ни на свою наготу, ни на старость, ни на кровь, текущую из-под гаек, разогретых солнцем, Петр не унывал или, лучше сказать, окаменел и зло ругался на свою судьбу. Это был в то время человек, потерявший всякую надежду.
Нельзя было без сострадания смотреть, когда он, по приходе нашем домой, показывал мне то место, где он спит. Оно было под койкой хозяев, где на ночь злая хозяйка всегда застанавливала его корытом.
– Вот, посмотри, – говорил он, – как я живу!..
– Что же делать! Все-таки молись!
– И молюсь когда, только поплачешь – и вовсе голодный полезешь под кровать!..
Хозяин этот, как довольно зажиточный, следовательно, жадный к богатству и любивший работать чужими руками, весь день просидел в тени; косу же взял напоказ своим одноаульцам, что будет трудиться; наблюдал только за нами, не давая отдыха. Я, как подчиненный ему, начал говорить о том.
– Ну, ты отдыхай, а Иван (как вообще презрительное имя) пусть косит.
– Нет, если я устал, то он и подавно, как старше меня вдвое.
Когда я заметил ему, что я не работал так и у своих хозяев, он должен был дать отдых. В обиде я занял его разговорами вообще о жизни человека; пенял ему за пренебрежение к Петру; он отговаривался, что он со своей стороны и готов был бы одеть его, если бы он принадлежал ему одному; удивлялся, что я скоро понял их язык и говорил простосердечно:
– Ну ты мне все равно как брат, а Иван – мужик, он ничего не знает, потому и обращаемся с ним так. Теперь ты садись со мной вместе, а Ивану нельзя.
По приходе домой я жаловался Абазату на Високая, что передал меня другому, Абазат отвечал:
– У! Судар, сердце мое болит (док ляза), что я должен угождать этому мошеннику! Что же делать?! Он тесть мне. Да и то бы ничего, если бы не мое горе, я не зависел от него. Ты знаешь, что он заплатил за меня. Как уж я ни угождаю ему! Намедни и сам на него работал; вот и тебя посылаю всегда, как он попросит, хотя мне и совестно пред тобой: все не можешь! Жаль, что должен расплачиваться с ним. Ему хочется ведь тебя, он думает о тебе, как обо всех русских, что ты глуп, вот и маслит тебя, чтоб ты перешел к нему, а сам норовит продать подороже. Нет! Не бывать этому! Хотя я не богат, однако барышничать не стану. Дай срок, Судар; вот придет осень – я достану счет и, может быть, расплачусь с ним. Так, невольно, женился я на его дочери. Я был еще мал, когда остался сиротой; дом наш был богатый, хозяйствовать было некому; и вот покойный Мики женил меня, думая, что она будет хорошая хозяйка; слухи о ней были хороши, а он поверил. Вот каково сиротствовать! Если б жива была мать моя, не было бы этого, она была женщина умная. А богатые, Судар, или которые не знают горя, любят работать чужими руками и, не боясь, ни с кем не поделятся! Если бы ты попал к богачу, разве бы так жил, как у меня? Я делю с тобой все пополам.
* * *
Для пленных, за которых горцы надеются взять непременный выкуп, как казаков или других, кроме солдат, делаются особенные кандалы. На обеих ногах в две гайки, шириной в ладонь, продевается железный прут в поларшина наглухо, так что едва можно передвигать ноги. Если пленный подает подозрение к побегу, то надевают двое таких оков или еще приковывается к ноге цепь, пуда в полтора, конец которой при работе пленник набрасывает себе на шею; на ночь же конец прикрепляется в сакле к стене. В таких оковах пленные ходят постоянно, сколько бы ни прожили.
Трудно определить, а может быть, и сами пленные бывают причиной такой строгости.
Я видел армянина в этих двойных кандалах и с цепью на ноге. Сначала он был закован легко. Взят он был в плен вместе со своим отцом; через год отец был выкуплен, а за него собиралась еще сумма. Не желая прийти в бедность от большого выкупа, он задумал бежать. Пользуясь доверием или оплошностью своих хозяев, будучи оставлен под присмотром женщины, он ударил ее топором так, что та упала замертво, и сам ушел. Но, к несчастью его, вскоре собрался народ, по обыкновению с собаками, принялись выслеживать его – нашли в тот же день, избили и заковали. Но и тут Провидение дает отрадно вздохнуть: муж Дадак, добродушный Моргуст, как соучастник в доле за него, сжалился над ним и выпросил его у своих товарищей к себе, хоть переночевать. Мои хозяева, как родственники Моргуста, дали мне посмотреть на него, или для угрозы мне, или так, повеселиться, зная этого армянина как артиста, такого же, как и Моргуст в своем роде. Армянин знал хорошо их язык, и они просили его поговорить со мной побольше. Это был другой Тарас Бульба. Когда Моргуст настроил свою скрипку, заиграл, началась пляска, и когда я не соглашался плясать, армянин страшно говорил мне:
– Эх! Не я на твоем месте! Завтра, быть может, с меня голова долой, если умерла та чеченка, которую я ударил! Но посмотри на меня, как я пойду!..
С него сняли только цепь, и он пошел удивительную лезгинку! Плясуны отступили, и воцарилось любопытное молчание!.. Что было в нем тогда – отгадать было трудно! Это был не глупец: когда он говорил, что у него есть мать, жена – и все это бедно, а завтра с него голова долой, слезы градом лились из глаз его – и больше нет! Он вскочил и страшной пляской заживо как бы отпел себя!.. К счастью, через день был прислан выкуп, а чеченка умерла почти следом же за ним, когда он был уже освобожден.
Армянин по-чеченски называется «ермолуа», и этим словом пугают детей, представляя страшное лицо этой нации. Самая поносная и язвительная брань – слово «джюгути» – жид. Зерно этого племени брошено и в горы. Там они занимаются больше выделыванием кож.
* * *
Платье, присланное Петру его женой, в год износилось все; выкупа же, трехсот рублей ассигнациями, как он был оценен, жена прислать была не в силах, а барин его не заботился.
– Если выкупит меня жена, – говорил Петр, – то я буду вольный; поэтому-то барин и отступается.
На передачу присылаемого одеяния горцы честны; не знаю, каковы на деньги.
* * *
Пришло время снимать кукурузу; Абазат был в карауле; я с Цацу вдвоем провел два дня в своем загоне, в глуши. Подозрительно и с презрением смотрели на нас встречавшиеся нам, когда мы шли. По обыкновению горскому, как мужчина, я шел спереди; она несла позади меня кувшин и прочие принадлежности. Проводя жаркие дни за работой, мы оба, сидя рядом и поглядывая друг на друга искоса, молчали, как Юсуф и Зюлейха.