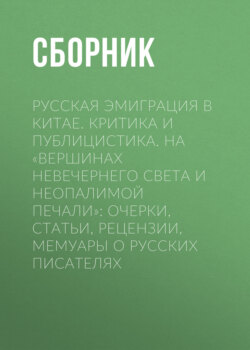Читать книгу Русская эмиграция в Китае. Критика и публицистика. На «вершинах невечернего света и неопалимой печали» - Сборник - Страница 6
I. «Черная тень “Шинели”…»: Н. В. Гоголь
А. Амфитеатров
Столетие «Миргорода»
Оглавление29 декабря 1834 года (9 января 1835 года по н. ст.) вышла из цензуры, и, значит, родилась на свет первая часть «Миргорода» Н.В. Гоголя, содержавшая «Старосветских помещиков» и основную редакцию «Тараса Бульбы».
Афанасий Иванович с Пульхерией Ивановной празднуют столетие своего литературного бытования, а вместе с ними и богатырь Тарас с сынами Андреем и Остапом, и Янкель, и Мардохай, умный, как сам Соломон, и все наши знакомцы-любимцы, милые с детских лет призраки из украинской героической эпопеи.
Любопытно это сочетание: появление на свет двойнею чуть ли не самых противоположных по духу, характеру и тону творений Гоголя.
Изумительный литературный Янус1 в «Миргороде» как будто захотел явить России, в виде программного введения в свое будущее творчество, оба свои лица: равную способность к реальной правде и к условности красивого вымысла.
Уже далеко позади, в XIX веке, осталось время, когда Гоголя, по долгому «оптическому обману», внушенному авторитетом Белинского, считали и канонически провозглашали «реалистом».
Двадцатый век успел разобраться в этом формальном заблуждении. Сыновья часто бывают очень похожи на отцов, но из этого отнюдь не следует, что отец повторяется в сыне. Так и из того, что Гоголь – родитель русского литературного реализма, совсем не следует, что он сам принадлежал к вызванной им «натуральной школе». Он лишь соприкасается с нею отчасти, так сказать, одним боком.
Настолько отчасти, что, собственно говоря, «Старосветские помещики» – единственное крупное творение, где Гоголь является безусловным и безукоризненным гением беспримесного реализма – поэтического, пушкиноподобного.
Другим таким же беспримесно реалистическим совершенством можно назвать лишь маленькую «Коляску». Недаром обе эти вещи так любил Пушкин. Говоря о «Миргороде» в критической заметке «Современника», он с особенною ласковостью рекомендовал читателям «Старосветских помещиков» – «эту шутливую, трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления». Для «Тараса Бульбы» Пушкин ограничился короткою отметкою, что его начало «достойно Вольтера Скотта»2.
Литературный реализм есть прямое отражение наблюдений жизни. В настоящее время историческая критика выяснила или, вернее, осмелилась заметить, что Гоголь наблюдал мало и лениво; писал же, полагаясь на силу своего вымысла, – по преимуществу – гениальною догадкою, брал чутьем. Таким образом, в отцы литературного реализма попал он случайно и даже против воли. Должен был усыновить детище, подкинутое ему Белинским, как передовым глашатаем культурных потребностей века.
И вот произошла роковая ошибка. Приняв видимость Гоголя за суть, Белинский сочинил и внушил современности своего Гоголя, реально-публицистического. Зачарованный сатирическою оболочкою Гоголева дара, критик не разобрал – и не хотел разбирать – какое зерно в ней таится. Белинский перед Гоголем похож на человека, который стоя у моря и любуясь, как в его ряби качаются отражения берегов, забывает о бездонности морского зеркала и не подозревает его глубинных тайн.
Случилось так потому, что Гоголь, мистик и фантаст по натуре, был в то же самое время одарен на редкость быстрою хваткою изобразительности. Это, по существу, добавочное и служебное свойство его гения было ошибочно принято, благодаря своей яркости, за основное. Таким образом, Гоголь – едва ли не самый романтический из всех русских романистов, наиболее глубокий и смелый символист-обобщитель, неугомонный мечтатель, суеверный сновидец, «сензитив», иллюзионист, гиперболист, даже иногда галлюцинат и всегда колдун волшебного вымысла, – был возведен в сан верховного жреца в храме русского реализма. А «гоголевские типы» были объявлены живой картинной галереей тогдашней русской действительности. По-нынешнему бы сказать, моментальными фотографиями, но тогда фотография еще была в пленках и едва шевелилась.
Напрасно пытался разъяснить себя сам Гоголь. Его символические самотолкования принимались как бредни капризного чудака, у которого с большого успеха ум за разум зашел и он сам не знает, чего хочет. Яркая изобразительность Гоголя оказалась авторитетнее воли изобразителя, творение вступило в полемику с умыслом творца.
В «Развязке Ревизора» Гоголь заставил «Первого комического актера», т. е. М. С. Щепкина3, единственного из исполнителей «Ревизора», кем он остался доволен, выступить оратором-толкователем тайной символики великой комедии. Тут и «душевный город», какого «нигде нет», но он «сидит у всякого из нас», и Хлестаков, как ложное пугало общества, «светская совесть». И фразы Городничего – шепот нечистого духа. И жандарм финальной сцены – «вестник о настоящем страшном ревизоре, который ждет нас у дверей гроба»4. И так далее. Однако, никто иной, как именно М.С. Щепкин, «венок на голову», поднесенный ему автором за исполнение роли Городничего, принял, но авторское толкование решительно отверг:
– Нет, Николай Васильевич, – сказал он, – я своего живого Сквозника-Дмухановского вам не уступлю.
Да и как было уступать? При первом представлении «Ревизора» в Таганроге, после сцены Городничего с купцами публика, как один человек, обернулась к ложе местного полицмейстера и, называя его по имени, возопила:
– Это вы! Это вы!
А полицмейстер, положив руку на сердце, растерянно отрекался:
– Совсем не я! Ей-Богу, не я! Это ростовский, ей-Богу, ростовский!
Когда символически задуманный тип (если только символы «Ревизора» и «Мертвых душ» были действительно задуманы Гоголем, а не придуманы им после) сливается с жизнью до такой тесной близости, что может путешествовать из города в город, из веси в весь, всюду находя себе живое подтверждение, – естественно и непременно, что жизнь и современность осилят в интересе и любви общества символическое устремление писателя. Блеск зримой поверхности надолго заслепит глаза на незримую глубину.
Надо было пройти многим десятилетиям, чтобы из-под Гоголя-реалиста, даже натуралиста, выглянул, в новом очаровании, Гоголь поэт-философ, созерцатель-ясновидец некоего обособленного от реальной сутолоки мира, который, правда, отражает ее, – да! Но в каком преломлении? В зеркале мало-мало что не «четвертого измерения», в бездне, где живут вечные идеи Платона и «Матери» Гетева «Фауста», – «где первообразы кипят»5.
Славянофилы устами Константина Аксакова провозгласили Гоголя «русским Гомером»6. Это энтузиастическое уподобление имело в свое время огромный успех и, распространившись во все слои интеллигенции, даже весьма далекие от славянофильства, – даже до популярной ему противоположности, – стало «общим местом»… «Кто бы стал читать нового Гомера!» – презрительно отмахивается в «Литературном вечере» Гончарова критик из «мыслящих реалистов», пародирующий Писарева7, Кряков: – «Новый Гомер у нас – это Гоголь!»8
Все «общие места» изнашиваются рано или поздно до прорех, в которых сквозит их основная условность. Износилось и это. Гоголь не Гомер, – не столько по несоответствию, так сказать, «удельного веса» в сравнении с мифическим эллинским поэтом, сколько по существенной разнице в характере эпоса. Несмотря на свою мифилогическую сказочность, гомерические песни несравненно проще, рапсоды их здоровее, трезвее, прямее Гоголя и воображением, и словом.
Романтик-фантаст, вооруженный гиперболически могущественным «вторым зрением», угадчивым до того, что для ясновидца как бы упразднилась необходимость наблюдать жизнь простым зрением человеческим, Гоголь никак не родня эллинским Демодокам9. Те – действительно реалисты. Что и как видели, слышали, чему и как веровали, то и так пели пред благодушными феакийцами10. Даже самые фантастические эпизоды Гомеровых поэм очеловечены в бытовой реализм, не допускающий символического обобщения и мистического толкования. Гоголь – как раз наоборот – творец символически обобщенных типов, которых мистического толкования сам он требовал сознательно, чутко, упорно.
Единственным крупным исключением из этого правила, единственным цельным примером «поэмы», доведенной Гоголем в самом деле до Гомеровской простоты и конечной досказанности, до самопонятной эпической реальности без символических и аллегорических затей на заднем плане, без фатального вмешательства тайных сил, – это опять-таки «Старосветские помещики». В этом идиллическом сказании Гоголь так решительно изменил своему обычному неблагожелательному отношению к своим действующим лицам и так нежно возлюбил патриархальную чету, так непосредственно понял святость ее простодушного первобыта, что как бы сам вошел в него разумом, духом и языком. И – глубокою искренностью – создал неповторимый шедевр русской буколики.
В моей юности, еще заставшей пережитки отрицательной критики, нас важно учили высокомерному взгляду на Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну. Имена их, вошедшие в пословицу, были обращены в синонимы глупо добродушных «пошляков, вредных своею бесполезностью». Так, помню, и выразился один педагог. Возможно, что этакие глупости в иных школах и теперь еще вбиваются в отроческие мозги.
А между тем сколько ни старался Гоголь впоследствии сочинять, в контраст бесчисленным отрицательным типам своего творчества, типы утешительно положительные, ни в одном не удалось ему хотя бы на пядь приблизиться к старческой чете Товстогуба с Товстогубихой. А их создал он, молодой, еще без всякого учительного старания, но зато с живого наблюдения и – с какою любовью! Инстинктом учуял он в этих смиренных чудаках тепло и тихий свет положительного идеала, лелеемого ими неведомо для себя самих. И полно искреннею грустью надгробное слово Гоголя их миру, невозвратимо отошедшему в вечность. Грусти и зависти уже несчастливого потомка к недавним предкам, в малой и бессознательной мудрости своей знавшим, однако, секрет какого-то благого бытия на земле.
Но глубоких корней в первокультурном быту Гоголь не имел. Когда он пытается говорить образным языком стародавних дней, то бывает красноречив, но делается театральным и декламирует не как Гомер, а разве как Вергилий, вернее же – почти как псевдо-классик. Таковы, например, речи атаманов, боевые сцены, да и вообще героическая часть «Тараса Бульбы».
В комической выдумке и угадке Гоголь творец непревзойденный, да и едва ли превосходимый. Предшественников, равносильных ему, также немного может насчитать мировая литература. Пушкин, убеждая Гоголя взяться за «Мертвые души», указывал ему дорогу Сервантеса! В трагическом роде Гоголь менее удачлив, хотя его сильно тянуло к трагедии: роковая болезнь всех комиков, как писателей, так и актеров!
Идея трагедии в представлении Гоголя всегда связывалась с идеей прошедшего. Он романтически искал трагизма в глубоком пассатизме. Мыслить трагически для него значило мыслить о прошедших веках, рядить героев в стародавние костюмы, воскрешать угадкою нравы, деяния, мысли старины, унесшей в гробы, вместе с могучими интересными людьми, также и могучие интересные чувства.
В «Авторской Исповеди» Гоголь уверяет, будто у него «не было влечения к прошедшему». Но это лишь одно из обычных капризных противоречий его авторской самооценки. Как не было влечения к прошедшему в человеке, который считал себя призванным к исторической кафедре (правда, очень ошибаясь в том) и, неудачно побывав на ней, покинул ее с обидным чувством «непризнанного»? который собирался писать историю Малороссии и уже не только планировал ее, но и поторопился объявить в «Северной Пчеле» о предстоящем вскоре ее выходе?11 Который насочинил в «Арабесках»12 кучу статей о средних веках, критиковал Шлецера13, Миллера14 и Гердера?15 Обожал Вальтера Скотта, подражал ему в нескольких отрывках, начатых и брошенных повестей («Пленник»), и, наконец, осилил, двумя последовательными редакциями, превосходный, истинно вальтер-скоттовский роман – «Тарас Бульба»?
От «влечения к прошлому» Гоголю, по собственному его показанию, увело «желание быть писателем современным» и тем принести «пользу, более существенную». Но мечта Гоголя все-таки в прошедшем – и мало, что в прошедшем, – в романтике прошедшего. Здесь он стоит, хотя на малороссийской почве, но в тесной близости к Жуковскому и вместе с ним дружит с немецкой романтической школой. Излюбленной «пассеистской» грезой Гоголя стало «лыцарство», то есть «рыцарство» и, хотя его «лыцари» преувеличенно хлещут горилку и не весьма изысканны в речах и манерах, но, по существу, такие же точно условные рыцари, как воспетые Жуковским, Уландом16, Тиком17. И среди них, головою выше всех, «лыцарь из лыцарей» – Тарас Бульба с сыном Остапом.
«Тарас Бульба» считается лучшим русским историческим романом после «Капитанской дочки» Пушкина. Действительно, мастерское произведение большой драматической силы и поразительной живописности в пейзаже и жанре. Но исторически ли?
Нет. Ни по фактам, ни по духу, ни по идее. За исключением «Записок сумасшедшего», – удивительной попытки вообразить патологическое душевное состояние без наблюдения, силою только выдумки и угадки, – нигде Гоголь не дал большей воли этим своим дарам, чем в «Тарасе Бульбе».
С исторической точки зрения «Тарас Бульба» – творение, совершено произвольное. Романтически настроенному, как всегда в своих представлениях о Малороссии, – Гоголю захотелось воскресить Запорожье не изучением исторической правды, но ясновидением романтической мечты. Волшебством слова создал он галерею картин увлекательных, но фантастических, с полным пренебрежением к времени и пространству.
Хронология в особенности страдает. Люди и нравы переносятся из века в век. Южнорусская «жакерия» повествуется в высоких тонах «Энеиды». Еще один из первых критиков «Тараса Бульбы», историк-украинец Кулиш, верно заметил, что Гоголь на казацких атаманов «надел плащи героев Гомера»18. Было бы еще вернее, если бы он сказал – Вергилия.
Когда Гоголь писал комедию, трагедия выходила у него сама собой. Это есть не только в «Ревизоре» и «Мертвых душах», но даже в смехотворной «Женитьбе», даже в «Игроках». Но, когда он умышлял писать трагедию, то, должно быть, по самочувствию художника не вполне доверял себе, творя дело, не совсем привычное в области, не так прирожденно знакомой. Ему как будто все казалось, что производимое им трагическое впечатление ниже его намерений. Поэтому он – сказать актерским языком – спешил «нажимать педаль», разводя пары той своей «лирической силы», которою он так справедливо гордился и на чудотворность которой смело уповал.
– «Я думаю, – писал он впоследствии, оправдывая в «Авторской Исповеди» неудачу своих положительных типов, – что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе».
Но «сила смеха» была присуща Гоголю всегда и никогда не давала промаха. Сила же лирическая часто ему изменяла, и тогда он в насильственном вдохновении начинал «в холодном духе горячиться» и, все пришпоривая и пришпоривая себя, впадал в преувеличенный драматизм и даже в мелодраму. От этого недостатка не свободна ни одна из трагических выдумок и угадок Гоголя… «Тарас Бульба» обременен такою «экзажерацией»19 и риторическою напряженностью до излишка.
Даже Белинский, при всей своей, можно сказать, слепой влюбленности в Гоголя, при всем восторге к «Тарасу Бульбе», все-таки отметил в нем декларативные пустоты. К числу их он отнес, может быть, с чрезмерной строгостью даже знаменитое «Слышу»! Тараса – на площади в Варшаве – в ответ воплю казнимого Остапа:
– Батько! Где ты? Слышишь ли все это?
Может потрясающий, но, в сущности говоря, мелодраматически условный. Хотя бы уже то: с чего бы Остапу в предсмертный час воззвать к отцу по-русски, по-московски, когда, наверное, раньше, во всю жизнь, ни отец, ни сын не сказали между собой ни одного русского слова? Это тем страннее, что за одну минуту пред тем Тарас одобряет богатырское терпение мучимого Остапа – как ему и естественно, по-украински:
– Добре, сынку, добре!
Другую богатырскую сцену казни – самого Тараса, замечательную по эпической энергии, Гоголь расхолодил внезапною публицистическою вставкою в предсмертный монолог, произносимый Тарасом в страшную минуту, когда «уже огонь захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву»:
– «Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!»
Эта фраза из «передовой статьи», уместная в устах писателя-патриота тридцатых-сороковых годов XIX столетия, но совершенно невероятная для украинского казака двадцатых годов XVII, задолго до Богдана Хмельницкого, когда на Украине московская идея возобладала и над польскою, и над автономною. В эпоху Тараса Бульбы московская Русь, еще не оправившаяся после Смутного Времени, была в таком плачевном состоянии, что пророчески грозить русским царем дальним и близким народам едва ли пришло бы в голову гибнущему на костре украинскому атаману.
И при всем том этот «ирреальный» роман, счастливо переживший сто лет, невозможно читать без волнения и восхищения; и дети, и внуки наши еще почитают его. Столько художественного пафоса вложено в картинность «Тараса Бульбы», что его прямая неправда – близкая и внешняя – искупается и поглощается некою другою, косвенною правдою, таящеюся во внутренней глубине этой эпопеи.
Собственно говоря, «Тарас Бульба» – не повесть, не роман, а огромная «былина», исполинского протяжения украинская «думка», которую следовало бы слушать из уст слепого деда под звуки бандуры. Так к нему и надо относиться, да так и относится большинство читателей, воспринимающих «Бульбу» непосредственно, без исторической критики. Тарас Бульба такой же легендарный герой, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович русских «старинок», Зигфрид «Песни о Нибелунгах», Фритьоф и Геральд Гарфагар скандинавских саг. Столько же невероятен, как историческое лицо эпохи, которой он приписывается, и столько же верен, а потому увлекателен и любим, как собирательный героический тип – выразитель вечного духа своей народности.
Гоголь и черт. К столетию «Вия»
«Берегитесь всего страстного, берегитесь даже в божественное внести что-нибудь страстное» – так поучал Гоголь свою поклонницу калужскую губернаторшу А. О. Россетти-Смирнову: «где страстность, там близки обаяния нечестивой любви»1. В страстной дружбе, в «распаленной любви» к нему С. Т. и К. С. Аксаковых Гоголь с неудовольствием отмечал «отсутствие разумной, неизменно-твердой любви во Христе, возвышающей человека». Родственную любовь он почитал «чувственной»2. Где страсти, там невладение собой, там скользкий путь поведения, там опасность падения. Рядом с экстазом святости – возможность экстаза в грехе. Да и не только рядом, но и самый экстаз святости часто переливается в экстаз греха.
Эту зыбкую лестницу Гоголь, сердцеведец и страстник, опытно знал и внушал своим «прихожанам и прихожанкам», когда они вдавались в чересчур ревностное богомольство (например, гр. А. П. Толстому)3. Но сам-то он был воплощением страстности, пылко алкавшей удовлетворения, вопреки разумной воле, удовлетворение воспрещавшей. И в борении с игрою страстности раскололась надвое его душа. И из глубокой расщелины расколотой души выструился демонический дуализм – красная нить, проходящая резким швом через творчество Гоголя.
Религиозный и богомольный Гоголь жарко звал на помощь против силы злой силу добрую, но ее энергия не успевала в нем за энергией злой и часто пасовала в борьбе с ней. Отсюда ужас Гоголя пред властностью зла, как в себе самом, так и – мрачно чудится ему – во всем зримом, живущем и чувствуемом мире.
Гоголь поверил в черта, как владыку, управляющего миром посредством пошлости, умения «показать все не в настоящем виде», отстранять человечество от благих светов Божественной Мысли кошмарами, исходящими из злого мрака бессмысленного часа. «Какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без толку, без смысла сложил вместе» («Невский проспект»).
По удачному выражению одного современного критика, Гоголь, – обманный реалист, по форме, а в существе символист и фантаст – «из всех впечатлений мира только черта принял не как символ, но как реальность, – непосредственно ощутил, как мы ощущаем холод от мороза»4. Черт – для Гоголя – величина почти что материальная. «Бейте эту скотину (черта) по морде!»5 – рекомендует он С. Т. Аксакову. Аксентий Поприщин знает, не своим умом, а Гоголевым, – что «женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то – она любит одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет: она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него, выйдет»6. «Сплетни делаются чертом» – доказывает Гоголь А. О. Россети7. Поэта Языкова он убеждает громить стихами «врага рода человеческого». Предсмертное сожжение беловой рукописи «Мертвых душ» толкует внушением от злого духа.
«Как смеют предаваться какой-нибудь минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искуситель!» – вопиет Гоголь в письме к своему духовнику о. Матвею (21 апр. 1848 г.). Укоряя Константина Аксакова за резкий отзыв о «Выбранных местах из переписки с друзьями», напоминает своему критику, что «есть дух обольщения, дух-искуситель, который не дремлет и который также хлопочет и около вас, как около меня»8.
Под впечатлением явно сказывающейся демономании самого Гоголя позднейшие критики мистического уклона (Мережковский) начали выискивать бесов даже под масками Чичикова и Хлестакова. Это – измышления, более или менее остроумные, но едва ли необходимые. «Тому не нужно (за чертом) далеко ходить, у кого черт за плечами», – сказал запорожец Пацюк кузнецу Вакуле («Ночь перед рождестивом»). Так точно – чрезмерное усердие искать у Гоголя потаенных и маскированных чертей, когда их – сколько угодно явных и откровенных.
Черти, ведьмы, колдуны, мертвецы участвуют – собственной персоной – в десяти из 22 художественных произведений Гоголя. И с какою подробностью, как зрительно и осязаемо они описаны! Гоголь на бесовском шабаше – свой. Чертовщина – для него – фамильярная реальность. Он изображает ее призрачное метание чуть ли не проще, чем жизнь обычную.
Против реализма житейского у Гоголя не редки погрешности. Покойный петербургский критик и юморист А. А. Измайлов собрал букет их в своих «Пятнах на солнце»9. Однако Манилова с Чичиковым Гоголь еще может ошибкою по рассеянности вырядить летом в шубы на медведях, но приметы Черта в «Ночи под Рождество», сатанического Басаврюка в «Ночи под Ивана Купала», Колдуна в «Страшной Мести» он выписывает с точностью аккуратного паспортиста.
Мало того, Великому фантасту недостаточно было образов народной демонологии; он сам добавлял их, растил, размножал измышлением. Один из лучших знатоков демонологии поэт А. А. Кондратьев (автор замечательнейшего фольклорного романа «На берегах Ярыни»)10 давно отметил в цикле своих мифологических стихотворений демона богатыря с железным лицом и с всевидящими глазами под веками, столь длинными, что их надо поднимать вилами, гениально выдуман самим Гоголем. Его Вий не имеет ничего общего, кроме имени, с народным украинским Вием, олицетворяющим теплое веяние степного ветра и, следовательно, силу не злую, но благодетельную.
Распространяющееся над жизнью дыхание злой силы Гоголь почувствовал уже в первом цвету жизни. Ребенком, как скоро он оставался один, в ясные, тихие до беззвучности дни его пугали зовы каких-то таинственных голосов, знаменитое признание в «Старосветских помещиках». От этих голосов он «обыкновенно [значит, бывало часто] бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием, и тогда только успокаивался, когда попадался навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустоту».
Мальчик вырос, сделался писателем. Уже в первом труде, привлекшем к нему внимание русского общества, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», он явил себя фантастом небывалой дотоле силы воображения, окруженным призраками невиданной яркости и пестроты. Вперемешку с резвым смехом и певучим лиризмом украинской идиллии врывались в уши читателей злобный вой и дикий хохот врага рода человеческого.
Злая сила, однако, не сразу выпустила свои цепкие когти во всю длину. Сначала она притворилась наивною, глуповатою, смешною: черт шалит, «шутит», как говорят в народе. Ходит в комической маске немца, губернаторского стряпчего или даже свиньи, собирающей с хрюканьем куски изрубленной красной свитки. Человеку легко черта дурачить и обратить себе на по-слугу. Кузнец Вакула едет на черте верхом в Петербург к царице, а вместо благодарности дерет нечистого хворостиной.
Пьяница-казак обыгрывает бесовское сборище в дурни.
Шутки нечистой силы почти добродушны. Украсть с неба месяц, чтобы пьяницы, броды в рождественскую ночь по селу не находили своих хат. Присрамить старика-кладоискателя, пугнув его медвежьим рыком и бараньим блеянием и заплевав ему очи чохом с табачной понюшки. Стащить у загулявшего казака шапку с зашитою в ней гетманской грамотой. «Перелякать» суеверную компанию свиным рылом, глянувшим в окно во время страшного рассказа.
Но это шутовство обманное. Веселится казак, пляшет, но «вдруг все лицо его переменилось: нос вырос и наклонился в сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак – старик… «Это он! Это он!»… «Пропади, образ сатаны! Тут тебе нет места!».. «И, зашипев и щелкнув, как волк зубами, пропал чудный старик» («Страшная месть»).
Басаврюк «весь синий, как мертвец», «не кто иной, как сатана, принявший человеческий образ, чтобы открывать клады», вносит в благополучную идиллию украинской деревни соблазн на корыстное убийство, отнимает разум у злополучного убийцы, а между делом забавляется, мороча селян смешными призраками: вселяется в жареного барана, поданного на стол, пляшет в виде дежи с опарой по хате в присядку… «Смейтесь, однако, не до смеху было нашим дедам». («Вечер накануне Ивана Купала»).
Очень смешон чертяка с кругленьким пятачком на мордочке, «как у наших свиней», когда амурится с жирною деревенскою ведьмою Солохой. Но ведь рядом с этим комическим любовником встает исполинская фигура любовника трагического, ужасного: Колдуна из «Страшной Мести». Несравненно сильный образ греховного «озлобления плоти», страшный символ нечистой кровосмесительной страсти: отец, в ревнивом достижении обладания дочерью, истребляющий вокруг нее все живое, ею любимое: мужа, дитя, – наконец, и ее самое… Достоевский попробовал было написать вторую «Страшную Месть» в тонах своей современности: «Хозяйка». Но куда же! Есть предельные области искусства, есть сокровенные тайны и «глубины сатанинские», в области которых Гоголь недостижим для художественного уменья, хотя бы и даже – Достоевского!
Наиболее яркий и выразительный из современных «эпигонов» школы Гоголя А. М. Ремизов так характеризует своего великого учителя:
«Гоголь родился посвященным… Кто, как не посвященный, мог рассказать о волшебном полете в «Вии», перед которым “Призраки” Тургенева кажутся лётом паутинки, и о колдовстве – вызове живой души (астрального тела) в “Страшной Мести”, пред которой самое совершенное и страшное у Тургенева “Песнь торжественной любви” – только беллетристика. Сделайте опыт, прочитайте “Вечера” Гоголя, рассказ за рассказом, не растягивая на долгий срок, и я по опыту знаю, что и самому “бессонному” приснится сон. А это значит, что слово вышло из большой глуби, а накалено, а накалено на таком пламени, что и самую слоновую кожу прижжет и, как воск, растопит кость… И мне приходит в голову мысль: нет ли связи юмора с колдовством? Ведь почему-то Гоголь, показав самое смешное, изобразил и колдовство. Что оно такое – об этом он рассказывает в “Страшной Мести”» (А. М. Ремизов «Сны Тургенева»)11.
Б. К. Зайцев в «Жизни Тургенева», восхищаясь детальным портретом, который Тургенев написал с Гоголя после знаменитого свидания их 20 октября 1851 года, добавляет:
«В этом изображении не хватает еще запаха. У Гоголя должен был быть особый запах, – затхлый, сладковатый, быть может, с легким тлением. Свежего воздуха, красоты, чувства женственного – вот чего никогда не было у этого поразительного человека. Нелегкий дух владел им»12. Владевший Гоголем «нелегкий дух» – источник того запаха «легкого тления», мнится Б.К. Зайцеву неотъемлемо присущим Гоголю. Запах тления духа, чуть тронутого разложением мертвого тела, – «кадавра», как любит выражаться А. М. Ремизов. Сам большой мастер в изображении «кадавров» и странных происшествий с их участием, он, однако, справедливо признает, что в передаче сатанического обаяния «кадавра» Гоголь непревосходим.
Во всей мировой литературе нет более жуткого вампирующего рассказа, чем «Вий», хотя романтики прошлого века часто плодили великое множество подобных историй в стихах и прозе, и между ними имеются сокровища высокого художественного достоинства. Даже гениальные, как «Коринфская невеста»13 Гете и первая часть «Дзядов» Мицкевича14, Гофман в «Серапионовых братьях», Эдгар По15, Красинский в «Небожественной комедии»16, Тургенев в «Кларе Милич» и «Песне торжествующей любви»17, – кто только не заплатил этой мучительно влекущей теме дани вдохновенного бреда?
Все эти великолепные словесные монументы, поставленные великими мастерами на границе между мирами живых и мертвых, грешно и увлекательно единят предельный смертный ужас с предельным сладострастием. Но, как ни жутки действующие в них загробные выходцы – символы посягновений хищной смерти на обманное обладание доверчиво страстною жизнью, – все они отличны от «Вия» тем, что, в конце концов, их сверх-и противоестественные драмы разрешаются так или иначе в примирительный аккорд. Их мелодия ведет, их гармония слагает гимны обожествления бессмертной красоты, вечной любви, не знающей конца, переживающей и победно преодолевающей смерть. В «Вие» ничего этого нет. Полное отсутствие примирительных нот. Он безжалостно страшен.
Как большинство очень страстных, но поборающих свои страсти насильственным целомудрием мужчин, Гоголь был громким и усердным хулителем женщин. Огромно число изображенных им типов женской пошлости, а в попытках вообразить женщину идеальную он, по искренности, терпел всегда самые неуклюжие неудачи (Улинька второй части «Мертвых душ», Аннунциета в «Риме» и т. д.)
В искренности же, если женщина Гоголю не противна, как пошлое ничтожество, то ненавистна, потому что тогда он видит в ней олицетворение красивой зловредности, – демоническую силу, победительно направленную ко злу и на пагубу миру.
Пером Гоголя порождены едва ли не самые яркие, самые захватывающие изображения женской красоты, самые увлекательные ее гиперболизации. Но это не красавицы человеческой породы, а нечистая сила или стихийные духи, «нежить». Русалка, зримая Хомою Брутом в «Вии»; астральные тела утопленниц, русалки, зримые Левком в «Майской ночи», – и среди них русалка-оборотень, ведьма-коршун с когтями, клейменная черною точкой в бело-прозрачном теле. (Курьезно, что Розанов в «Опавших листьях» применил этот образ… к самому Гоголю: «Проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся стеклянная и вся прозрачная… в которой вообще нет ничего! Ничего!!»)
Значительнее всех этих трагических привидений мертвая Панночка в «Вии»: «красавица, какая когда-либо бывала на земле», «такая страшная, сверкающая красота», «пронзительная», «резкая». «Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего; оно было живо… И, однако, это мнимо-живая красота – мертвая ведьма-людоедка, вампир, труп. И какой труп!
Не Коринфская невеста, не Клара Милич – обманные призраки, символы красоты, безвременно похищенной смертью, не позволившею им использовать свой темперамент, выполнить свое природное предназначение для любви. Эти траурные фантомы возвращаются к живым возлюбленным, чтобы поэтически обменяться с ними прядями волос и нашептать красивый бред: «розы, розы, розы!».
Нет, Панночка «Вия» – мерзкий, гнилой труп, в трехдневном последовательном разложении пред глазами своей уловляемой жертвы. Гоголь не пожалел тут ни жутких глаголов, ни эпитетов: «вся посинела»; «труп синий, позеленевший»; «вперил в Хому мертвые, позеленевшие глаза»; «ударила зубами в зубы» и «глухо стала ворчать она и начала выговаривать слова; хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы». Какие уж тут «розы, розы, розы» и «холодок зубов» Клары Милич!
Для ужасов третьей ночи Гоголь упразднил в своем чудовище даже определение пола. «С треском лопнула крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он… зубы его… губы его… “Приведите Вия! Ступайте за Вием!” – раздались слова мертвеца». Также в мужском роде. Красавица-ведьма как бы забыта и Хомою Брутом, и автором: обоим, в предельной их панике, зрится только свирепый людоед-«мертвяк».
Ни одного человеческого духовного просвета не допустил Гоголь в непроглядно черную тьму своего вампира. В этом разлагающем трупе посмертно живыми позывами бушуют лишь дары злого духа: неистовая сатанинская ярость, потребность мстительного мучительства и «физиологическая» жажда крови. Может быть, эта красавица, умевшая при жизни скидываться черной кошкой и старухой, – та самая чудовищная «старая чертовка, что в «Вечере под Ивана Купала», вцепившись руками в обезглавленный труп (младенца Ивася), как волк, пила из него кровь». Словом, такой же дьявол в образе женском, как Басаврюк в образе мужском.
Однако страшному Басаврюку Гоголь все-таки придал несколько комических черт, а смех всегда умягчает паническое впечатление, подбодряя намеком, что страшилище, – лишь ряженое пугало. Но Панночки в гробу, летающем со свистом по церкви, Гоголь сам так испугался, что не решился нарушить ее несравненную «гармонию ужаса». Это действительно самый законченный «кадавр» из всех литературных «кадавров».
Глубоко пессимистическое творение «Вий» и мифологически лукав его неопределенный конец.
Угрюма и зловеща заброшенная без богослужения ветхая церковь среди «пустого поля и поглощенных мраком лугов», в которой Хома Брут читает псалтырь над убитой Панночкой-ведьмой. Философ лепит восковые свечи по всем карнизам, аналоям и образам, и скоро «вся церковь наполнилась светом». Но от этого «вверху мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам».
А когда, по нечестивым заклинаниям мертвеца, ворвались чудовищным полчищем «адские гномы», «вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы». И в свершившейся борьбе Гоголь оставляет читателя в сомнении, которая же из двух сил победила?
«Гномы» добились своего, – обнаруженный ужасным Вием Хома Брут умер от страха. Значит, демоны мрака одолели: желанная добыча досталась им в когти.
Но крик петуха не дал бесам использовать победу. «Испуганные духи бросились, как попало, в окна и двери, но не тут-то было». Значит, взяла конечный верх все-таки благая, светлая сила, ибо полонила темную и покарала приковав ее на веки веков к месту ее кощунственного вторжения.
Поутру, «вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги».
Ключ к запертой шкатулке. Гоголь, Андрей Белый, Мейерхольд
Вековому заблуждению, утвердившемуся в русском обществе ошибочного понимания репутации Гоголя как «реалиста», много содействовал театр – именно «школа Щепкина», с его учениками и последователями (Пров Садовский, Мартынов, П. и С. Васильевы, Шумский, Самарин и др.)1. Она владела театром, можно сказать, потомственно. Сперва через долголетнее непосредственное влияние этого блестящего артистического поколения (Прова Садовского, я, двенадцатилетним мальчиком, успел видеть однажды. Шумского и Самарина отлично помню из юношеских лет во многих ролях). Затем через «традицию», которой досталась еще на несколько десятилетий. Заколебалась она не ранее конца XIX века.
А. Ф. Писемский – реалист до мозга костей, в жизнь свою не написавший ни одной «сказки» или «фантазии», понимавший, ценивший и любивший Гоголя исключительно как реалиста и сам отличный актер-исполнитель гоголевских ролей2, – свидетельствует:
«Не многие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами массы публики, как Гоголь. Надобно было несколько лет горячему, с тонким чутьем критику (В. Белинскому), проходя слово за словом его произведения, растолковывать их художественный смысл и, ради раскрытия этого смысла, колебать, иногда даже пристрастно, устоявшиеся авторитеты; надобно было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении; надобно было наконец обществу воспитаться, так сказать, его последователями, прежде чем оно в состоянии было понять значение произведений Гоголя, полюбить их, изучить и развить, как это есть в настоящее время, в поговорки»3.
«Щепкинский театр» использовал Гоголя для своего нарождения, воспитания и развития; но и Гоголя он подчинил своим реалистическим требованиям: играл его, как сам хотел, не стесняясь мистическими толкованиями и желаниями автора.
Гоголь не любил своего «Ревизора» на сцене. «Представление “Ревизора” произвело на меня тягостное впечатление», – писал он Жуковскому, даже десять лет спустя после петербургского и московского «Ревизора». Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего»4.
Он написал несколько руководящих этюдов-наставлений как надо играть «Ревизора» и два огромных комментария к нему в драматической форме типа сократовских диалогов. («Развязка «Ревизора» и «Театральный Разъезд».) Он устраивал авторские чтения комедии, чтобы учить актеров, которые, к слову сказать, приходили на чтения крайне неохотно и лишь немногие выносили из них понимание авторских заданий или хоть смутную догадку, чего он ищет. Нравится публике им было важнее, чем удовлетворить автора.
А публика желала и любила реального «Ревизора». Хотела, чтобы Хлестаков был просто щелкопером, а не лживою «светскою совестью». Городничий – просто уездным хапугой, Держиморда – Держимордой, и финальный жандарм – просто жандармом, а не карающим ангелом «настоящей совести». Или даже, как уверяет Андрей Белый, «жандарм – рок, пережитый художником Гоголем по Эсхилу; он рок – над Гоголем, Дубельтом, Николаем, Империей»5.
Таким образом, Гоголь никогда не видел на сцене того «Ревизора», который мечтался ему в «Развязке» и в «Театральном разъезде».
Символическое толкование комедии стало просачиваться на русские сцены только, когда их обвеяло духом Ибсена и Метерлинка6, и полюбились обществу комментарии Мережковского, Брюсова7 и других «декадентов». Зато с этих починов символический Гоголь начал и в театре, и в критике расти с стремительной быстротой, так что не замедлил дорасти до полного исчезновения реальности за символикой. Тень его на том свете, казалось бы, должна была вздохнуть радостно: «наконец то!». Но, как все удачи Гоголя, и эта оказалась смешанною с неудачею, и притом столь острою, что она уничтожила значение удачи и возбуждает сомнение в самой ее возможности.
В последние годы много шума наделала советская постановка «Ревизора» Мейерхольда8. Ее много и резко бранили, как возмутительную пародию. Судя по рецензиям, она действительно полна нелепыми и ненужными «отсебятицами», исказившими текст и привычный нам сценический строй гениальной комедии.
Осуждение Мейерхольда отнюдь нельзя приписать исключительно консервативным вкусам и привычкам публики и критики, закоснелых в «традициях» и тенденциозно предубежденных против новшеств Мейерхольда как декадентского измышления ради «революционного достижения». Резкие приговоры Мейерхольду вынесены «контрреволюционною» зарубежною печатью, но не мягки они и в официальной печати большевиков9.
Однако и там, и там, и в Зарубежье, и в СССР, сквозь дружный гул голосов, Мейерхольда порицающих и хулящих, слышны и отдельные возгласы склонных дать ему снисхождение, а то и вовсе его оправдать. А, например, Андрей Белый, едва ли не самый фантастический «гоголист» XX века, превознес Мейерхольда до небес и гимном во славу мейерхольдова «Ревизора» заключил свою книгу «Мастерство Гоголя», видя в мейерхольдовском труде точку и синтетический ключ ко всему Гоголю10.
Для Андрея Белого – постановка «Ревизора» – едва ль не последнее достижение не русской, а мировой сцены. Весьма знаменательно, что достижение это – и в Гоголе, и посредством его; она – не точная фантазия мысли, в себя вобравшей особенности мастерства и им давшей вещественное оформление, как знак, до чего Гоголь-мастер в нас жив. «Мейерхольд вынул нам Гоголя из самого гроба «собрания сочинений». «Соединив конец “Ревизора” с концом “Мертвых душ”, впаял оба конца и конец Гоголя». «Всюду палец (режиссера) показывает: «Гоголь в целом – вот что!». Постановка – сжатые в образ опыты исследования: «текстология Гоголя!»11.
«Гоголь, автор комедии, неотделим от прозаика-декламатора и декоратора, зоркое око которого дало недаром ведь выставку ярких провинциальных полотен; Гоголь – актер, чтец и мим – рвался к тому, чтобы голос его раздавался на сцене. Мейерхольд выполнил просьбу Гоголя, согласовав ритм, жест и красоту с наличием звукового образа Гоголя; у него и живопись, и предметность, и интонация – «Гоголь». Но ахнули: «Это ли “Ревизор”? “Оскорбил” память Гоголя! Надо бы кричать: впервые дал! Основные гоголевские словесные ходы: гипербола, звуковой, жестовый и словесный повторы, фигура фикции, лирика авторских отступлений (страницами), вводные предложения с деталями, будто ненужными (нужными!), читателю в лоб, превосходная степень, столпление действий, предметов, эпитетов до размножения каждого данного образа. Все дано вещественным оформлением Мейерхольда»12.
Оставляя без обсуждения восторги Андрея Белого «читателю в лоб» и брань противников Мейерхольда, коснусь сути дела, независящей от того, исказил ли Мейерхольд «Ревизора» или украсил: вопроса о том, имел ли Мейерхольд право подойти к «Ревизору», как к творенью символическому и допускающему фантастическую трактовку?
Этот вопрос едва ли может быть решен отрицательно. По-видимому, Мейерхольд не справился с большой задачей, которую себе поставил, но это – неудача его малой даровитости или дурного вкуса, т. е. личных качеств, а никак не самой задачи. В ней он преследовал, хотя по ошибочно взятой дороге, но как раз ту цель, что указывает Гоголь: внушить зрителю, что ПОД оболочкой веселой комедии «Ревизора» скрывается грозная общественная трагедия.
Рецензируя постановку Мейерхольда, сотрудница парижского журнала «Числа» Ю. Сазонова выявляет, что режиссер и впрямь развернул пред публикой картину «города, какого нет и быть не может», – города-призрака, города в четвертом измерении.
«В “Ревизоре” резко и определенно сказывается тяготение к реализму, смешение его с фантастикой и потребность пояснять слова жестами, которые в пантомиме назывались «описательными». Действие не развивается равномерно, с моментами передышки, но стремится в каком-то крутящемся водовороте, все время сохраняя крайне напряженный темп. Как бы для показания внутренней бесцветности этого движения среди множества человеческих фигур, все время крутящихся и юлящих, в центре поставлено выдуманное режиссером маленькое облезлое существо, молчаливое, жалкое, полусонное – и оно определяет какую-то статику в этой динамике пущенного махового колеса». (Не видав своими глазами мейерхольдова «Ревизора», не решаюсь утверждать, что символизирует эта облезло-недвижная центральная фигура. Вековую пошлость, что ли? Или захудалого «чорта», сонно владычествующего в неизменяемо трясинном городе? Г-жа Сазонова не объясняет.)13
Каков же психологический результат этой бешеной суматохи? По словам рецензентки, именно тот, какого искал творец «Ревизора»: трагическое.
«“Тягостное впечатление”, о котором говорит Гоголь и которое в последние десятилетия смягчилось сознанием отдаленности изображенной эпохи, сгущено до полного ужаса, и круг безвыходного отчаяния кажется на веки замкнутым и непреходимым… Несмотря на костюмы николаевской эпохи, стертость границ времени и пространства, созданные намеренным пренебрежением к реальности, приближает к нам действие настолько, что зритель ощущает себя в современности. Хлестаков из хвастуна и вертопраха превращается в странный образ какой-то метафорической пустоты; Сквозники-Дмухановские перерастают казаться символическими фигурами далеко отошедшей эпохи. Тягостный кошмар кажется вечным и непреодолимым»14.
Следовательно, худо ли, хорошо ли, это другой вопрос, но выполнена, по крайней мере, наполовину прямая Гоголева программа: зрителю предлагается «побывать в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, – в котором бесчинствуют наши страсти как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей»15. Пред зрителем, дерзнувшим проникнуть в этот таинственный, небывалый, но вездесущий город, «открываются такие страшилища, что от ужаса поднимается волос»16 («Развязка»). Он видит оправдание знаменитого Гоголева эпиграфа: кривые рожи, в кривизне которых нисколько не виновато то комическое зеркало, потому что они зверски и скотски искривлены самою природою, наделившей их зверскими и скотскими страстями.
Каков плод этакого созерцания? Нехороший. Вторая половина гоголевой программы, бодрящая упованием, – проваливается. «Зритель теряет веру в возможность спасения. Та духовная площадка, с которой смотрел Гоголь и откуда на зрителя падал свет надежды, не существует в новой переделке, и “смех, родившийся из любви к человеку”, сменяется горькой и безнадежной гримасой ненависти. Ненависть и отвращение к человеку является содержанием мейерхольдовой постановки»17.
Это – несомненно, не от Гоголя, но против Гоголя. По его мысли, «искусство есть примирение с жизнью», а его комедия должна «все, что ни есть, от мала до велика» подвигнуть на служение «Тому же, Кому все должно служить на земле» и возносить «туда же кверху, к Верховной вечной красоте!»18
То обстоятельство, что «Ревизор» Мейерхольда, вместо вознесения кверху, к Верховной вечной Красоте, опустился куда-то совсем насупротив, глубоко вниз к низменному безобразию, зависит прежде всего, конечно, от жестоких нравов и диких вкусов государства, в котором этот режиссер работает «по социальному заказу» и атмосферой которого он, волею не волею, пропитан. А может быть, и от личного пессимистического мировоззрения и мрачного характера самого г. Мейерхольда. Это опять-таки случайное, личное, временное. Неудача по внешним причинам, которая есть, но которой, в лучших социальных условиях, могло бы и не быть.
Но ведь большой вопрос: Гоголь-то сам верил ли – в самом деле – в благотворный этический исход своей символической программы? Ведь знаменитый программный монолог «Развязки» – проповедь «Первого комического актера» – притча о «ключе к запертой шкатулке» с финальным призывом «кверху, к Вечной красоте» – выражает только, как, по намерению автора, должен быть понимаем и какое действие на зрителя должен оказывать «Ревизор». Но понятен ли он так и таково ли его действие на деле, остается под сомнением.