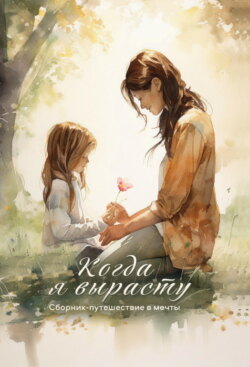Читать книгу Когда я вырасту - Сборник - Страница 6
Галина Дейнега
ОглавлениеВ детстве я мечтала стать следователем. Сказывалась обострённая тяга к справедливости. Мне представлялось, что если я так легко решаю школьные задачи, отгадываю загадки, головоломки, ребусы, то могла бы решать и более важные задания: проводить расследования, объяснять поступки людей, раскрывать преступления. Профессия следователя для девушки – выбор непростой. Работа эта сложная, требует не только юридического образования, но и таланта, упорства, настойчивости. Окончив школу с золотой медалью, я была готова к трудностям, но понимала, что моей мечте не сбыться. В нашем городе юридического института не было, в другой город родители меня не отпускали, пришлось довольствоваться педагогическим.
Сила слова
Учёба в педагогическом институте началась интересно, весело. Увлеклась психологией, записалась в психологический кружок. В апреле в составе этого кружка отправилась в подростковую трудовую колонию недалеко от города.
Весна в разгаре. В воздухе пахло весёлым легкомыслием, что создавало игривое настроение. Однако оно сразу улетучилось, как только наш автобус остановился у массивных ворот в высоком заборе, окаймлённом колючей проволокой.
Вахтенный, проверив у водителя документы, крикнул: «Отворяй! Свои». Железные ворота автоматически раздвинулись, и мы въехали на неприветливую территорию. Дежурный проводил нас в школьный корпус. Здесь с нами провели беседу об особенностях поведения трудных подростков. Из неё я вынесла для себя на всю последующую жизнь правило: нельзя унижать людей, а детей – тем более. От унижения в них зреет и может вырваться наружу протест в виде неукротимой ярости. Потом, когда остынут, будут удивляться: неужели это они учинили такой погром? Они же не хотели. Понятия не имели, что такое натворят. Они же ещё дети…
Для колонистов студенты приготовили концерт. Ребят собрали в большом зале. Коротко стриженные, одетые в серые робы, они, пожалуй, казались бы сплошной серой безликой массой, если бы не их глаза, поглядывающие остро, зорко, с интересом. Ребята внимательно слушали выступления и после каждого номера дружно аплодировали.
В художественной самодеятельности я участвовала со школьных лет и, как мне говорили, стихи читала так трогательно и проникновенно, что у слушателей пробегали мурашки по телу. В той концертной программе я читала «Каретный переулок» Константина Симонова.
Прошло полгода после поездки в колонию, и она вдруг напомнила о себе.
Тихим октябрьским вечером возвращаюсь домой. Стою на остановке. Луна сияет во всём своём великолепии и наводит на мысль о могущественном влиянии лунного света на явления моей жизни. Подходит полупустой троллейбус. Вхожу в салон. Осматриваюсь. На задней площадке – ватага парней примерно моего возраста. На меня сразу же обращают внимание. Переговариваются, кивают в мою сторону. Я быстро прохожу вперёд, занимаю свободное место, но продолжаю чувствовать внимание парней. Мне становится как-то тревожно. От остановки до дома идти два квартала по безлюдной улице. «Вдруг эта компания пойдёт за мной?» – смятенно думаю я…
Так оно и случилось. Моя остановка. Выхожу. Парни тоже выходят. Идут следом за мной.
– Девушка!
Я ускоряю шаг. Парни говорят наперебой на разные голоса.
– Что вы так спешите?
– Да не бойтесь.
– Мы вас знаем.
– Вы к нам в колонию приезжали. Стихи читали.
Я останавливаюсь. Разворачиваюсь к парням.
– Да, я была в колонии. Читала стихи Симонова. И что?
Тут, как-то вдруг, происходит совсем странное. Меня просят:
– А почитайте ещё раз.
Вот это поворот событий!
– Здесь? Сейчас?
– А что? Никого нет. Только мы с вами.
– Погода хорошая. Луна вон как светит. Почитайте!
– Пожалуйста…
Просят по-доброму. «А почему бы и нет?» – решаю я и вхожу в роль:
За окном пепелища, дома чернорёбрые.
Снова холод, война и зима.
Написать тебе что-нибудь доброе-доброе?
Чтобы ты удивилась сама…
Я смотрю на ребят, окруживших меня тесным кольцом, и чувствую их потребность в доброте. В тишине мелодично звучит мой голос. Слушают меня внимательно. В нужных местах я останавливаюсь, делаю глубокий вдох, выдерживаю паузу. Быстро бежит время. Вот уже и конец стихотворения:
Даже в горькие дни на судьбу я не сетую.
Как заведено, буду я жить…
Но семнадцатилетним я всё же советую
Раньше на пять минут выходить.
В наступившей тишине я оглядела всех. Ребята стояли замершие, как в детской игре «Море волнуется». Что-то щемящее было в этой сцене.
– Спасибо, – нарушил молчание один из них.
Я кивнула в ответ.
– Вас проводить?
– Нет. Я уже пришла.
– Ну, мы пойдём?
– Идите. До свидания.
– До свидания.
Ребята повернули в сторону остановки. Глядя им вслед, я взгрустнула. Дети войны… Как много им пришлось пережить…
Война ужасные вещи проделала с людьми: даже если они уцелели физически, то души у всех покалечены. Кто стал труслив, кто отгородился от мира каменной стеной, кто стал жесток, обозлился на весь белый свет… Кто же залечит эти незримые, но мучительные раны в глубине человеческих душ? И мне вдруг пришла в голову мысль: «Спасибо судьбе, что привела меня в педагогический институт, а не в юридический. “Сеять разумное, доброе, вечное” куда лучше, чем разгребать криминальные плоды».
Храни её, Господь
«Любить иль быть любимым?» —
Ведут подростки спор,
С упорством безрассудным
Вступая в разговор.
Любимым быть, конечно!
Подарки получать!
Вниманье бесконечно!
Сплошная благодать!
И только лишь с годами
Начнёте понимать,
Что были вы глупцами,
Приятней – отдавать.
Готовиться к свиданьям,
Чушь всякую пороть.
И жить с одним желаньем:
Храни её, Господь!
Любить и жить ликуя.
Раскроешься ты сам,
Тепло в груди почуяв,
Взнесёшься к облакам…
Любить! Любить! Любить!