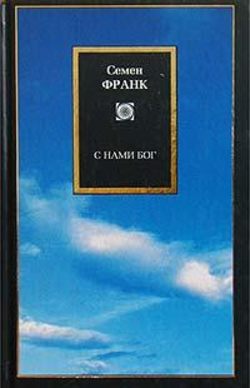Читать книгу С нами Бог - Семен Франк - Страница 3
ЧАСТЬ I
ЧТО ТАКОЕ ВЕРА?
2. ВЕРА КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ОПЫТ
ОглавлениеУбеждение, что вера основана на доверии и послушании авторитету – инстанции, которая в отличие от нас самих посвящена в Божественные тайны, непосредственно ведает Бога и потому одна только может открывать нам Его, – это убеждение, очевидно, предполагает, что сфера Божественной реальности от нас удалена и нам недоступна. Выражаясь в терминах логики и теории знания, вера, согласно этому воззрению, есть суждение о трансцендентном предмете – суждение, которое не может быть проверено непосредственным опытом. Так, вера в существование Бога есть, с этой точки зрения, убеждение – мысль, что где-то, «на небесах», в месте, нам абсолютно недоступном, пребывает личное существо, обладающее всеми необходимыми атрибутами Божества (вечность, абсолютное совершенство, всеведение, всеблагость и всемогущество). С точки зрения чистого, незаинтересованного познания, это есть не более как догадка, предположение, и притом, как только что указано, не допускающее проверки. Холодный разум может оценить это допущение только в словах, может быть, это – так, а может быть, этого совсем нет. И притом шанс на верность этого допущения совсем не составляет, как могло бы показаться на первый взгляд, половину всех возможных шансов. Ведь утверждение есть всегда утверждение чего-то совершенно определенного, отрицание же, напротив, имеет неопределенное содержание и допускает бесконечное количество других возможностей. Утверждению существования Бога можно противопоставить утверждение, что «небеса пусты», что там вообще ничего нет, что видимым земным миром исчерпано все бытие. Но отрицание может иметь множество других смыслов. Оно может означать, например, что миром правит не Бог, а дьявол, или что существует не единый миродержавный Бог, а множество богов, или что Бог, хотя и всеблаг, но не всемогущ (основная мысль древних гностиков, весьма популярная в современном внехристианском религиозном сознании), или что Бог совсем не вечен, не существует изначала, а сам лишь постепенно творится в процессе мировой эволюции (излюбленная мысль немецкой религиозно-философской спекуляции), и т. д. и т. д. Содержание того, что в обычном смысле называется «верой в Бога», оказывается при этом одной из многочисленных возможных гипотез, которые все одинаково непроверимы. Или возьмем другой пример. Вера в бессмертие души, в посмертное бытие нашей личности, по-видимому, по самому существу дела есть вера в нечто трансцендентное и непроверимое, если о будущем вообще мы можем строить только более или менее произвольные догадки, то тем более – о предполагаемом или воображаемом будущем нашей души после нашей смерти. Так как никому из нас не дано побывать при жизни «там», в предполагаемой посмертной нашей обители, и так как ушедшие «туда» не возвращаются и ничего нам не говорят – или, по крайней мере, те, в которых некоторые склонны усматривать свидетелей «того мира» – «духи», будто бы являющиеся и говорящие на спиритических сеансах – в высшей степени недостоверны, – то, казалось бы, совершенно очевидно, что мы можем иметь «веру» в бессмертие души только как непроверимое допущение о некоей трансцендентной, недопустимой нам реальности. С точки зрения непредвзятого знания вопрос о посмертном существовании души по самому существу дела должен по-видимому оставаться тем, что d’Alembert называл «le grand peut-être».[2] Словом, при таком понимании дела религиозная вера подобна утверждению существования «человека на Луне», о чем говорит детская сказка, но в чем здравая, трезвая мысль имеет все основания сомневаться. Я уже не говорю о тех мнимых скептиках, которые воображают себя вправе решительно отрицать все утверждения веры, т. е. «знать» о трансцендентном, что его вообще нет или что оно совершенно противоположно утверждениям веры; достаточно и того, что настоящий, подлинный скептицизм имеет основания во всем сомневаться.
Именно такое понимание веры как необоснованного и непроверимого суждения о недоступной нам реальности ведет к тому, что для человека, способного к свободной, непредвзятой мысли, и в особенности для человека, привыкшего мыслить и не способного отказаться от умственной проверки, акт веры оказывается чем-то в высшей мере трудным и шатким – делом, требующим мучительного напряжения воли, некоей почти противоестественной ломки сознания – героического «подвига» отречения от мысли, sacrificium intellectus[3] При таком понимании вера может быть, в сущности, определена только иррациональными мотивами – воспоминаниями религиозных впечатлений детства, страхом смерти и возможной посмертной кары за неверие, в лучшем случае – жаждой забыться в некоем «священном безумии», в некоем утешающем, сладостном самовнушении. В людях мысли это приводит либо к настоящему раздвоению сознания – к пресловутой «двойной бухгалтерии», при которой в воскресенье в церкви думаешь одно, а в будни в своем кабинете или в научной лаборатории – совсем другое, либо же к безысходно мучительному колебанию между верой и неверием. Приведу один конкретный пример. О замечательном и несчастном французском поэте Arthur Rimbaud, который в течение всей своей жизни был циником и бунтовщиком, его верующая сестра рассказывает, как, умирая и испытывая желание верить, он переживал страшные муки сомнения. «Он глядел мне прямо в глаза, как никогда не смотрел. Он просил меня подойти совсем близко и сказал мне: «В нас обоих течет одна кровь. Ты веришь? Скажи, ты веришь?» Я отвечала ему: «Я верю, и другие, более ученые, чем я, верили и верят; и потом – я теперь уверена, это верно, это есть на самом деле». Он ответил с горечью: «Да, они говорят, что верят, они делают вид, что обратились к вере, но это только для того, чтобы читали, что они пишут, это – спекуляция». Я заколебалась, потом сказала: «Нет, это не так, кощунством они могли бы добыть больше денег». Он все время глядел на меня – в его глазах было небо. Он поцеловал меня и потом опять сказал: «Мы могли бы иметь одинаковую душу, потому что в нас одна кровь. Значит, ты веришь?» И я повторила: «Да, я верю, надо верить».[4] Можно ли вообразить себе более страшную и безысходную душевную муку? В большей или меньшей мере все неверующие и мыслящие люди, жаждущие веры или обратившиеся к вере – поскольку они исходят из изложенного выше распространенного понимания существа веры, – испытывают такие же сомнения.
Самым парадоксальным и острым выражением этого понимания веры и вытекающего из нее трагического положения человеческой души перед проблемой веры и неверия может почитаться знаменитое «пари» Паскаля. Я должен сказать откровенно: при всем моем восхищении правдивостью, силой и проницательностью религиозной мысли Паскаля я не могу видеть в этом «пари» ничего, кроме странного и притом кощунственного заблуждения. Ход мысли, как известно, таков: так как ставки игры на веру и неверие бесконечно различны по ценности – поставив на веру и ошибясь, мы потеряем только ничтожные блага краткой земной жизни, поставив же на неверие и ошибясь, мы вместо вечного блаженства рискуем быть обречены на вечные муки, – то даже при минимальном шансе на правоту веры расчет риска и удачи велит избрать ставку на веру. Я, конечно, знаю, что конкретный ход мыслей Паскаля гораздо тоньше этой грубой логической схемы, в нем, как всюду у Паскаля, есть гениальное прозрение. В нем можно уловить совершенно иную мысль, именно, что, пойдя сначала «наугад» по пути веры, потом обретаем на нем опытное удостоверение его истинности. Но если оставить это в стороне и сосредоточиться на приведенном грубом логическом остове мысли, то получается впечатление чего-то противоестественного, какого-то духовного уродства. Мысля Святыню и не зная, есть ли она на самом деле, мы должны заняться расчетом, стоит ли наугад поклоняться ей, не имея никакого внутреннего основания для веры, мы должны следовать расчету, что для нас выгоднее вести себя, исходя из предположения, что утверждения веры все-таки окажутся правильными. Какую религиозную ценность имеет так мотивированная решимость верить? Какое представление о Боге и Его суде над душой лежит в основе этого расчета? Если бы я был неверующим, то я ответил бы Паскалю: «Я предпочитаю предстать перед судом Божиим – если он существует – и откровенно сказать Богу: «Я хотел верить, но не мог, не находя основания для веры; честно искал Тебя, но не мог найти и потому склонился к убеждению, что Тебя нет; а теперь суди меня, как знаешь, я не знаю есть ли Бог, и даже думаю, что Его нет: но я наверное знаю, что, если Он есть, Он милосерд и, кроме того, ценит выше всего правдивость и чистоту души и потому не осудит меня за искреннее заблуждение; поэтому у меня вообще нет риска проигрыша, и все ваше пари есть неубедительная выдумка».
Но все это трагически-мучительное состояние души перед лицом вопроса о вере и неверии, все это тягостное и бесполезное напряжение духа, когда мы заставляем себя верить и все же не можем заставить по той простой причине, что вера по самому ее существу может быть только свободным, непроизвольным, неудержимым движением души – радостным и легким, как все естественное и непроизвольное в нашей душе, – все это проистекает из указанного понимания веры как ничем не обоснованного суждения о трансцендентной, недоступной нам реальности. Отсюда, повторяю, готовность и склонность доверяться авторитету – обосновывать веру на сообщениях некоей высшей инстанции, о которой мы думаем, что она мудрее, более сведуща, чем наша бессильная человеческая мысль, т. е. что она уже действительно посвящена в недоступные нам тайны бытия, имеет в отличие от нас самих непосредственный доступ к ним. Но мы уже видели, что это только мнимый выход из отчаянного положения. Можно и должно довериться авторитету, верить суждению тех, кто мудрее и опытнее нас. Но для этого надо уже знать, а не слепо верить, что они действительно мудрее нас, т. е. в данном случае что они действительно научены самим Богом; а для этого надо не только уже знать, что Бог есть, но и уметь самому различать, какие человеческие слова выражают подлинную Божию правду, а какие – нет. Но как возможно это двойное знание, если вера всегда и всюду есть только догадка, суждение о чем-то недоступном?
Выше я пытался показать, что вера-доверие – непосредственно или через ряд промежуточных инстанций – опирается на веру-достоверность. Но как возможна вера-достоверность? Достоверность во всех областях мысли и знания может означать только одно: реальное присутствие самого предмета знания или мысли в нашем сознании. Такое реальное присутствие самого предмета есть то, что в отличие от суждения как мысли о трансцендентной реальности называется опытом. Мысль, суждение требуют проверки, может быть истиной и заблуждением. Но опыт удостоверяет сам себя, ему достаточно просто быть, чтобы быть истиной. Когда я испытываю боль, я тем самым знаю, что боль действительно есть, что она – реальность; также я знаю, что испытанная мною радость есть в составе моей жизни подлинная реальность. Сомнение было бы здесь просто бессмысленно, ибо беспредметно. Достоверность в конечном счете носит всегда характер того непосредственно очевидного знания, в котором сама реальность наличествует, как бы предъявляет себя нам; именно это мы разумеем под словом «опыт». Опыт – такое обладание чем-либо, которое само есть свидетельство реальности обладаемого. Если возможна вера-достоверность, то это предполагает, что есть вера, имеющая характер опыта.
Идея, что сущность или первоисточник веры заключается в опыте, была отчетливо выражена, насколько я знаю, в новейшее время Вильямом Джемсом в его замечательной книге «The Varieties of Religious Experience». Джемсу принадлежит введение самого понятия «религиозный опыт». Но Джемс, проницательный психолог и, кроме того, гениальная личность, хотя и склонная к чудачеству, несмотря на обилие умнейших и верных мыслей, высказанных в этой книге, вряд ли сам сознавал все значение введенного им понятия; философски он был умом довольно беспомощным и беспорядочным. Блестящий замысел «метода радикального эмпиризма», которым он обосновывает идею религиозного опыта, он перемешивает с другими, спорными и прямо неверными теориями. Что он сам не понял решающего значения введенного им понятия, об этом свидетельствует уже то, что он напряженно искал подтверждения веры в спиритизме и «парапсихологии» и с нетерпением ждал смерти, чтобы получить наконец доступ к тайнам Божественного бытия. Нам приходится поэтому заново, самостоятельно выяснить и обосновать понятие религиозного опыта.
Начну издалека. Оставим пока в стороне вопрос, может ли в опыте быть дан предмет религиозной веры, например бытие Бога или посмертное бытие души. Поставим сперва более общий вопрос: возможен ли вообще сверхчувственный опыт – опыт, выходящий за пределы чувственно-воспринимаемых содержаний бытия, так сказать, его ближайшего, знакомого нам обычного «земного» состава – цветов, звуков, вкусов, запахов, осязательных качеств? Я не буду пускаться здесь в сложные, трудные для философски не вышколенного ума доказательства, что уже в восприятии геометрических форм, а также в восприятии времени и в восприятии таких хорошо знакомых нам общих свойств и отношений бытия, как единство и множество, род и вид, сходства и различия, причины и действия, мы имеем образцы нечувственного или сверхчувственного опыта. Обратимся к другим примерам, более простым и имеющим – как увидим сейчас же далее – отношение к нашей теме. Что такое, например, эстетический опыт? Как воспринимаем мы красоту? Лучше всего при этом сосредоточиться на искусствах, так сказать, беспредметных, как музыка или архитектура. Слушая прекрасное музыкальное произведение, человек, одаренный музыкальным чувством, слышит, кроме самих чувственно-данных звуков и их сочетаний, еще что-то другое, что мы называем музыкальной красотой и что составляет само существо музыки. Как бы позади звуков и сквозь них мы воспринимаем еще что-то несказанное, о чем в словах можно дать только слабый, несовершенный намек. Музыка Бетховена открывает нам какую-то героическую эпопею духа – скорбь, мятеж, титаническую борьбу – и горестную судьбу духа и блаженство его торжества. Музыка Баха как бы отверзает нам небеса и в переливах голосов показывает нам чистую, прозрачную, возвышенную красоте некой нездешней эфирной орнаментики. Через музыку Моцарта мы становимся причастниками детской чистой игры неких ангельских существ, в прелести которой очищается и просветляется вся скорбь бытия. Если звуки при этом воспринимает наше ухо, то то несказанное, о чем они говорят, что они возвещают, воспринимает непосредственно наша душа. То же самое – в архитектуре, этой «застывшей в пространстве музыке». И здесь через посредство чувственно-данных форм мы воспринимаем несказанное, сверхчувственное содержание. Огромный, устремленный ввысь готический собор, сотканный из каменного кружева, открывает нам, как земное тяготеет к небесному, как при этом величие может сочетаться с тонкостью, строгое послушание – с легкостью и свободой. Античный храм даже и в своих обломках дает нам почувствовать, что, кроме нашего смутного, беспорядочного, трагического мира, где-то в бытии есть сфера покойной, блаженно-сияющей, самоудовлетворенной красоты. А ренессансный дворец открывает нам, что и здесь, на земле, возможна гармония через осмысленную пропорциональность, что есть какая-то прекрасная правда, смысл которой – в покое и уравновешенности, в имманентной пронизанности бытия порядком и внутренней согласованностью.
А что мы сознаем, наслаждаясь живой прелестью прекрасного человеческого лица или тела? Видимая форма здесь именно потому прекрасна, что воспринимается как совершенное выражение некоей таинственно-незримой и все же опытно, воочию нам предстоящей, восхищающей и умиляющей нас реальности.
Где-то поблизости от красоты находится добро. Мы отличаем добро от красоты и в этом смысле должны отличать нравственный опыт от эстетического. В нашей, связи, однако, важно другое: восприятие добра вовне, так сказать, встреча с добром имеет глубокую аналогию с восприятием красоты; поэтому не случайно мы говорим о нравственной красоте. То, что мы называем нравственной красотой самого духа – красота, уже, по существу, не приуроченная к зримой, чувственно-воспринимаемой наружной поверхности бытия, а сущая в некоей незримой глубине и даже в каком-то смысле умышленно в ней скрывающаяся. Но именно нравственная красота есть вместе с тем наиболее сильная, наиболее захватывающая нашу душу, глубже всего в нее проникающая красота. Такие явления, как кроткая доброта в ответ на оскорбление или причиненное тяжкое зло, как самоотверженный подвиг любви, как добровольная, спокойно-радостная смерть за благо ближних, за торжество добра, – все это сияет, как отдельные звезды, во тьме нашего земного бытия. Все это встречается – хотя и редко – в составе нашего опыта. Но само собой очевидно, что все это мы воспринимаем не глазами и не ушами, а непосредственно нашей душой. Все это есть наряду с эстетической красотой еще иной, значительный и существенный вид сверхчувственного опыта. Нет надобности в других примерах. Совершенно очевидно, что сверхчувственный опыт нам доступен. Я предвижу уже сейчас скептическое возражение. Все это так, скажут, но все это относится к области субъективного бытия, к области наших душевных переживаний. К обсуждению этого возражения я обращусь позднее. Оно, очевидно, содержит уже некоторое истолкование сверхчувственного опыта, некоторую философскую теорию о нем, и притом – скажу сейчас же – теорию плохую, путаную и неверную. Но я предлагаю пока воздержаться от всяких теорий и толкований и только ответить прямо и недвусмысленно на один вопрос: есть ли на самом деле (все равно, в какой области бытия – «субъективной», «объективной» или еще какой-либо иной) то нечто, что мы называем красотой и добром? Опыт не может вызывать сомнений. Я так же мало могу отрицать, что на свете есть красота и добро, как я не могу отрицать, что есть боль, наслаждение, радость и горе, и как я не могу отрицать, что есть цвета, звуки, запахи, вкусы. И характер достоверности совершенно тот же. Я не думаю, не предполагаю, не верю, что все это есть, я это знаю, потому что имею в опыте, т. е. потому что соответствующая реальность сама наличествует, присутствует передо мной. Во всех этих случаях одинаково имеет место встреча с реальностью; сомневаться же в том, действительно ли существует реальность, которую мы встречаем, задаваться вопросом, на чем основана наша уверенность в ее существовании, значило бы просто сойти с ума, говорить бессмысленные слова или – как сказал по аналогичному поводу один философ – значило бы иметь желание быть скептиком, не имея к тому надлежащих дарований.
Если, отдав себе в этом ясный отчет, мы снова поставим вопрос: существует ли аналогичный по составу религиозный опыт, то мы сразу почувствуем, что положительный ответ на этот вопрос, в сущности, уже предрешен тем, что мы только что осознали. Ибо опыт красоты и добра уже сам по себе есть опыт неких элементов, входящих в состав религиозного опыта. Не случайно всякий, даже неверующий человек, пытаясь выразить то, что ему стало доступно в опыте красоты и добра, вынужден употреблять такие слова, как «дивный», «чудесный», «неземной», «божественный». Опыт встречи с чистой, совершенной красотой, как и опыт встречи с чистой благостью, с кротостью в страдании, с подвигом самоотверженной любви, – для всякого непредвзятого сознания, которое, не рассуждая, просто отдается испытанному впечатлению и только пытается осознать его содержание, есть совершенно неизбежно и с полной очевидностью уже по меньшей мере зачаток, смутное предвосхищение религиозного опыта. Предание о крещении Руси рассказывает, что, когда послы князя Владимира, которым было поручено отыскать истинную религию, побывали на богослужении в соборе Св. Софии в Константинополе, они выразили свои впечатления – очевидно, ближайшим образом эстетическое впечатление от величия храма и поэтически-музыкальной красоты литургического песнопения – в словах: «Мы не знали, где мы находимся, на земле или на небе». Философски точнее нужно было бы выразить это впечатление так: «Пребывая на земле, мы имели опыт приобщенности к небесному бытию». Вполне можно поверить преданию, что это впечатление было решающим при обращении русского народа в христианство. Трогательное выражение того же духовного опыта – встречается у русского писателя второй половины XIX века Глеба Успенского – человека, который по сознательным своим убеждениям был совершенно чужд и религиозности, и понимания значения красоты и всецело охвачен только социально-нравственным интересом. Он описывает, как, угнетенный впечатлениями материальной и правовой угнетенности русского народа, он случайно забрел в Париже в Луврский музей и увидал Венеру Милосскую. Он испытал при этом настоящий переворот, который он выражает в слове «выпрямила». Уныние от сознания безнадежной жизни, в которой царит нравственная неправда, сменилась вдруг ощущением, что есть все же на свете настоящая правда – та правда человеческого достоинства и величия, которая воплощена в образе Венеры Милосской, это ощущение дало ему прилив новых духовных сил, переполнило его снова бодростью и оптимизмом в борьбе за нравственную правду. Сам того не ведая, он испытал в содержании красоты античной статуи подлинный религиозный опыт, принесший ему духовное возрождение. С этим впечатлением совпадает впечатление другого русского писателя, тонкого эстета Тютчева, который в пессимистическом рассуждении о суетности и трагизме человеческой жизни и судьбе европейского человечества делает существенную оговорку: «Конечно, Венера Милосская несомненнее принципов 89-го года».
Есть еще другая сторона, в которой опыт красоты, как и опыт добра, испытывается как религиозный опыт. Это – их зарождение в глубинах человеческого духа, опыт их связи с внутренним, творческим существом человеческого духа. То, что называется «вдохновением», и есть источник художественного творчества, как и тот таинственный внутренний толчок, без которого немыслима решимость на нравственный подвиг, акт окончательного преодоления нашей человеческой слабости, нашей плотской природы, – испытывается всегда как соприкосновение человеческого духа с некоей высшей, сверхчеловеческой инстанцией, как прилив в душу сил неземного порядка. И одновременно действует и обратное соотношение: кто уже обладает религиозной верой, тот сознает ее как некий резервуар питающих душу сил добра и имеет также неудержимую потребность выразить свою веру в переживаниях эстетического порядка, в поэтическом и музыкальном славословии Бога, в рационально непонятном уготовлении незримому вездесущему Богу зримой прекрасной обители-храма.
Но если опыт добра и красоты входит в состав религиозного опыта и образует как бы его зачаток, то он все же его не исчерпывает. Но имея и осознав первый, уже нетрудно усмотреть реальность последнего, хотя и трудно выразить ее в словах. Религиозный опыт есть опыт реальности того несказанного, что человеческий язык выражает намеком в таких словах, как «священное», «святое», «святыня», «Божество». «Бог». Здесь надо остерегаться смешать непосредственное содержание опыта с производной, пытающейся его осмыслить религиозной «теорией» – с мыслями и понятиями, в которых мы стараемся – всегда несовершенно и потому всегда более или менее спорно – зафиксировать, выразить эту опытную реальность. То, что нам непосредственно дано в опыте, есть реальность, которую мы сознаем, с одной стороны, как нечто первичное, как последнюю глубину и абсолютное, дающее последнюю, высшую радость, совершенное удовлетворение и восхищение. Этой реальности соответствует в нашей душе в плане ее субъективных переживаний чувство, которое мы называем благоговением и которое есть неразделимое единство трепета преклонения – чего-то подобного страху, но совсем не тождественного ему – и блаженства любви и восхищения (замечательный современный немецкий богослов Rudolf Otto создал для этого термины: он говорит, что религиозное чувство есть сочетание «mysterium tremendum» и «mysterium fascinosum»[5]
2
«Великое быть может» (лат.).
3
Жертвоприношение рассудка (лат.).
4
Carré I. M. La vie aventureuse de Jean Arthur Rimbaud. Paris, 1926, p. 246–247.
5
«Страшное таинство» и «чарующее таинство» (лат.).