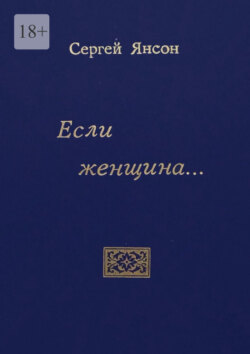Читать книгу Если женщина… - Сергей Борисович Янсон - Страница 3
ПОВЕСТИ
Дом культуры
ОглавлениеБывший сосед Леня Круглов уговаривал красиво:
– Место тихое, работы мало. Пришел и сиди себе, а зарплата: кап, кап, кап… И вставать рано не надо. Ты во сколько сейчас встаешь?
– В семь, – ответил Сомов.
– А будешь в восемь! Это же целый час самого доброго утреннего сна! У них продукты бывают дешевые. Принесешь родителям продукт, они тебя полюбят!
– И так вроде ничего…
– А будут еще больше! Золотое место! Я бы и сам в эти инструкторы пошел, да стихи писать надо.
Леня Круглов был поэтом. Его печатали детские журналы и один раз упомянули в вечерней газете. Интересно, мол, работают… и длинный список, в котором фамилия Лени стояла седьмой.
– Сам каким-нибудь творчеством займешься! – продолжал он. – Там же атмосфера, художнический дух!
– Какой дух?
– Художнический! Как войдешь, вдохнешь запаха кулис, так сразу хочется чего-нибудь написать… Ты стихи не пишешь? – Леня сердито подступил к Сомову. – Пишешь?
– Не умею, – ответил Сомов.
– Пиши тогда прозу! Прозу все умеют…
– Как это? – удивился Сомов.
Леня внимательно посмотрел Сомову в глаза, проговорил в задумчивости:
– Мда… Ну какой-нибудь талант-то в тебе есть?
Сомов задумался, перебирая в уме свои таланты. Все они казались незначительными.
– Ну ничего, – утешил Леня, – устроишься в наш дом культуры, талант найдешь… А денежки будут: кап, кап, кап…
– Рисовать можно, – проговорил Сомов.
– Во! Ты как любишь? Маслом? – Леня облизнулся.
– Я – для себя.
– Самодеятельность, что ли? – Леня снова насупился. – Рисовать надо с толком. Выходить на профессиональный уровень. Сейчас никто ничего просто так не делает. Или хочешь до старости тротуары мести?
При чем здесь тротуары, Сомов не понял, но на всякий случай ответил:
– Не хочу.
– Вот! Тогда устраивайся, будешь доволен.
Сам Леня один раз в неделю вел в доме культуры поэтическую студию «Перевал». Единственное, что ему мешало в нынешней работе – устаревшее название. Теперь он добивался переименования ее в «Перелом».
По образованию Сомов был инженером. Теперь все так говорят – по образованию, и никто не говорит – по профессии. Сомов был с этим согласен, потому что инженером по профессии не стал даже после трех лет работы в закрытом конструкторском бюро. Закрытым оно называлось, по-видимому, оттого, что попасть туда можно было лишь через две вахты, а устроиться на работу – только через знакомых. Сомова устраивала двоюродная сестра. Характер деятельности сотрудников там тоже был закрытым. В чем смысл его собственной работы, Сомов за все три года так и не понял. Должность называлась инженер-сметчик, а из запомнившегося осталась бесконечная колонка цифр, которые нужно было сложить, и результат под жирной чертой, который никогда не совпадал с необходимой цифрой. Сомов хорошо сознавал свою сомнительную ценность для бюро, поэтому очень удивился, когда сотрудники всполошились, узнав, что он уходит. Видимо, закрытым бюро называлось еще и потому, что просто так из него никто не уходил. Зарплата, коллектив и работа считались здесь интересными. А еще удивил начальник. Три года он не замечал Сомова, даже не здоровался, а тут вдруг вызвал, стал расспрашивать, предложил десять рублей к окладу. Сомов вежливо отказался и почувствовал себя солидным человеком, что так необходимо в двадцать четыре года.
– Ну что ж, – сказал начальник, – если надумаете, возвращайтесь двигать науку к нам. Нам нужны крепкие молодые ребята.
Начальник, видимо, считал, что без физической силы науку двигать трудно. Они пожали друг другу руки, и Сомов подумал про него: «Хороший мужик».
Дома Сомов сообщил о переменах родителям так:
– У меня теперь новый телефон будет. Дом культуры называется.
Отец подумал и серьезно сказал:
– Тебе двадцать четыре года.
Сомов тоже подумал и согласился. А мать вздохнула и спросила:
– Когда же ты женишься?
В последний день службы Сомов принес на работу бутылку вина и бутерброды. Идея сотрудникам понравилась, и хотя разговоры о нехватке денег занимали большую часть времени, тут же у многих нашлись необходимые трешки и пятерки, а инженер Клодт дал десять рублей и, вздохнув, сказал:
– Давно не собирались…
Работали в тот день как-то особенно дружно, а всем входящим сообщали:
– У нас Витенька увольняется…
По реакции входящих можно было подумать, что слышат они примерно следующее:
– У нас Витенька застрелился…
Спрашивали, что не понравилось, кто обидел и при этом почему-то подмигивали и понимающе показывали большим пальцем на потолок. К концу дня инженер Клодт сказал, что у Сомова, видимо, призвание, и все немного успокоились. После работы выпили отделом, а начальник сектора спросил:
– Мы к тебе, Виктор, в кино ходить будем… Пропустишь?
Сомов обещал всех пропустить и был сильно польщен, что начальник отдела при всех его о чем-то просит. Как-то само собой очутились в кафе, и к концу вечера Сомову стало жалко своих бывших товарищей по работе.
– Вы тут тоже не очень-то засиживайтесь! – призвал он, машинально указывая на столик. – Надо вперед идти, совершенствоваться!
Последний тост, который Сомов запомнил, был за искусство.
Сомов всегда любил слово «культура» и все, что с ним связано. А слова «дом» и «культура» в его понимании соотносились примерно так же, как храм и религия, хотя если бы спросили, верующий ли он, Сомов, вероятно, удивился бы. Школьником он ходил в кружок «художественного рисования» в одном из таких храмов культуры. На всю жизнь ему запомнилась тишина, вежливое обращение в гардеробе и мягкие звуки рояля из-за дверей музыкального класса.
Серым февральским утром в понедельник Сомов вместе с Леней поехал устраиваться на новую работу. Он долго выбирал, в чем ехать: в старом костюме с галстуком или в черном свитере, который тоже был старым. Вообще с одеждой у Сомова были натянутые отношения. Во-первых, мешал высокий рост, что часто не позволяло купить понравившуюся вещь, а во-вторых, если позволял рост, не позволяли деньги. В шестнадцать лет Сомов думал: «Ну как можно школьником модно одеваться? Это же родительская шея!» – и носил что покупалось от беды, поскольку родители смотрели лишь на то, чтобы вещи были не дырявые. Привычка осталась и в двадцать лет: «Как можно модно одеваться на зарплату в сто рублей?» Сомов смутно догадывался, что так думать можно до пенсии, которая тоже, кстати, невелика, но надежду на то, что хоть когда-нибудь можно будет не стесняться своей одежды, он не терял. Надел все-таки костюм и галстук. Хотелось выглядеть солидно. В автобусе народу было мало, Сомов с Леней сидели. Кандидат в работники культуры показывал свои документы. Леня с интересом прочитал биографию, полистал трудовую. Нашел на последней странице две благодарности и спросил:
– Ранения не отмечены?
Сомов волновался и шутки не понял.
– Это одна, видимо, за субботник, тогда всем давали, – сказал он, – а вторая – не знаю…
– Зря увольняешься, – вдруг проговорил Леня.
– Почему?
Сомов словно кусочек льда проглотил.
– Тебя любили, уважали… У нас в доме культуры благодарностей не пишут…
– Наверное, так принято? – осторожно спросил Сомов.
Леня вдруг улыбнулся, заглянул в чистый ото льда пятачок окна и сказал:
– Смотри – девахи пошли… Любишь девах?
С полчаса сидели в приемной. Директора не было. Секретарша в малиновом платье, больше подходящим для официального вечера, держала в руке большую кружку с узорами, пила чай. Из кружки торчала ложечка. На столике стояла маленькая баночка с вареньем. Звали секретаршу Марией Викторовной. Было Марии Викторовне лет сорок пять, но она, видимо, считала, что гораздо меньше. Секретарша оказалась женщиной улыбчивой, медлительной и приятной, как густо заваренный чай. Ее грудной хорошо поставленный голос успокаивал.
– Леонид Егорович? Хотите чаю?
– Буду, – ответил Леня.
– Тогда ищите стакан… А вы? – обратилась секретарша к Сомову.
– Это Витя, – объяснил Леня. – Я его к нам на работу устраиваю.
И без того блестящие глаза Марии Викторовны заиграли:
– Как же вас по отчеству?
Сомов ответил.
– Павлович? – переспросила Мария Викторовна. – Значит вы – сын императора Павла Первого!
– Он инженер, – сказал Леня. – В политико-просветительском стаканы есть?
– Есть, есть… У Борис Семеныча все есть.
Леня ушел, а секретарша, заедая чай вареньем, спросила:
– Наверное, женаты?
– Нет, – ответил Сомов, и ему почему-то стало стыдно.
– Ничего… успеете. Жениться никогда не поздно, а вот замуж можно опоздать.
Мария Викторовна долила кипятку в заварной чайник, накрыла специальной куклой. Сомов от чая отказался, хотя видно было, что чай здесь пьется с удовольствием. Позднее Сомов узнал, что кроме чая Мария Викторовна любит сладкое, интеллигентных людей и разговоры о личной жизни. Она села в кресло и спросила:
– Вам двадцать три года?
– Четыре, – ответил Сомов и снова смутился.
Мария Викторовна вздохнула, и под этот вздох можно было предположить многое. Помолчали… Сомов, чувствуя мужскую обязанность заговорить, спросил:
– А вы – секретарь директора?
– Заведующая канцелярией, – мягко поправила Мария Викторовна. – А секретарша я по совместительству.
– Извините!
– Ничего…
Мария Викторовна кокетливо улыбнулась. Сомову уже стало казаться, что улыбка вообще не сходит с ее лица, лишь затухает на время и снова разгорается.
– У нас на прошлой работе, – сказал Сомов, – был заведующий канцелярией – мужчина. Из-за одной закорючки мог неделю гонять!
– Симпатичный? – спросила Мария Викторовна.
Сомов пожал плечами, ответил:
– Принципиальный.
– Нет, это не по мне… Не люблю нудных мужчин. Мне смелые нравятся.
Сомов машинально выпрямился на стуле. Вошел Леня, показал чашку:
– Жмоты у нас в политико-просветительском. Дали с отбитой ручкой.
Мария Викторовна налила Лене чаю, дала сушку, и они заговорили о том, как хорошо летом отдыхать на Черном море. Сомов слушал вполуха и приглядывался. На больших окнах приемной висели раздвинутые бордовые шторы, стены были оклеены красными обоями, вдоль стены стояли красные стулья и два кресла такого же цвета, а на столике Марии Викторовны рядом с пишущей машинкой стояли духи «Красная Москва». «Красный цвет – для работоспособности», – подумал Сомов.
Дверь распахнулась, и в приемной появился маленький мужчина пожилых лет с красным в синюю жилку лицом, в расстегнутой красивой шубе. Леня вскочил, пряча за спину кружку с горячим чаем, почти крикнул:
– Здрасте, Альфред Лукич!
Так в армии в строю приветствуют командира. Поднялась и Мария Викторовна, улыбаясь, кивнула. Сомову тоже пришлось подняться.
– Это Витя Сомов! – бодро сказал Леня. – Я вам говорил!
Директор буркнул:
– Позову.
Он прошел к себе, оставив маленькие аккуратные следы на линолеуме. Сомов подумал почему-то, что такие следы приятно вытирать. Все трое сели и с облегчением вздохнули. Сомов сам на себя удивился: ну вошел начальник, ну и что? Отчего он испугался? Ведь еще даже не работает здесь!
– Не в духе! – весело сказал Леня.
А Сомов спросил:
– Он же на работе, при чем здесь в духе, не в духе?
– Альфред Лукич всегда на работе! – ответил Леня уже серьезно.
На столике у Марии Викторовны зажглась красная лампа. Секретарша поднялась, оправила платье, широко улыбнулась и вошла в кабинет. Через минуту появилась, сказала:
– Виктор Павлович, вас ждут.
– Ленька! Пошли! – прошептал Сомов.
Оба осторожно вошли в кабинет и встали у дверей у начала мягкого ковра, словно ковер был минным полем. Директор что-то писал. Он махнул рукой, и Леня осторожно прошел к одному из стульев у стены, хотя у директорского стола стояли мягкие кресла. Сомов сел рядом с Леней.
Крупная красивая голова директора из-за маленького туловища и короткой шеи, казалось, росла прямо из большого письменного стола. Сомову в первый момент в приемной даже показалось, что голова досталась Альфреду Лукичу от другого человека. Такой был контраст: худое маленькое туловище, короткие ноги и голова – красивая, с густыми черными волосами, правильными крупными чертами лица. Единственное, что портило лицо – красный цвет. Видимо, поэтому шторы были в кабинете задвинуты, горел мягкий вечерний свет. В тишине Сомов вдруг услышал, словно потустороннее:
– Город на реке Вача, шесть букв… вторая – «е».
Леня побледнел, задумался, широкими глазами посмотрел на Сомова.
– Вельск? – тихо спросил тот.
Директор с удивлением, словно сквозь туман собственных глаз, посмотрел на Сомова, потом на стол и вписал куда-то сказанное слово. Потом уже окончательно поднял голову и спросил:
– Зачем вы к нам устраиваетесь?
Сомов смутился. Ответы вертелись не те. Не скажешь ведь: из-за часа утреннего сна или: здесь мое призвание, я чувствую это…
– По совету друзей, – пробубнил Сомов и кивнул на Леню.
Леня на всякий случай засмеялся. Ответы не шибко интересовали директора. Видимо, ему важно было задать вопросы.
– А почему уволились из бюро? Дети маленькие есть? Давно знакомы с Леней?
Сомов уже внутренне был готов ответить, был ли кто из родственников во время войны на оккупированной территории и в каком году была написана работа Ленина «О кооперации». Но директор не спросил. Он перевел взгляд на Леню и заговорил о Сомове в третьем лице:
– Мы с большой охотой берем специалистов, его мы берем от безысходности. У нас есть ставка инструктора массового отдела от девяносто семи рублей пятидесяти копеек до ста двенадцати рублей. Я даю ему девяносто семь рублей пятьдесят копеек.
Леня сказал спасибо, разговор кончился.
Когда вышли из кабинета, улыбающаяся Мария Викторовна сказала:
– С вас, Виктор Павлович, шампанское!
«Литр», – подумал Сомов и через силу улыбнулся в ответ. На улице, осторожно шагая по обледеневшему тротуару, Сомов бубнил:
– Ну у вас и директор! Ну и человек!
– Он честный, – сказал Леня и почему-то оглянулся.
– Как трибунал?
Они дошли до перекрестка. Уперлись в красный свет.
– А почему зарплата минимальная? – спросил Сомов.
– Не надо было возражать. Альфред Лукич не любит.
– Я вообще почти молчал! Ты же видел!
– Тоже плохо, Альфред Лукич молчунов не любит. Молчишь – значит себе на уме, думаешь…
Зажегся зеленый. Леня заспешил через улицу, Сомов за ним.
– А что злишься-то? – Леня засмеялся. – Он же тебя принял. Обещал и принял!
Альфред Лукич Зуев стал директором дома культуры еще в те далекие времена, когда у нас слово «кибернетика» было ругательным, а слов «многовариантность» и «рентабельность» и вовсе не существовало. В то время еще молодой и энергичный директор взялся за дело с удовольствием. Был он человеком крутым, часто кричал на сотрудников, но работа получалась. Тогда было принято командовать круто и на заводах, и в колхозах и уж тем более в культуре. Иначе, как думалось, в культуре произойдет развал, а может быть, даже и разложение. Что такое прорыв в политпросветработе, никто не задумывался, но про Альфреда Лукича стали через некоторое время говорить, что он вывел дом культуры из прорыва.
И в будние дни этот очаг не пустовал, а по воскресеньям и вовсе ломился от публики. Альфред Лукич завел множество кружков от стрелкового и «переделки совести» – так действительно назывался кружок и предназначался он для тогдашних неправильных подростков – до изобразительного. Директор первым доставал новые фильмы, не жалел денег на известных артистов. Про свою самодеятельность Альфред Лукич говорил: «С такой не стыдно и в Москву!» В общем, было ему что показать и было что у него посмотреть. Дом культуры хорошел, хорошел и сам директор. В зрелые свои годы Альфред Лукич завел себе и машину, что объяснял крайней производственной необходимостью. Автомобиль был по всегдашней руководящей моде черного цвета, и по нему сотрудники определяли, у себя директор или отсутствует. Одевался он тоже согласно тогдашней моде у руководителей в костюм, как сказал бы поэт, полувоенного покроя. Когда Альфред Лукич сидел в нем за рулем полусобственной машины, казалось, здоровье и сила этого человека бесконечны. Но шло время, Альфред Лукич старился, а вместе с ним, казалось, старился и дом культуры. В силу небывалого развития авторитарного руководства у нас как-то и сами заводы, институты, колхозы, дома культуры, иные административные единицы становились похожими на своих начальников. Вот и выходило, если старый, скажем, директор завода, то и завод становился старым, если директор – красивый – то и завод прихорашивался, если крупный – то и завод расширялся… Руководители кружков и секций кто умер, кто ушел на пенсию, а новые за прежнюю зарплату работать не шли. Директор стал скупым, и теперь, если руководитель кружка художественной вышивки, к примеру, отказывалась вести на общественных началах еще какой-нибудь, скажем, художественного слова, ее увольняли, а оба кружка передавались, естественно, опять-таки в качестве общественной нагрузки, преподавателю музыки. Оттого штатных преподавателей в доме культуры осталось лишь трое: Леня, помогающий по совместительству составлять сценарии вечеров и концертов, сочинявший также стихи к датам и юбилеям, Марк Дмитриевич – руководитель объединенных курсов кройки, шитья и вязания, которого общественная нагрузка миловала из-за преклонного возраста, и Пекашин – странная личность, постоянно находящаяся в доме культуры, по совместительству руководящая кружком гитаристов. Остальные руководители были чистыми совместителями, приписанными к другим домам культуры…
Фильмы привозили теперь сюда старые, артистов присылали согласно типовому договору, а народ с улицы заглядывал лишь от тоски. План делали на организованных мероприятиях. Дом культуры стал совсем тихим и оживал, лишь когда какая-нибудь организация снимала помещение под мероприятие. Даже Альфред Лукич кричал теперь на сотрудников без прежнего энтузиазма, не по убеждению, а от раздражения. Состарился и его черный автомобиль. Правда, блестел он по-прежнему – Альфред Лукич денег на ремонт не жалел, – но странно было видеть теперь на наших улицах эту черную кляксу выпуска начала пятидесятых.
Нового в работе дома культуры не появлялось уже давно. За исключением одного. Альфред Лукич стал по-новому бороться с опозданиями. Сам он часто приходил, точнее приезжал на черной машине за полчаса до начала работы, а ровно в десять звонил вниз вахтеру и требовал ключи от тех кабинетов, куда еще не пришли. Если же ключи все были разобраны, директор обзванивал кабинеты и спрашивал всех по очереди. Опоздавших без промедления звали к Альфреду Лукичу. Директор внимательно выслушивал объяснения и независимо от причины раскрывал особый журнал и ставил против фамилии опоздавшего галочку. Все знали, что три галочки – это лишение премии и выговор.
Ходил теперь Альфред Лукич по дому культуры редко. Все больше пользовался местным телефоном. Но уж если выходил, то тихо. Он любил заставать врасплох. Тихо войдя в какой-нибудь кабинет, он с видимым удовольствием наблюдал, как гаснут разговоры и персонал испуганно на него смотрит. Тут кто-нибудь вскакивал и поспешно здоровался. Вставали и остальные. Так было принято. Вставал даже Марк Дмитриевич, работавший с покойным Мейерхольдом… Директор осматривал кабинет, словно видел его впервые и, если был в хорошем расположении духа, что случалось нечасто, ограничивался замечанием вроде:
– Почему криво висит плакат против пьянства?
После проверки наличности директор приказывал к себе никого не пускать и принимался читать газеты и журналы, которые он выписывал на дом культуры. Отдельно откладывал те, где были кроссворды, чайнворды, изоворды и крестословицы. Потом делал необходимые звонки и требовал у секретарши чаю. Секретарша отказывала. Альфред Лукич злился и, видимо, называл Марию Викторовну дурой про себя. Это было похоже на игру, повторяющуюся каждый день. Когда же женщины спрашивали Марию Викторовну, отчего она не может заварить директору чаю, она отвечала:
– Наш директор не в моем вкусе. Вот если бы он был мужчиной во французском стиле… – Мария Викторовна вздыхала, закатывала глаза и продолжала, – я бы ему чай приносила на подносе с росписью, а в специальной плошке из Хохломы – лимоны или вишневое варенье.
Чай директору приходилось терпеть. Во-первых, Мария Викторовна была умелой секретаршей, а во-вторых, в нынешнем своем возрасте директор больше всего боялся каких-либо перемен. Он сам включал электрический самовар – приз камерному хору дома культуры за выступление на районном смотре, – сам сыпал заварку в идеологически выдержанный фарфоровый чайничек с красной надписью на крышке «XXV съезду КПСС – слава!» Чайничек директору привезли из Ташкента. Испив чая, он просматривал бумаги, подписывал приказы и кричал на заходящих с просьбами сотрудников:
– Мы не дорабатываем! Мы уходим с работы и забываем о ней! А помнить нужно всегда! Это первая заповедь культпросветчика! Пришел домой вечером – подумай: где недоработка? Сидишь в гостях: ага! Завтра нужно еще больше постараться! Ложишься спать, вспомни: где упустил? Спишь – пусть приснится дом культуры! Новая идея! Мы, работники культуры, – не имеем права спать!
После директор уезжал домой обедать, там спал, а к концу рабочего дня возвращался в дом культуры. Снова проверял, все ли на месте, и решал кроссворды, чайнворды, изоворды и крестословицы.
Была у директора и еще одна страсть-обязанность. Он был болельщиком футбола и не рядовым, а членом Президиума городской федерации. Это давало право бесплатно посещать все футбольные матчи в городе. Сотрудники знали об этом, и все на всякий случай следили за ходом чемпионата страны.
Когда человек по какой-либо причине вылечивается от чувства к женщине, и к нему приходит счастье, именуемое душевным покоем, он клянется себе, что впредь такого с ним никогда не случится. Нет, будут, конечно женщины, возможно, будет и жена, но сжигающей страсти он теперь поостережется!
«Хватит! – думает человек. – Наелся! Доживу свой век спокойно!» Но покуда есть на свете женщины, покоя не будет. И не знает отдыхающий душой человек, что сердце его уже готовится к новому чувству.
Так, наверное, думал бы Сомов, будь он лет на десять постарше, а пока… пока новый инструктор культурно-массового отдела огорчался, что в доме культуры почти нет девушек или молодых женщин. Директор – зануда, ну да бог с ним! Не с директором же работать. А терпеть начальство Сомов привык. В его сознании оно превратилось в какое-то постоянное, даже необходимое зло. А его организм, чтобы легче жилось, выработал для себя некоторые заповеди. Если бы Сомова попросили назвать их, он вряд ли бы смог это сделать, но инстинкт подсказывал: главное – не попадаться часто (завучу школы, декану, начальнику) на глаза, не лезть вперед, пока (завуч школы, декан, начальник) не спросит и ни в коем случае не возражать, когда говорит (завуч школы, декан, начальник). Беда Сомова была в повышенном чувстве себя. Подчас гордость перешибала даже инстинкт. Это, наверное, тоже генное чувство, только у одних оно атрофируется, а у других живет, и страдает такой человек не только за себя, но и за родителей своих, деда и бабку, за всю свою фамилию.
Дом культуры был в два этажа. Рассказывали, что до революции это здание с колоннами принадлежало князю М. Князь нуждался в деньгах и устроил здесь игорное заведение. Играли на первом этаже, а на втором отдыхали, так что можно было сказать – наполовину княжеское пристанище служило домом отдыха. После революции князь за границу не уехал, пошел в советы и предложил открыть первый рабоче-крестьянский игорный дом. Пролетариату и беднейшему крестьянству за вход предлагалась скидка. Видимо, князь был человеком с коммерческой жилкой. Однако время новой экономической политики еще не наступило, и князя расстреляли, а рулетки и игорные столы растащили нуждающиеся.
Дом с колоннами долго стоял пустым, потом туда въехала контора по продаже русских революционных инструментов, и уже перед самой войной здесь открыли отраслевой дом культуры.
Рабочее место Сомова было в кабинете на втором этаже. На дверях кабинета на одной половине висела табличка «культурно-массовый отдел», а на другой – «политико-просветительский». Первый представляли теперь в кабинете Сомов и его начальник – Валентина Митрофановна Кускова, по совместительству заместитель директора. Это была высокая, угловатая женщина тридцати шести лет. Валентина Митрофановна ходила на негнущихся ногах, громко стучала большими каблуками, и если говорила, то голос ее был слышен далеко. Было впечатление, что вся она сделана из больших прямоугольников каким-нибудь художником-авангардистом, исповедующим в искусстве острые углы.
Столы Сомова и Валентины Митрофановны стояли у окна друг против друга. Третий стол в глубине кабинета, если бы кто-нибудь заглянул на второй этаж в окно, занимал политико-просветительский отдел. Чем он отличался от соседнего, знал, наверное, лишь сам заведующий – Борис Семенович Боровский, но об этом никогда не говорил.
В прошлом Боровский служил в армии, был майором-артиллеристом, но по возрасту вышел в отставку и последние пятнадцать лет воевал на фронтах культпросвета. Деятельность эту Борис Семенович считал очень трудной и теперь на вопрос «как здоровье?» неизменно отвечал:
– Плохо!
В первый же день с утра он подошел к Сомову, положил на стол пачку конвертов, много марок и сказал:
– Вот, Витя, вам задача! Ничего, что на «ты»?
Нужно было наклеить марки на конверты, чем Сомов и занимался до обеда. Он облизывал марки и думал: «А денежки кап-кап-кап…» Валентина Митрофановна сосала конфетку и громко говорила:
– Вы – молодой работник! Вам – искать новые формы работы с молодежью! Молодежь – будущее, вы – ее представитель! Беритесь за дело с энтузиазмом. Если что, мы, старшие товарищи, поправим!
Фразы у Кусковой тоже получались какие-то прямоугольные.
После обеда Борис Семенович дал длинный список адресов, и новый инструктор переписывал их на конверты. За день раз десять попили чаю. Борис Семенович любил. Где-то ближе к вечеру на столе у Боровского зазвонил местный телефон. Борис Семенович улыбнулся и взял трубку.
– Наше вам приветствие, – сказал он мягко, – ничего, потихонечку… Справимся… Да, да… все очень хорошо.
Сомов понял: речь о нем.
– Витя, подойди, – проговорил Боровский, прикрыв трубку, и добавил, будто делал Сомову что-то очень приятное, – Альфред Лукич!
Сомов взялся за телефон.
– Минерал, разновидность гранатов, – сказал директор. – Первая – «у».
– Уваровит, – ответил Сомов.
Некоторое время в трубке было тихо: видимо, директор примерял слово и, видимо, все сошлось, потому что раздались короткие гудки. Сомов положил трубку и посмотрел в недоумении на Боровского.
– Директор у нас – очень хороший человек, – сказал тот.
– Ой! – воскликнула Кускова, и Сомов вздрогнул. – Вы, Борис Семенович, у нас тоже замечательный!
– Смерти жду, – спокойно сказал Боровский.
– Вам жить и жить!
– При коммунизме…
– Зачем же так! Вы – наш миленький! Виктор Павлович, чай!
Сомов уже привычно отправился за водой. В коридоре столкнулся с Леней, хотел было поделиться впечатлениями, но тот опередил:
– Я все понял! Сюжет в художественном произведении или даже фабула – это подпорки для бездарных! Для тех, кто не умеет писать. Знаешь, что самое трудное в искусстве?
– Нет, – честно признался Сомов.
– Написать, как два человека пьют чай! Просто сидят и пьют!
– Пусть пьют… Чего тут писать.
– Как ты не поймешь, это же оселок искусства. Ты только представь: сидят двое, пьют чай, говорят о жизни… А?
– В грозу?
– Просто! Даже без сахара!
Сомов вздохнул и сказал:
– Извини, мне воды надо…
– Вот! – обрадовался Леня. – Ты меня понял!
Он ушел с улыбкой. Когда Сомов вернулся с чайником в кабинет, Борис Семенович рассказывал:
– Вчера жена мне: надо невестку поздравить с днем рождения. А я думаю: не дотянуть мне до дня рождения… Свалюсь на работе, как конь на меже. Вот и сегодня опять печень чувствую.
Сомов включил чайник, потом собрал заполненные конверты и положил их перед Боровским.
– Ты, Витя, молодец, – сказал Борис Семенович, – будешь настоящим работником культуры.
А когда Кускову позвали в библиотеку, он достал из внутреннего кармана кожаное портмоне, оттуда – маленький, с ноготь ключик и открыл им большой коричневый шкаф в углу. Из шкафа Борис Семенович вынул сначала пачку брошюр с затейливым заголовком «Проверьте вашу гениальность» – ниже стояла пометка: «в помощь работникам культуры», – попросил Сомова запереть дверь и тут достал маленькую бутылочку коньяка и две рюмочки.
– Это нам премия за работу, – сказал Боровский и налил.
Сомов подошел к шкафу.
– Я всегда, когда плохо себя чувствую, – немножечко коньячку, – снова сказал Боровский. – Помогает неизменно.
Сомов осторожно двумя пальцами взял рюмочку и искренне сказал:
– За ваше здоровье!
Боровский быстро выпил, спрятал все в шкаф, открыл дверь и снова сел за свой стол. Сомов тоже вернулся на место и оставшееся время до конца рабочего дня чувствовал себя хорошо.
Дома после семейного обеда Сомов лежал на диване в своей комнате и оценивал прожитый день: «Коньяком угостили… Спал до половины девятого почти, работу выполнил хорошо… Интересно, а что еще должен делать инструктор?»
А еще вспомнился заходивший в кабинет руководитель кружка аккордеонистов Пекашин. Это был маленький худой человек с грустным лицом. Пекашин заходил раза три, здоровался и уходил, пока не застал Сомова одного.
– Мне хотелось с вами поговорить, – грустно сказал Пекашин.
Сомов посмотрел на аккордеониста, и ему самому стало грустно.
Пекашин же стал мягко расспрашивать о прежней работе, о домашних Сомова, об институте и постоянно извинялся:
– Это ничего, что я интересуюсь?
Сомов рассказал про себя почти все, что знал, и даже про то, что зарплата на прежней работе была выше. Рассказал и тут же пожалел, так как Пекашин здорово расстроился.
– Ай-яй-яй! – воскликнул он. – Это же вы в деньгах потеряли! Вы – бескорыстный человек!
– Ну почему же? – смущенно пробубнил Сомов.
– Да, да! Теперь таких редко встретишь! Ну как же вы так с деньгами-то? Беда-то какая!
Потом Пекашин рассказал о том, как болеет гриппом его двенадцатилетняя дочь, как страдает от этого и какие приходится испытывать лишения за музыкальный кусок хлеба. При этом острыми ногтями правой руки он постоянно настукивал, как показалось Сомову, грустные мелодии.
Добираться до работы Сомову было просто: три остановки на метро, потом на трамвае, но трамваем он решил не пользоваться и от метро ходил пешком. Как и большинство молодых людей, Сомов считал, что ходьба помогает от инфаркта. Сначала нужно было перейти довольно широкую улицу, потом свернуть налево, а дальше – по заснеженной дорожке через сад, который назывался Театральным. Название казалось странным, ведь театров не было не только в саду, но и в округе. Позже, когда приходилось возвращаться с работы ближе к полуночи, Сомов видел, как гуляли здесь веселые компании, важно прохаживались яркие девушки в цветных колготках и жались по кустам солидные мужчины с тяготившими их бутылками и единственным стаканом. Воображение неуправляемо дорисовывало некоторые подробности, и Сомов для себя определил название сада тем, что здесь случаются всякие истории, то есть похоже на театр.
По утрам же, в то время, когда Сомов спешил на работу, в саду царила идиллия. Выезжали на прогулку в красных и синих колясках малыши со своими симпатичными мамами, изредка попадались старушки и старики, бегали, пугая воробьев, энтузиасты активного образа жизни. И когда Сомов бодрый и здоровый шел утром через сад на работу, ему казалось, что если бы не было темного времени суток, не было бы и негативных явлений в нашей жизни.
Начинался рабочий день с задушевного:
– Витя, поставь-ка чайку!
Сомов с чайником шел за водой. Потом пили чай. Сомов смотрел в окно на заснеженный памятник Ленину, а Валентина Мирофановна говорила что-нибудь вроде:
– Борис Семенович! Конфетку? У меня леденец!
При этом она улыбалась так, что и без леденца становилось приторно. Борис Семенович махал рукой, мол, давайте сюда свои конфеты, все равно помирать, и жаловался:
– Не вздохнуть! Вот будто кляп проглотил, и все внутри закупорилось. А ноги холодеют, словно вброд Северную Двину переходим. Сижу сейчас с вами, а что будет через час, и не знаю.
Через некоторое время Боровский вставал и говорил:
– Вот, Витя, тебе задача…
Изложив задачу на день, Борис Семенович допивал чай и садился за телефон. Наступал черед Валентины Митрофановны. Она принимала деловой вид и втолковывала:
– Виктор Палыч! Вчера мы снова с вами недоработали! Забыли! Надо было заказать лекцию о международном положении!
Она всегда говорила «мы», но это означало, что забыл Сомов.
Постепенно Сомов, словно камень в озере – мхом, обрастал обязанностями. Он не только заваривал чай и подписывал конверты, но и обзванивал предприятия района, обеспечивая явку на школу профсоюзного актива, помогал директору разгадывать кроссворды и другие газетно-журнальные задачки, заказывал лекторов в обществе «Знание» для пенсионеров-активистов ведомственного клуба завода «Энергия», ездил курьером и думал, что если этому учат в институте культуры, то какая же нудная у студентов учеба.
Сомов искренне, как и большинство людей, считал, что в любом деле главное – усердие. В институте он с усердием заучивал формулы, томился теоремами, ломал голову над специальными дисциплинами и очень удивлялся, что ничего не получается. Так, наверное, многие начинающие сочинять стихи или прозу, рисовать или писать музыку уповают на готовность много трудиться. «Буду выдавать по тридцать страниц в день – стану Толстым», – думает молодой человек, начинающий писать. «Буду рисовать по десять картин в месяц – стану Левитаном», – думает молодой человек, начинающий в живописи. И невдомек молодым людям, что ни Толстой, ни Левитан по стольку в день или в месяц не работали, не выдавали. Случалось, что сочиняли и рисовали больше, но в редкие моменты вдохновения, когда судьба водит рукой художника. А вот о таланте не думает молодой человек. Есть – хорошо, нет – и так сойдет. Критики же это мнение поддерживают. Говорят об идее художественного произведения, о верности традициям или новаторству, о законах жанра или о знании материала, да ведь бог знает о чем еще можно сказать… И лишь иногда наиболее смелые отмечают: «Талант, бесспорный талант!» Но тут же поправляются: «Как говорил /фамилия кого-нибудь из великих/, талант – это на девяносто девять процентов труд» или «один процент таланта, девяносто девять пота». И представляет себе человек, уставляясь в скучную книгу или слушая нудную музыку, взопревшего от долгого сидения за столом писателя или композитора, со лба которого на белые и черные клавиши падает банная влага. «Да! – скажет человек, – тяжело дается искусство!»
У Володи Бакунина был талант инженера. В институте он все пять лет чего-то изобретал, учился легко, хотя над книжками и чертежами подолгу не потел. Так же, как все в группе, ходил после занятий в пивбар напротив детского садика, на институтские вечера, в каникулы ездил в южный лагерь на море, а работа на кафедре и учеба получались вроде как сами собой. Сомов пробовал копировать жизнь приятеля, все удавалось, кроме учебы. Он даже срисовал примерный график жизни приятеля по дням, и все равно… И кто смог объяснить, отчего так получается? Ведь те же руки у него, та же голова – шапка даже на два размера больше. Это Сомов проверял…
После института Володя тоже попал в конструкторское бюро. Там тоже рекомендовалось говорить знакомым о профиле работы:
– Изобретаем попутный ветер для нашего общего дела.
Все было так же в бюро у Бакунина, только вот гораздо интереснее.
А недавно Бакунин на корабле отправился по морям и океанам. Володя должен был проверять какие-то инженерные системы. Фотоаппарата он не взял, но сказал, что будет из тех городов, где побывает, присылать что-то вроде путевых заметок, и просил их сохранить.
– Потомки могут не понять, порвут, а ты сохрани для истории, – объяснил Бакунин.
Сомов, правда, не понял, кого приятель имел в виду – своих маленьких ребят-близнецов или действительно потомков, но хранить письма согласился. Первое письмо было из Швеции: «В Стокгольме погода нормальная, правда, идет дождь и небо затянуто серыми тучами. Я купил себе плащ. Цвет – серый с блеском. Много работаем, и некогда посмотреть даже достопримечательности. В общем, от Стокгольма я ожидал большего…» Заканчивалось письмо словами: «Обволакиваю, твой Бакунин.» Прочитав письмо, Сомов долго прикидывал, имеет ли письмо интерес для потомков. Решил в конце концов, что не имеет, и, улыбнувшись, спрятал его в ящик стола.
Когда приходил на работу заведующий отделом художественной самодеятельности Сергей Николаевич, было слышно даже через стену. Сергей Николаевич всегда включал магнитофон. Он объяснял это тем, что ему необходимо быть в курсе музыкальной жизни. Следуя логике худрука, можно было решить, что музыкальная жизнь заключена в одной кассете, которую он и крутил постоянно. Был Сергей Николаевич на три года старше Сомова, и музыка им в общем-то нравилась одинаковая, но Боровскому она мешала. Сергей Николаевич приходил на работу к двум. Кружки и студии его работали вечером. И как только из-за стены слышалась первая песня, Боровский клал руку себе на блестящую голову, словно мог компенсировать этим отсутствие волос и защитить голову от музыки, и говорил:
– Витя, вот тебе задача. У вас же с ним хорошие отношения. Попроси сделать потише.
– Борис Семенович! – восклицала Кускова. – Вас в нашем доме не понимают!
– А что ж меня понимать? Знают – скоро помру. С утра затылок ломит, будто осколочным засадили, а пока на работу шел, в колене стрелять начало.
Сомов же отправлялся к худруку. Сергей Николаевич обычно сидел с папиросой у открытой форточки.
– Потише сделать? – спрашивал он.
Сомов разводил руками и садился на стул у дверей под плакатом «Хлеб культуры – не водица, есть без толку не годится!» Ниже шло пояснение: «Художественная самодеятельность – хлеб культуры». Сомов не курил.
Сергей Николаевич убавлял громкость, и оба некоторое время слушали музыку. Потом худрук зевал и говорил что-нибудь вроде:
– Сегодня утром достал из холодильника банку сгущенки, поставил в кастрюлю с водой, сварил и съел… Варил два часа.
И оба начинали разговор, но не потому, что хотелось, а потому что знали: в беседе время проходит быстрее.
Наверно, у каждого непрактичного человека временами возникает желание пожить по-другому: что-то достать, о чем-то договориться, встретиться с нужным человеком. Часто в этом желании больше привлекает не выгода, а счастье необходимости в механизме людского обращения, счастье номенклатурного работника. Бывали такие минуты и у Сомова.
Через два дня работы он сам отправился знакомиться с сотрудниками бухгалтерии. «Все-таки там зарплату дают», – думал Сомов.
В бухгалтерии работали три женщины: главный бухгалтер, просто бухгалтер и кассир. Главный бухгалтер Эмма считала себя молодой и красивой женщиной. С мужчинами она разговаривала играя, женщин терпела и была проводником широких идей иностранной моды в узкий круг возможностей женщин – сотрудниц дома культуры. Ассистировали ей в работе бухгалтер Коровина, сорокадвухлетняя женщина на последнем месяце перед больничным по беременности, и пятидесятилетняя кассир Анна Дмитриевна.
Бухгалтерия была на том же втором этаже. Сомов прошел по мягкой ковровой дорожке в конец длинного коридора, открыл дверь, и первое, что услышал:
– Ой! Девочки! Кто к нам пришел!
Эмма ослепительно улыбалась. Сомов оглянулся – сзади никого не было. Он закрыл дверь и тихо поздоровался. Девочки ответили:
– Салют!
– Вот, – сказал Сомов, – пришел лично.
– Правильно, – сказала Эмма. – Витенькой зовут?
– Виктор Павлович…
– Чепуха! Витенька… Ты ж молодой парень! Счастливый!
Эмма почему-то вздохнула.
– Почему счастливый? – поинтересовался Сомов.
Эмма махнула рукой и ответила:
– Садись, гостем будешь.
Сомов присел на краешек стула и задумался: что теперь дальше делать?
– А ты мне вчера приснился, – сказала Эмма, улыбаясь.
Глаза у нее блестели, черты лица были маленькие, голова – в мелких кудряшках. Сомов почему-то подумал: «У обезьянок глаза блестят?» Тут же прикинул, что подобное сравнение может быть обидным для главного бухгалтера, пусть даже обезьянка симпатичная, и покраснел.
– Будто приходишь ты ко мне с ножом и хочешь зарезать! – продолжала Эмма.
Она засмеялась, и зубы у нее оказались маленькими и белыми, точно искусственные. Засмеялись и девочки!
– Смотри! Больше так мне не снись!
– Как же я мог вам присниться, когда вы меня не знаете? – спросил Сомов.
– Витенька! Кто в нашем доме культуры друг про друга чего-то не знает!
– Я не хотел, – пробубнил Сомов.
– Ой! Девочки! Очаровательно! У нас очаровательный инструктор!
Анна Дмитриевна, отложив на счетах одной ей ведомую сумму, вздохнула:
– Почему мне ничего такого не снится?
– Это потому, что вы не впечатлительная, – объяснила Коровина, – Вот Эмма Петровна у нас впечатлительная… Ей и снятся всякие сны.
«Всякие» Коровина произнесла с иронией.
– Я? – удивилась Эмма. – Нисколько! По мне хоть самый раскрасивый мужчина подойди – нисколько не впечатлюсь! Даже вот ни на копейку!
Коровина иронически улыбнулась, а Сомов подумал, что пора уходить.
– Витенька! Куда же ты! Я ж не про тебя!
Сомов сел в коридоре на диван под доской почета и отдышался. Ему тяжело далось общение с бухгалтерией. Захотелось вернуться к себе за стол, в кресло, поклеить конверты, но деловые люди так не поступают, и Сомов спустился вниз в библиотеку. «Там интересные книжки дают», – думал он.
Библиотека пахла лежалой бумагой, было тихо. В полумраке Сомов разглядел за маленьким столом девушку. Девушка, кажется, дремала.
– Добрый день, – тихо, чтобы не разбудить, сказал Сомов.
Девушка вздрогнула, вскочила.
– Ой! Здрасте!
Была она маленького роста, в длинном платье, почти к поясу спускалась коса.
– Сумрачно у вас тут, – сказал Сомов.
Девушка поспешно включила свет.
– Извините, – сказала она, – но когда посетителей нет, Альфред Лукич требует экономить свет… А как экономить, когда темно?
– Трудно…
Девушка вдруг зажглась:
– Засунули библиотеку почти в подвал! Как работу с читателем вести? Я заведующей жаловалась и директору говорила, а они ничего не делают!
Сомов посмотрел в огорченное личико девушки и решил, что ей не больше восемнадцати.
– А я у вас теперь работаю, – сказал он. – Инструктором в массовом отделе.
Сомов назвал себя.
– Ой! – воскликнула девушка, словно мышь увидела. – Альфред Лукич у нас давно работает. Опытный директор, и заведующая тоже…
Девушка потупилась, скривила ротик, словно двоечница, которую спрашивают, как она думает жить дальше, и добавила строго:
– Записываться хотите?
Она поспешно вытащила пустой формуляр.
– Я – осмотреться пока…
Девушка пожала плечами.
– У нас ничего необычного нет.
– А обычного?
– Стендаль, Бальзак, Моруа на руках… Для своих мы, правда, держим Кортасара, По, Сю, Кобо Абэ… – голос девушки окреп, – Маркеса! Фриша!
Она перевела дух, улыбнулась и с иронией, словно что-то неприличное, произнесла:
– Ну там классика… Гоголь… «Вечера на хуторе близ Диканьки»… Что еще?
– Как вас зовут?
– Нина.
– А по батюшке?
– Васильевна…
– А я – Павлович. Секретарша меня за сына царя приняла, Павла Первого.
– Кровавого?
Сомов пожал плечами.
– Нет, вроде… Павел каким-то другим был, но не кровавым – это точно.
– Неограниченная монархия, – вздохнула Нина.
Сомов оглядел полки с книгами и, увидев Достоевского, спросил:
– А Федор Михалыч у вас на руки выдается?
– Выдается. Только мало берут. Пишет сложно, наверно.
Сомов подошел к стеллажам, прикоснулся пальцами к десятому тому сочинений классика и, глянув на ладную фигурку библиотекарши, сказал:
– Иногда читаешь-читаешь… Ничего не понятно, но потом перечитываешь, и каждое слово – со многими значениями. У меня бабушка Достоевского любит, только она с нами не живет.
– А сколько бабушке?
– Семьдесят стукнуло.
Нина вздохнула и сказала:
– Пожилые все классику любят.
– Я тоже люблю…
– Вы? Вы же еще не старый? Молодым современность надо читать.
Тут Сомов почувствовал, что много потерял в глазах девушки.
– Ну почему же, – почти обиженно проговорил он. – Достоевский, Гоголь, Чехов – это же…
– Тогда уж лучше Толстой, – снова вздохнув, перебила Нина. Она занесла ручку над формуляром и спросила:
– Записываться будете?
Толстой стоял на полке под буквой «Л».
«А на вид такая хорошая», – подумал, выходя из библиотеки, Сомов. Он повертелся в коридоре первого этажа, соображая, как выйти к лестнице, пошел наугад – налево. Коридор вывел на красивую полустеклянную запертую на ключ дверь. Сквозь нее Сомов увидел, что дальше – фойе кинозала. Оттуда можно было попасть в кафе при доме культуры, куда, собственно, Сомов и шел знакомиться. «Все-таки там есть дают», – сказал он сам себе.
Сомов повернул обратно, поднялся на второй этаж и уже оттуда по другой лестнице спустился в фойе. Сеансы еще не начались, кино крутили вечером, но билетерши Гусевы были на месте. Сестрами они не были, но фамилию носили одну и очень походили друг на друга. Особенно когда надевали одинаковые служебные синие халаты.
Сомов вежливо поздоровался, и пожилые билетерши дробно затараторили, словно услышали команду «Огонь!»
– Валентина Митрофановна ваша из кафе уже ушла! А вчера фильм ходила смотреть: «Смерть на закате», а ваш Боровский не пошел, сказал, что спина болит. А в кафе ходят всякие посторонние и таскают туда-сюда огромные сумки! Альфред Лукич сказал, чтобы с вас спрашивать строже!
Сомов улыбнулся, посмотрел на руку, где должны были бы быть часы, и сказал:
– Извините, пора!
– А посторонних пускать не будем! – слышалось вслед. – Так вам и говорим!
Улыбку Сомов продержал до кафе. С ней и вошел. В красивом зале никого не было, за стойкой – тоже. Мерно гудел холодильник, и кафе без бармена показалось Сомову автомашиной без водителя. Сомов оглядел внутреннее великолепие общепитовской точки и почувствовал себя так, словно зашел без спросу в чужую квартиру. В нем жила психология безденежного студента: чем уютнее в кафе или в ресторане, чем лучше и приветливее обслуживают, чем вкуснее кормят, тем больше страха. Сомов, мягко ступая, подошел к бару и подумал, что надо бы купить новый свитер. Тот, что был на нем, показался неприличным.
На стойке стояло меню. Сомов пробежал правую крайнюю колонку с цифрами и, остановившись на семнадцати копейках, перевел взгляд на левую сторону меню. «Бутерброд с сыром», – прочитал он. Из маленькой дверцы в стене вышел молодой человек в белой рубашке с черной бабочкой у горла. Сомов поздоровался, но молодой человек профессионально проигнорировал его и стал что-то быстро считать на калькуляторе. Его короткие толстые пальчики ловко стукались о черные клавиши. «Он еще просто не знает, что я – свой, что здесь работаю», – успокоил себя Сомов. Молодой человек кончил считать на калькуляторе и некоторое время считал в уме, прикрыв выпуклые глаза. Потом он сам себе кивнул и уже ясным взором посмотрел на Сомова.
– Бутерброд, пожалуйста, – попросил инструктор.
– С икрой? Рыбкой? – спросил молодой человек так ласково, словно рыбка была из его домашнего аквариума.
– С сыром, – глухо сказал Сомов и выложил на блюдечко семнадцать копеек.
Молодой человек поставил перед ним блюдце с куском булки с сыром и снова скрылся в маленькой дверце. Сомов проводил его взглядом и поспешил из кафе, жуя бутерброд с чувством глубокого унижения…
Как-то Леня зашел с очень полным молодым человеком. Человек был коротко острижен, и большая его голова крепко сидела на толстой шее.
– Познакомься: Сергей-писатель, – сказал Леня так, как бы назвал фамилию, допустим: Мамин-Сибиряк или Соколов-Микитов.
Молодой человек сел и добавил:
– Из молодых.
Сомов окинул взглядом ладную фигуру писателя и подумал о том, что в литературу вливаются крепкие силы.
– Жена бумаги просила достать для меня. Нет? – спросил Леня.
Сомов честно ответил:
– Мало…
Леня огляделся, но кроме Сомова в кабинете из сотрудников никого не было.
– Схожу к Марии Викторовне, она не такая скряга, как ты.
Шутит Леня или нет, было непонятно. Поэт ушел, а Сергей-писатель откинулся в кресле, положил одну толстую ногу на другую и весомо произнес:
– Заструячил повесть. Сильная повесть получилась, с сюжетом, фабулой…
Сомов посмотрел на его крепкие толстые пальцы и представил, как молодой писатель пробует свою повесть на плотность.
– Описал там игру в карты у одного шулера.
– Скоро книжка? – спросил Сомов, пытаясь сделать приятное.
Сергей-писатель подумал, ответил:
– Отфутболили пока. Не поняли, видимо… А в другой редакции отослали к Достоевскому. Я взял роман, прочитал. Тьфу ты! – думаю, надо же! Тема-то отработана!
Он постучал себя по ноге, получилось звонко, и продолжал:
– Ну, ничего. Я теперь за другую повесть взялся, про детство. Опишу там все смело: наш двор, помойку… Как мы котов ловили. Возьмешь кусок рыбы, на ниточку, а внутрь – иголку. Кошка хвать! Иголку и проглотит! Верещит! Больно! А мы смеемся… Какие сволочи были!
Сергей-писатель, улыбаясь, вдруг спросил:
– Сколько здесь получаешь?
– Нисколько… Девяносто семь пятьдесят…
– А что тогда не пишешь? Настрогал романюгу – да в журнал!
Сомову представилось, будто полетели брызги.
– Денег получил бы!
– Я как-то не пробовал, – ответил Сомов.
– Ну и зря! Есть же такие хорошие темы: про рабочий класс, про Сибирь!
– Уж вроде писали…
– Ха! Писали! Если бы не писали, я бы уже Львом Толстым был!
Сергей-писатель осмотрел кабинет и воскликнул:
– Да и у тебя здесь тип на типе! Только записывай! Вон Леньку возьми, конфликт придумай – и поехал! У вас конфликты есть?
Сомов пожал плечами, ответил:
– Особых нету…
– Есть! Ты чай на работе пьешь?
– Да.
– Во! – Сергей-писатель взял со стола линейку и с чувством почесал затылок. – Ты пьешь чай на работе. Директор тебя застукал и выгоняет. Конфликт! Эх! Только пиши!
Он вздохнул, посмотрел в окно во двор. Сомов посмотрел туда же. Снег почернел, кое-где стаял, лишь на памятнике повисла шапка, которой осталось жить несколько дней, – была оттепель.
– Весна, – прокомментировал Сергей-писатель. – Лето отдохну, а следующей зимой в Тюмень! К буровикам! Привезу оттуда роман страниц на пятьсот. Редактора попляшут!
Он мстительно улыбнулся, видимо, представлял, как пляшут редактора. Сомов не удержался, пошутил:
– Ты так говоришь, будто роман там лежит и тебя дожидается.
– Это неважно. Был бы материал.
– А что же в Тюмень? Сам говорил – местные конфликты?
Сергей-писатель цыкнул и задумчиво помотал головой.
– Нет. Это для меня – пройденный этап. Тебе как начинающему хорошо. А мне уже нужен масштаб. У меня перо мощное, мазок – крупный. Нужен простор, Сибирь, тайга, степь, люди с жилкой…
Говорил он так убедительно, что, когда ушел, Сомову захотелось тут же сесть и бабахнуть в людей какую-нибудь эпопею.
На свое первое совещание у директора Сомов пришел заранее. Собирались в приемной у Марии Викторовны. Эмма была уже здесь.
– О! Наш непробиваемый! – воскликнула она.
– Почему? – спросил Сомов.
– Ты – прелесть! Очаровательно!
Сомов пожал плечами, сел в углу и развернул прихваченную газету.
– На вид – очень приличный, – продолжала рассказывать Эмма секретарше. – Галстук, пиджак – кожаный. Говорит, что журналист.
– Сейчас умру, – медленно сказала Мария Викторовна и широко улыбнулась. – Журналист!
– Но пиджак-то кожаный!
– Пиджак? – Мария Викторовна подумала. – Пиджак можно и сшить. Вообще я бы ему не верила.
– А я и не верю!
Эмма глянула в сторону Сомова: слышит ли? – и продолжала:
– Он как мужчина меня совершенно не интересует. Просто стихи хорошие пишет, а голос, как у Левитана…
Пришел Боровский.
– Еще не начинали? Значит, я не опоздал!
Борис Семенович устроился рядом с Сомовым и стал тяжело дышать, ожидая вопроса.
– Как вы себя чувствуете? – спросила Эмма.
– А как может чувствовать себя человек, в которого снаряд попал? Сковало всю спину, поясницу разносит, словно гранатой ее рвут, а давление такое, что не хватает шкалы!
– Что же вы не лечитесь? – спросила Мария Викторовна.
– А шут с ним! Скоро сдохну или околею! И никто не вспомнит!
– Ой! – воскликнула Эмма. – Как же вы так умрете? Борис Семеныч! Миленький наш!
– А вот так: лягу и умру!
– Зачем же так умирать! – Эмма подошла к Боровскому, погладила по спине.
Глаза у Бориса Семеновича стали блестящими, живыми.
– Мы вас вылечим, – ласково сказала Эмма. – А вы нам билетики в театр, правильно? Ведь обещали…
Боровский посмотрел на ее стройные ноги в уютных замшевых сапожках и вздохнул:
– Ну что с вами поделаешь?
Влетела заведующая библиотекой Сизикова. Затараторила:
– Опоздала? Борис Семеныч, как чувствуете? Эммочка! Накладную на Чехова обещала! Витя, здравствуй!
Сизикова замолчала. Она искала, что сказать еще, оглядывая присутствующих, но они тоже молчали. Заговаривать с заведующей библиотекой было опасно. Можно было попасть под лавину слов. Сизикова вздохнула и села.
Степенно вошел Сергей Николаевич. Сел в кресло и тихо поздоровался:
– Приветствую.
Потом подумал немного, встал и заговорил:
– Сегодня проснулся утром и что-то вдруг захотелось яичницы. Я взял три куска колбасы, обжарил с одной стороны, с другой. Потом вбил три яйца, с хлебом все съел…
Сизикова что-то проглотила и спросила:
– И что же вы почувствовали?
– Ничего такого особенного не почувствовал… Разве что вкусно было.
В коридоре загрохотало. Приближалась Кускова. Дверь дернулась, потом качнулась раз, другой… заходила…
Боровский поморщился и крикнул:
– В другую сторону!
Войдя, Кускова радостно спросила:
– Сбор полный?
– Трубниковой нет, – ответил худрук.
Но почти тут же пришла заместитель директора по кино Трубникова, все поднялись и подтянулись к дверям директорского кабинета. Коллектив выдвинул Бориса Семеновича вперед, и тот осторожно постучал в дверь. Вошли, словно гости к имениннику, не хватало разве что цветов… Церемонно потоптались, стали рассаживаться.
– Все? – спросил директор.
– Все, – ответила Сизикова и подалась вперед.
Была она похожа на бегуна перед стартом.
– Я собрал вас всех, – сказал директор и стал рыться в бумагах.
Сотрудники терпеливо ждали. Наконец он нашел какую-то бумажку, смял ее, выбросил в корзину и повторил:
– Я собрал вас всех…
«Чтобы сообщить», – подумал Сомов.
– Чтобы сообщить, – продолжал директор. – Мы взяли нового сотрудника. Сомова Виктора. Прошу загружать работой.
Сомов встал и поклонился.
– Очень приятно, – сказала Сизикова.
Сомов сел, а директор сказал:
– Нам, конечно, нужен не инженер с широкой специальностью, а специалист культуры, но от беды пришлось пойти и на такой шаг. Инструктор нам нужен.
«Он хочет меня оскорбить или здесь принято говорить правду? – подумал Сомов. – Я инженер-электрик! А не с широкой специальностью…»
– Переходим ко второму вопросу, – сказал директор. – Сорвано мероприятие детского сектора.
– Детский сектор на больничном, – проговорила Эмма.
– Очень плохо. Я повторяю, восемнадцатого числа было сорвано мероприятие детского сектора. Почему? Потому что некоторые сотрудники до сих пор разделяют обязанности на свои и чужие!
Краска на лице директора становилась все гуще, и казалось, внутри у него разгорается печка.
– Мы – единый коллектив, – рокотал Альфред Лукич, – глядя, как и все слушающие себя ораторы, куда-то вперед, видя лишь ему одному ясную цель. – И все попытки разложить его будут выжигаться каленым железом!
– Железом! – повторила Сизикова.
– Не стоит, я думаю, обострять, – миролюбиво проговорил Боровский. – Была недоработка…
– Я повторяю: мы – единый коллектив! И все будет выжигаться каленым железом!
– Железом! – тоже повторила Сизикова.
– Вопросы есть? – спросил директор. – Нет?
– У меня вопрос, – нехорошо улыбаясь, сказала Кускова. – К заместителю по кино. Как у нас выполняется план по вашей линии?
– Выполняется, – ответила Трубникова, также нехорошо улыбаясь.
– Выполняется, – повторила Сизикова. – Но я хочу еще сказать, что нам пора серьезнее отнестись к вопросу выноса книг из библиотеки!
Директор поморщился.
– Сейчас не время.
– Почему же не время? – стартовала Сизикова. – Трубниковой время, а мне не время! У вас никогда нет для меня времени!
Директор взмахнул руками, видимо, хотел закрыть уши, но удержался, повернул голову к шторам, и если бы они были раскрыты, можно было сказать, что Альфред Лукич посмотрел в окно. Наверное, Сизикова представлялась ему теперь мухой.
– Я одна воспитываю двоих детей, муж – подлец, платит десять рублей в месяц! Десять рублей! Вы смогли бы прокормить двоих детей на такую сумму! А книжки воруют! И воруют сильно! А нас мало! Что могут женщины?
– Женщины могут все, – сказал Боровский.
– Вы хотите, чтобы я упала на колени и умоляла? – продолжала Сизикова. – Но у вас нет времени! А то я бы упала!
Сизикова села. Директор повернул голову к ней.
– У меня еще не все, – предупредила заведующая библиотекой.
– Мне все-таки хотелось спросить: каким образом у нас выполняется план по кино? – снова улыбаясь, спросила Кускова. – На сеансах сидит по три человека… Как можно?
– А такой план, – сказала Трубникова.
– На три человека?
– На три человека, – ответил директор. – Я давно уже замечаю тенденцию раскола нашего коллектива. Единство – вот наша сила на сегодня. А все, что ему мешает, будет выжигаться…
– Каленым железом! – воскликнула Сизикова, и директор снова поморщился.
Вернулся в отдел после совещания Сомов возбужденным.
– Дал сегодня директор разносу! – проговорил он.
– Разве? – спросил Боровский. – Нормальная проработка. А как иначе нас заставить что-то делать? Человек по своей натуре – лентяй. Ему нужна погонялка, вот Альфред Лукич и погоняет. А мы ему благодарны. Работаем, деньги получаем…
– А что у них там с кино?
– Кино! – воскликнула Кускова. – Трубникова получает за кино премии. Кино – золотая жила. По окладу – в месяц. И директор – тоже!
Валентина Митрофановна развернула конфетку в волнении, сунула ее в рот и добавила:
– По окладу!
– Ну директор-то правильно получает, – осторожно сказал Боровский.
– Он ведет корабль дома культуры вперед, – серьезно сказала Кускова. – Но Трубникова-то за что?
– Трубникова – кочегар. Угольку подбрасывает… – проговорил Боровский, листая телефонную книгу.
Иногда к Борису Семеновичу заходил сын – Игорь. Высокий, красиво одетый молодой человек. Кускова восхищалась:
– Какой у вас, Борис Семеныч, очаровательный сын! Весь в папу! Дети – наше будущее!
Боровский гладил лысую голову, улыбался и отвечал:
– Я уже старый хрыч!
– Не спорить! Вы – великолепно выглядите! Будь мне восемнадцать, я бы в вас влюбилась!
– Хе-хе! Восемнадцать! Одышка, печенка трещит по всем швам, в голову стреляет… А сердце? Кто бы посмотрел мое сердце?
Обычно Игорь заходил тихо. Тихо садился и так же тихо разговаривал с отцом. Сомов делал вид, что занят бумагами, но невольно вслушивался:
– Достал… Ничего, желтенькие… Двадцать сверху… Папа! Она не тот человек, которого можно объехать!
Видимо, слышала и Кускова, потому что однажды, когда Боровский-старший обедал, а Игорь, положив желтую сумку с надписью на английском «Я лучшая девочка в Индианополисе» на пачку планов работы политико-просветительского отдела, ждал, игриво спросила:
– А что это вы, Игорь, такое достаете все время?
Игорь поднял темные грустные глаза и дружелюбно ответил:
– Всякие вещи.
– Наверное, что-то вкусное?
– Как когда… Приходиться, знаете, жить…
– Борис Семенычу очень повезло с сыном! Такой молодой, а уже все может достать!
– Ну как все? Все, конечно, не могу… – с грустью произнес Игорь и развел руками.
В доме культуры был человек, который мог достать все – сам Борис Семенович. У него в столе хранились три большие записные книжки. Телефоны в них были уложены до того плотно, что казалось, листает их Боровский осторожно, чтобы телефоны не просыпались на стол. Говорят, кто будет владеть информацией, будет владеть миром. Борис Семенович с сомнением относился к такому будущему. Владеть миром ему было ни к чему. Гораздо больше Боровского устраивала нынешняя роль. Сам он не мог ничего дать или сделать, но через него сотни людей могли продать, купить, обменять нужную вещь, устроить мероприятие, лечь в хорошую больницу, попасть к хорошему врачу, да мало ли еще чего нужно людям. Борис Семенович был похож на узловую станцию на железной дороге. Ему нравилось быть нужным людям. А поскольку работа культпросветчиков на девяносто процентов состоит из решения вопроса «где достать», то и для службы своей Борис Семенович был незаменимым человеком, хотя он никогда не делал разницы между тем, достает ли оркестр для очередного вечера или хлопчатобумажные носки для племянника. Все для него имело смысл, все было работой.
А еще Боровский был первым, кто бросался тушить любой конфликт, разумеется, если конфликтовали не на кулаках.
– Люди должны жить мирно, – говорил он. – Зачем ссориться, когда можно договориться?
Мать в последнее время часто говорила Сомову, что нормальные люди в двадцать четыре года уже воспитывают детей. Сомов привычно отвечал:
– Хорошую девушку теперь найти трудно.
– Так ищи!
– Что же она? Чемодан, что ли? Это только грибы так ищут: больше прошел – больше нашел.
Смешно говорится – личная жизнь. Как будто у человека есть какая-то другая. Но уж если так принято, то личная жизнь у Сомова состояла из посещений тридцатилетней женщины по имени Жанна. Жанна была замужем, но ее тиран, как она называла мужа, часто ездил в командировки и никогда, вопреки несмешным анекдотам, неожиданно не возвращался. Даже звонил из других городов и сообщал час прибытия поезда или самолета. Жанна понимала по-своему и говорила:
– Это он нарочно делает. Чтобы меня унизить!
Сомову нравилось бывать у женщины, которая ухаживала за ним, сладко целовала и, кажется, любила. Ревновала – это уж точно.
– Знаю я этих домкультуровских девок! Интеллигентные, а на самом деле – одна видимость. Ни одного мужика не пропустят!
Сама Жанна работала дежурной медсестрой в больнице, и это тоже нравилось Сомову. Он уважал людей, причастных к медицине.
Как считал Сомов, первый раз на работу он опоздал из-за Жанны, из-за нее же опаздывал и во второй. Март стоял мокрый, с черной жижей вместо снега под ногами и усиленным испарением. Сомов прыгал по грязной дорожке садика и ругался: «Пристает со своими завтраками! Неужели не ясно, что это не главное!» На перекрестке пришлось пережидать красный свет. Сомов стоял покачиваясь, как теннисист на подаче соперника. Наконец зажегся зеленый. Словно собака, заскулил тормозами троллейбус. Сомов припустил вперед.
Пожилой вахтер, похожий на дореволюционного дворника, приветливо поздоровался, только что шапку не заломил, да и то, наверное, потому, что шапки на нем не было, а уже через пять минут на столе у Сомова зазвонил местный.
– Витя, зайди.
Сомов вытер пыль на столе, что скопилась за выходные, и направился к директору.
– Ну, как на личном фронте? – спросила Мария Викторовна, облизывая с ложки варенье.
– Без перемен, – ответил Сомов.
– Зря… Ну ничего – скоро лето, а там мой шахтер приедет, и мы на курорт. Берите пример… Не слышали, почем койки были в прошлый сезон на Ривьере?
Сомов пожал плечами. С таким же успехом у него можно было спросить, сколько стоит одно место до Луны.
В кабинете директора стоял обычный уютный полумрак, но инструктору показалось, будто вошел он в ярко освещенный зал. Сомов знал, что сейчас директор поставит ему вторую галочку. Было очень неприятно. Не из-за премии, которую Сомов мог получить в размере десяти рублей за три месяца… У директора было умение выставлять галочки так, что сотрудников пот прошибал. И самое скверное, что тут он обходился без крика.
Сомов поздоровался. Сесть ему не предложили, да он бы не стал садиться. Стоя было легче. Директор открыл журнал и медленно повел авторучкой по списку. «Да что высушивать-то!» – подумал Сомов.
– Ага! – сказал директор. – Вторая!
Он посмотрел на Сомова, словно людоед, с аппетитной улыбкой. Артистично поставив галочку, директор захлопнул журнал, и взгляд его снова потух.
– Иди, работай…
– Спасибо, – вырвалось у Сомова.
Стараясь ступать мягко, он направился к двери.
– Постой… Прибор для перемещения одних слоев воздуха по отношению к другим… Одиннадцать букв…
– Вентилятор, – с облегчением отозвался Сомов.
– Идиоты, – пробормотал директор, видимо, в адрес составителей кроссворда.
Сомов возвращался по коридору в свой кабинет и думал: «Да что же я так боюсь? Издевается он, что ли? Галочки идиотские… Бред!»
Борис Семенович встретил приветливо:
– Ты, Витя, у нас теперь злостный нарушитель дисциплины. Тебе и чай ставить.
Сомов был рад случаю походить. Он полез под стол за чайником, а Борис Семенович продолжал жаловаться Кусковой:
– Ноги ломит, словно их и нет вовсе. Будто на противотанковую мину наступил! А в пояснице снаряд торчит… Самый ходовой – семьдесят шестого калибра. Вошел наполовину и встал! Во как!
– Хотите шоколадку? – спросила Кускова.
Она пошелестела фольгой.
– У вас какая? – спросил Боровский.
Под мерное шипение чайника Сомов занялся вечером работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Гулять должен был спецтрест. Сначала Сомов подумал, что это организация, занимающаяся бытовым обслуживанием специальных организаций, но вскоре выяснилось, что спецтрест проводит и организует похороны. Денег они перевели, как сказал Боровский, чертову кучу. Теперь Сомову под руководством Кусковой нужно было эти деньги потратить.
До вечера оставалась неделя, но еще не было ни пригласительных билетов, ни сценария, ни оркестра для танцев. Не было ничего, кроме приказа директора обеспечить веселье похоронной организации.
На бывшей своей работе Сомов два раза посещал профессиональные праздники в домах культуры. Тогда все казалось достаточно простым и скучным: официальная часть, вручение наград передовикам, концерт, танцы и буфет с постоянно кончающимся пивом. Теперь же было ясно, что официальная часть – это столы для президиума, которые нужно раздобыть и установить, а устанавливать будет некому, потому что единственный рабочий сцены Жора содержится по жадности директора лишь на полставки по совместительству и в день вечера может оказаться занят у себя в театре; это просто цветы, которые просто не достать; это грамоты, которые обком профсоюза обещал прислать лишь накануне и которые в субботу некому будет подписывать, так как председатель заболел, а два зама в командировках. Концерт – это артисты. Артисты, слава богу, будут по долгосрочному договору с концертной организацией, но им нужна гримерная, а там в субботу – класс энтузиастов классической гитары, и нужно будет умолять руководителя освободить помещение. Танцы – это оркестр, который и за месяц заказать проблема. А в какой типографии за неделю отпечатают пригласительные билеты? Сомов вздохнул и посмотрел на начальницу.
– Отругал Альфред Лукич? – громко спросила она. – Испортил настроение?
С таким счастливым лицом обычно выходящих из бани спрашивают, какой сегодня пар. Она отправила в рот очередную конфету и добавила:
– А теперь за работу. Нужно обеспечить явку на профсоюзный актив.
– Как явку? У нас же через неделю спецтрест!
– А профактив в среду! Надо обеспечить!
Сомов взялся за телефонный справочник. Именно взялся, потому что это была большая и тяжелая книга. Из тысяч телефонов требовалось выбрать сто семь и сто семь раз, улыбаясь в трубку, напомнить:
– Вы не забыли, что во вторник профсоюзный актив?
Некоторые благодарили за напоминание, другие бурчали, что все равно не придут, третьи интересовались:
– Артисты будут?
А на заводе пищевых пластмасс приятный девичий голосок спросил:
– Славка? Ты, что ли? Кончай хохмить?!
Обзвонив десятка три предприятий, Сомов почувствовал острое желание попугать профкомы милицией, но, как полагал инструктор, работники культуры не имеют права на подобные эмоции, и рука снова принялась крутить телефон.
– Виктор Павлович, вот вам конфета. Звоните энергичнее. Берите пример с Бориса Семеновича!
Борис Семенович что-то быстро писал. Не поднимая головы, он сказал:
– Печенку рвет, словно миной.
– У них же есть абонементы, – проговорил Сомов.
– Надо обеспечить явку!
Звонил Сомов до конца дня. А во вторник, как пришел, снова услышал:
– Виктор Павлович, не забыли? Завтра профактив!
– Вчера же обзванивал…
– Нужна явка.
Сомов снова сел за телефон, но говорил уже по-другому:
– Местком? Примите телефонограмму.
И так целый день с перерывами лишь на то, что без перерыва обойтись не может.
В среду на профактив, за исключением двух подруг Кусковой с завода пищевых пластмасс, никто не пришел.
– Плохо звонили! – сказала Кускова.
В четверг утром выяснилось, что Сомов остался один на один с вечером. У Кусковой заболел ребенок. Сомов открыл рабочую записную книжку начальницы на букву «О» и обнаружил фантик от карамельки «Театральная». Под фантиком нашел телефон и подпись – оркестр. Звонил час, но было занято. Тогда Сомов оделся и отправился в эстрадное объединение ансамблей, благо было недалеко. Погода стояла весенняя, как понимают ее горожане: шел не то дождь, не то снег, серый плотный воздух мешал дышать, а под ногами всхлипывала каша из грязи и воды. Расположенные неподалеку парфюмерная, кондитерская и дрожжевая фабрики выдавали изощренный аромат, и Сомов долго думал над ребусом: для чего так они воняют, когда в городе нет ни хорошей парфюмерии, ни приличных конфет, а дрожжей нет даже плохих.
Миновав мост, пройдя набережной, Сомов свернул под арку, вошел во дворик. Во дворике стоял автобус, а красиво одетые молодые люди грузили в него аппаратуру. Для Сомова это была продукция с черного хода. Он облизнулся и вошел в двери эстрадного объединения.
Долго пришлось ждать заместителя заведующего закрытыми площадками – очень полную женщину с большим декольте на пышной груди и смелым разрезом на юбке, чтобы услышать:
– А что же вы хотели?
– Но ведь это же спецтрест! – авторитетно заявил Сомов, на что-то намекая; на что, правда, Сомов и сам не знал.
Женщина посмотрела в окно и добавила, словно на улице ответ увидела:
– У них своих оркестров полно!
– Это специфические оркестры…
– Настоящий музыкант должен уметь играть все! А потом, если вы думаете, что наши играют веселее, смею вас уверить!
– Так что же мне делать?
– Делайте как задумали.
Сомов покачал головой, посмотрел на крупные красные бусы, похожие на костяшки бухгалтерских счет, на белой груди заместителя начальника и вышел.
– Ну как? Сходил к музыкантам? – спросил Боровский.
– Сходил.
– Поставь-ка чайку! Или нет… Постой!
Борис Семенович запер дверь, залез в шкаф и из-за известных уже Сомову брошюр достал искомое. Обоим стало теплее.
– Армянский, – сказал Сомов. – Хороший!
– Мягкий, – подтвердил Борис Семенович.
Он расстегнул пиджак и спросил:
– Отказала тебе Римма Наумовна?
– С бусами которая? Отказала… Оркестров нету.
– А вечер когда? – снова спросил Боровский, словно не знал.
Сомов ответил. Борис Семенович достал тогда одну из своих разбухших книжечек, открыл и, отчеркнув ногтем, протянул Сомову.
– Вот тебе, Витя, задача. Специальный телефон, как прорвешься, сразу зови меня.
Сомов прорвался с третьего раза.
– Бегу, бегу, – медленно поднимаясь из кресла, проговорил Боровский.
Сомов уступил ему свое кресло, но Борис Семенович остался стоять. Он согнулся над телефоном и, широко улыбаясь, заговорил:
– Риммочка? Целую твою прекрасную шейку! Что? Бусы мешают? Это мне-то?
Борис Семенович захихикал.
– А как здоровье? А спутника жизни? Скучать не дает… Эх! Годы, годы! Я бы с ним посоперничал! Что? Нет! Скоро в гроб! Надо… Отвоевал! Сегодня ночью снова не спал. Лежу, думаю: сейчас сердце в куски!
Боровский еще немного подышал в трубку и сказал:
– Риммочка, вот тебе задачка…
Оркестр обещали. И поехало… Сомов крутил отмеченные длинным ногтем Боровского специальные телефоны, а тому обещали к вечеру цветы, билеты, афишу и артистов получше.
– Культура без вас, Борис Семенович, зачахнет, – сказал Сомов откровенно.
– Без нас ей будет трудно, – поправил ветеран.
Осталось решить проблему сценария. Сомову было впору писать его самому. Боровский достал бы не одного сценариста с кучей сценариев, но все уперлось в наличные деньги. Директор выдал из кассы двенадцать рублей и сказал, чтобы обратились к Лене. Леня по творческому замыслу директора должен был написать сценарий в стихах.
– Они издеваются! – ответил Леня Сомову. – Это же фирменное неуважение!
– Форменное, – машинально поправил Сомов.
Сценарий горел.
– Двенадцать рублей за такой титанический труд! – возмущался поэт. – Хороший сценарий – это же высокое искусство, его никакими деньгами не измеришь. По крайней мере не меньше двухсот рублей стоит!
– Так это же чужим платят, а ты – свой…
– Я своим на таких условиях быть отказываюсь. Так и передай, что писать не буду. Меня уже раз надули на День Конституции. Я им полновесный, профессиональный сценарий, а мне – даже премии никакой!
Сомов, думая, что делает благородное дело, принялся перед директором осторожно отстаивать интересы приятеля. Сказал о том, что сценарий – это высокое искусство, а о деньгах от себя добавил, что у Лени двое детей.
Директор оторвался от кроссворда и спросил:
– Вы, кажется, с ним друзья?
Сомов смутился, будто его уличили в интимной связи с непорочной девушкой.
– Знаем друг друга…
– Значит, друг друга хорошо знаете?
– Ну, как хорошо… – неожиданно для себя заговорил Сомов. – Жили раньше соседями… Он заходит ко мне!
– Значит, заходит?
Сомов помычал, выдавил:
– Редко.
Самое противное было в том, что он говорил правду. Директор задумался, глядя сквозь инструктора на картину участника изостудии дома культуры Терентьева «Степной богатырь». В скобках стояло пояснение: «Трактор „Кировец—701“, модифицированный».
– Вот пусть он к тебе еще разок зайдет. Раз вы, друзья, договориться не можете, пусть с ним Боровский побеседует.
Леня ждал в коридоре. Пошли в отдел. Здесь Леня достал из мешка кусочек булки, стал жевать и рассказывать:
– Ездил недавно в Москву. Вызывали…
Леня назвал детский журнал.
– И как Москва? – спросил Сомов.
– У них тема горела. Бюджет и семья. Рисунки есть, а стихов нету.
Он отломил от куска и протянул Сомову:
– Хочешь?
Сомов отказался.
– А вы, Борис Семенович? Булка свежая…
Боровский махнул рукой, мол, некогда. Сомов удивился: когда же он о сценарии с Леней говорить будет. Поэт, продолжая медленно жевать, говорил:
– Я им написал. Прямо с поезда пришел и написал. Потом поесть дали: куриный бульон, булочка с маком… И денег заплатили сто пятьдесят два рубля. Вот послушай!
И Леня прочитал сочиненные в Москве стихи. Закончив, поспешил объяснить:
– Может, это и не гениально, но зато профессиональная работа.
– Профессиональная-профессиональная, – неожиданно подал голос Борис Семенович, – но я должен сказать, что есть поэты, которые могут такое и за час написать.
– Может и есть, да только нету, – проговорил Леня.
Борис Семенович снисходительно улыбнулся, вытер платком голову и сказал:
– Пушкин, к примеру.
– Пушкин бы не смог. Он, конечно, лучше меня писал, но так профессионально работать не сумел бы. Они же все избалованы были, эти классики. Им обязательно вдохновение подавай! Я работаю профессионально.
– А мог бы ты, скажем, профессионально написать нам интересный сценарий для вечера спецтреста?
– Ага! – воскликнул Леня. – Хотели меня поймать? Я уже слышал – двенадцать рублей! Вот Пушкин пусть и пишет!
Он положил в сумку недоеденную горбушку и встал.
– Ты меня не понял, – неотразимо улыбаясь, заговорил Боровский. – Ты сядь… А для нас постарайся, я со своей стороны постараюсь тебе путевочку с семьей. У тебя когда отпуск?
– Обманете, – буркнул Леня.
– Леня! Когда мы тебя обманывали?
– А на День Конституции!
– Тебе же тогда заплатили.
– Ага! Заплатили! Не буду я писать!
Леня ушел не прощаясь, а минут через пять вернулся и спросил:
– Куда путевка-то?
Сценарий начинался так: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану».
Вечером Сомову было письмо из Барселоны. Бакунин писал: «В Испании погода нормальная. Солнце жарит так, словно мы на юге, в районе Сочи. Очень много работы, города почти не видел, но ничего особенного, видимо, здесь нет. Был на бое быков. У Хемингуэя, надо сказать, все гораздо интереснее описано».
Письмо у приятеля вышло коротким, и Сомов подумал, что из-за границы длинно писать нельзя.
Наверное, нет ничего скучнее, чем организовывать чужие праздники, и ничего утомительнее, чем их проводить. В первом Сомов уже убедился, второе ожидало его.
С утра в воскресенье нужно было идти в магазин выкупать заказанные цветы. Цветы для праздников выдавались в корзинах с землей. Корзин заказали шесть штук, а в помощь Сомову отрядили рабочего сцены Жору. Лишь его одного, поэтому инструктор долго прикидывал, как четырьмя руками унести шесть больших корзин со слабыми ручками. А еще думалось о том, почему должность называется «инструктор», а не курьер или грузчик.