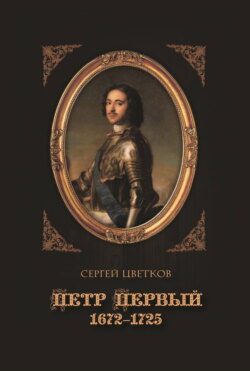Читать книгу Петр Первый. 1672–1725 - Сергей Цветков - Страница 3
Часть вторая
В Преображенском
ОглавлениеПреображенское нравилось Петру больше Кремля. Это царское загородное имение располагалось у моста через Яузу, в конце Сокольничьего поля, упиравшегося с одной стороны в Кукуй и московские посады, с другой – в Грачевую и Оленьи рощи и Лосиный остров. Дворец утопал в плодовых и увеселительных цветочных садах, где росли яблони, груши, сливы, шелковичные деревья, ягодные и ореховые кусты, – а за ними на многие версты кругом расстилались пашни, рыбные пруды, огороды, высились мельницы, риги, амбары… Хозяйство велось на немецкий образец, с применением заморских машин и приспособлений. Куда ни глянь – кругом раздолье, есть где порезвиться. И так славно прятаться от взрослых в Вавилоне! Вавилоном называлась обширная часть сада, тянувшегося от дворца вдоль Яузы. Густые кусты сирени, акации, смородины, шиповника, малины непроницаемой стеной окаймляли с обеих сторон песчаную дорожку, чьи причудливые изгибы и разветвления образовывали запутанный лабиринт.
Вскоре нашлись и другие забавы.
На пятом году появилось у него под началом две дюжины ребяток – детей придворных конюхов, сокольников и прочей прислуги, принятых в потешную службу. Для них забавы Петра не были развлечением – царевич играл, они служили и получали за это государское жалованье. С той поры дня не проходило, чтобы Петр со своими потешными не стреляли из луков в шапки, не палили из потешных пистолей и не рубились геройски сабельками с бусурманскими ворогами – чертополохом и прибрежными кустами. И теперь от царевича Петра Алексеевича к дворцовым мастеровым стали таскать в починку не дудки и цимбальцы, а порванные барабаны, знамена и сломанные луки с потешными пистолями.
И все было бы ладно, хорошо и весело, но пришла пора, и свалилась на голову Петра докука неизбывная – учение.
Учителей для русских царевичей выбирали из приказных подьячих, ища среди них людей тихих, сведущих в Божественном Писании и не бражников.
Старший брат и крестный отец Петра царь Федор торопил куму-мачеху, царицу Наталью: «Пора, государыня, учить крестника». Царица попросила кума найти подходящего учителя. Царь согласился и вскоре прислал в Преображенское подьячего Никиту Моисеевича Зотова.
Небольшая светлая горенка, отведенная для занятий царевича, находилась на втором ярусе Преображенского дворца, возле покоев царицы Натальи Кирилловны. Кроме лавок вдоль стен и сделанного по росту пятилетнего Петра стола, который стоял у высокого узкого окна с державным узором из цветных стекол, в ней не было ничего, но на стенах висели куншты – расписанные красками планы и виды русских и европейских городов, церквей, сцены сражений, портреты царей и королей, пап и патриархов, знаменитых полководцев, с подробными пояснительными надписями. Эти картинки, скопированные придворными художниками с рисунков из русских и иноземных книг, хранившихся в кремлевской библиотеке, были предметом особой гордости Зотова, изюминкой его педагогики.
Никита Моисеевич приходил к Петру в богатом кафтане с высоким воротом, пожалованном ему Натальей Кирилловной специально для занятий с царевичем; стоял прямо, смиренно, благообразно, как подобает учителю царского дитяти. Зотов хорошо помнил, в какое беспамятство и онемелость впал он, простой подьячий Челобитного приказа, когда его вызвали во дворец и объявили, что государь приказывает ему принять в обучение малолетнего царевича, с каким туманом в голове и в глазах отвечал он в присутствии Федора Алексеевича на вопросы Симеона Полоцкого, читал наизусть и по книге Божественное Писание, выводил на пробу образец своего письма; помнил, как подкосились у него ноги, когда Наталья Кирилловна вручила ему, рабу недостойному, свое бесценное сокровище, царское дитя. С тех пор Зотов пообвык, пообтесался в царских хоромах, откинул робость, с удивлением замечая, что больше всех обязан этим своему ученику. Странное дитя – царевич Петр Алексеевич. Нет в нем степенности, величавого царского достоинства, любит, чтобы все было запросто, без чинов и церемоний. Нехорошо это, а вместе с тем – удобно, легко, приятно. Зотову было лестно, что Петр держится с ним почти на дружеской ноге, скорее как старший товарищ, чем как государь: запрещает называть царским высочеством, играет, тискается, сажает с собой за стол, зовет дядей Никитой или даже по отечеству, а если и выдумает какое-нибудь прозвище, то не в обиду – для смеха. Никита Моисеевич знал, что может позволить себе во время урока и сесть на лавку, и пройтись, разминая затекшие от долгого стояния ноги, но никогда не забывался и не позволял себе в классе чрезмерных вольностей. Вот после урока – дело другое; можно и снять с себя узду, раз царское высочество дозволяет.
Образование будущий преобразователь России получил самое что ни на есть старозаветное. Учение состояло прежде всего в вытверживании наизусть Евангелия и Апостола. На этих уроках голос Петра звучал уверенно и бойко. Обе объемистые тяжелые книги, обтянутые тафтой и украшенные драгоценными камнями, лежали перед ним на столе, раскрытые на нужном месте для подсказки, но Петр даже краем глаза не заглядывал в них, безошибочно воспроизводя по памяти вытверженный накануне урок.
Хуже обстояло дело с письмом. Записывая под диктовку Зотова упражнения из письмовника, Петр то и дело останавливался, задумывался, просил повторить предложение, пытаясь понять по его выговору написание трудных слов. «Аднака» или «ад нака»? Зачеркивал, исправлял, сажал кляксы в тетрадь и на свой нарядный кафтанец. Он терпеть не мог выводить эти крючки, черточки, палочки.
Тетради Петра приводили Зотова в отчаяние: правил не соблюдает, слов не разделяет, между двумя согласными то и дело подозревает «ять», буквы в словах от быстронравия пропускает. Ну-ка, пусть царевич объяснит ему, старому дурню, что это за слово такое – «а нака»? Ах «однако»…
Увидев, что Петр начинает раздраженно ерзать на месте, Зотов прерывал диктовку. Царевич утомился сидеть, надо дать ему подвигаться. Такой, право, непоседа.
Отложив книги и тетради, Никита Моисеевич приглашал Петра посмотреть приготовленные для него новые куншты. Он и сам всегда с нетерпением ждал этого момента. Ему нравилось непритворное любопытство, с которым Петр разглядывал картинки, – в эти минуты Зотов испытывал законную радость и гордость педагога. Обыкновенно вопросам не было конца, и просмотр картинок превращался в настоящую лекцию по истории. Зотов был любитель исторического чтения. Он с удовольствием рассказывал Петру о русских князьях и царях, об их храбрых военных делах и дальних нужных походах, сражениях, взятиях важных городов, о том, как благоверные государи, твердо уповая на Бога, претерпевали нужду и тяготу больше простого народа, и тем много благополучия государству приобрели и Русскую державу распространили. Касался и иноземных персон. Вот виконт Тюрень, маршал французского короля Людовика, славный многими знаменитыми победами. Был некорыстолюбив, воздержан, благочестив, перед боем по нескольку дней служил с войсками молебны. Когда он погиб, король Людовик, чтобы возместить потерю одного, произвел в маршалы восемь своих генералов. Вот венецианский дож обручается с морем, сиречь венчается на царство. Вот голландский корабль «Королева Екатерина» – как можно видеть, имеет на мачтах третий парус: сие в мореходном деле знатная новость. Здесь – оборона Пскова от войска польского короля Стефана Батория: взрыв порохового погреба разрушает башню, занятую ляхами, к великой досаде гордого короля. А вот лифляндский город Рига, отеческое достояние царей московских, ныне уступленный королю шведскому. Блаженный родитель Петра Алексеевича пытался возвратить его под свою державную руку, но не смог, отступил. Почему? Господь дает, Господь берет, на все Его святая воля. А им бы неплохо опять сесть за письмо…
Кроткий и смирный человек был Никита Моисеевич Зотов, вот только выяснилось, что трезвенником назвать его было никак нельзя. Потому и педагогическая карьера его была весьма необычной – из придворных учителей в патриархи всешутейшего и всепьянейшего собора.
* * *
Между тем некоторые перемены в кремлевской жизни стали грозить Наталье Кирилловне новыми притеснениями. В июле 1680 года приехал к ней первый постельничий царя, боярин Иван Максимович Языков, который от имени государя потребовал освободить несколько палат в Преображенском дворце для родни молодой жены Федора Алексеевича, Агафьи Семеновны Грушецкой. Но Наталья Кирилловна отлично понимала, что за этим требованием стоит сам Языков. Первый постельничий вместе с комнатным стольником Алексеем Тимофеевичем Лихачевым были новыми любимцами царя. Вступив в борьбу с Милославским за влияние на Федора Алексеевича, Языков с блеском подтвердил свою репутацию человека великой остроты и тонкого дворцового проницателя. Оба прочили в жены царю своих ставленниц. Языков действовал без откровенного нажима и потому победил. Во время пасхального крестного хода он, как будто случайно, показал Федору Алексеевичу красавицу Грушецкую, которая воспитывалась в доме своей тетки, жены думного дворянина Заборовского. Девушка понравилась царю; объявили о свадьбе. Милославский вновь, как и восемь лет назад, при женитьбе Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне, не смог придумать ничего лучшего, как возвести нелепую клевету на Агафью Семеновну. Языков легко опроверг навет, и разгневанный царь запретил Милославскому являться ко двору. Правда, новая царица умолила супруга простить клеветника, но Милославский с этих пор потерял всякое влияние. Вселение родственников Грушецкой в Преображенское было вторым этапом плана Языкова. Таким образом он хотел убить сразу двух зайцев: не допустить вторжения новых людей в Кремль и досадить Наталье Кирилловне, которая его недолюбливала, называя «новым Годуновым».
Наталья Кирилловна была возмущена. Она вовсе не собирается утесняться ради каких-то Грушецких! Но сама она была бессильна что-либо сделать и потому собиралась отправить в Кремль Петра – жаловаться царю на самоуправство Языкова. Федор Алексеевич любил своего крестника, постоянно справлялся о нем и никогда не отказывал в частых просьбах выдать из Оружейной палаты для его потешных новые барабаны, луки и пистоли. Авось не откажет и на этот раз.
Но вот беда – Петруша терпеть не мог просить о чем-то крестного. Правдами и неправдами отнекивался он от поездки в Кремль, не желая вникать в языковские козни, и дотемна играл на Потешном дворе – небольшом пятачке перед дворцом, окруженном земляной насыпью и рвом. Каждый день можно было наблюдать, как он с сабелькой в руке становился перед насыпью во главе нескольких карликов и дворовых мальчишек. Над маленьким войском развевалось тафтяное знамя с вышитыми на нем солнцем, месяцем и звездами. Еще одна группа потешных, засев за валом, готовилась отразить штурм. По знаку Петра его войско палило из потешных пистолей и, нестройно вопя, храбро лезло на вал.
* * *
Восемь царевен жили в кремлевском тереме: две престарелые Михайловны, Анна и Татьяна, и шесть молодых Алексеевен – Евдокия, Марфа, Софья, Екатерина, Мария и Феодосия.
Царские дочери были обречены на безбрачие: выходить за своих подданных им запрещал обычай, а выдавать их за иностранных принцев мешало различие вероисповеданий. Русские цари твердо стояли на том, чтобы за их дочерями было сохранено право не принимать веру будущего мужа, – на этом пункте брачного договора обыкновенно и заканчивалось сватовство заморского жениха.
Вся жизнь царевен проходила в тереме, заканчивалась она в монастыре. Но московский терем не имел ничего общего с восточным гаремом. Держать женщин взаперти русских людей побуждала не первобытная ревность самца, не вековой уклад быта, а сложившийся в Московской Руси идеал христианского благочестия да боязнь греха, соблазна, порчи, сглаза. Согласно этому идеалу царевны жили в строгом уединении, проводя дни частью в молитвах и посте, частью в рукоделии и комнатных забавах с сенными девушками. Из мужчин только патриарх и ближние сродники могли видеть царевен; врачи в случае необходимости осматривали их в темной комнате, щупая у больной царевны пульс через платок. В церковь царевны ходили скрытыми переходами и стояли там в отгороженном приделе. Они не принимали участия ни в одном из придворных празднеств. Лишь погребение отца или матери на короткий срок вызывало их из терема: они шли за гробом в непроницаемых покрывалах. Народ знал их единственно по именам, которые провозглашались в церквях при многолетии царскому дому.
Но со смертью Алексея Михайловича времена переменились. Надзирать за царевнами стало некому: болезненный Федор Алексеевич сам нуждался в надзоре, а Наталья Кирилловна уже по одной молодости лет не годилась для этой роли, да и в Кремле она бывала редко.
Никому при дворе и в голову не приходило ожидать бури из тихого царского терема. А тут – началось: царевны почуяли волю. Правда, обе Михайловны думали уже только о спасении души и вскоре постриглись одна за другой. Зато Алексеевны расходились вовсю, словно стремясь единым махом наверстать все упущенное за годы постылого девичества. Вмиг нарядились они в польские платья и завели любовников, некоторые – так даже нескольких. Потеряв всякий стыд, блудили в открытую – никто им слова поперек не смел сказать.
Но больше всего пересудов и неудовольствий вызывало поведение царевны Софьи. Между тем она не носила неприличных платьев, не водила в опочивальню дюжих молодцов. Она совершила другое неслыханное дело вышла из терема и появилась в кремлевских хоромах.
Придворные неодобрительно качали головами, сестры за ее спиной зло шептались: чего лезет на люди? Тоже нашлась красавица! Красавицей Софья точно не была. Однако многие иноземные послы находили ее привлекательной. По русской же мерке она была очень недурна – полнотелая, широкой кости, пышущая здоровьем, коса толщиной в руку. Во всяком случае, зеркало не причиняло Софье особых огорчений. Ну, простовата лицом, так под толстым слоем белил и румян все одно: что красавица, что дурнушка. Она знала, что ее сан искупает многие телесные недостатки, и потому держалась с мужчинами смело, без смущения.
Она обладала еще одним качеством, которое если и не привлекало мужчин, то остро ими чувствовалось, – Софья была умна. Она получила неплохое образование, в разговоре обнаруживала начитанность в светской и духовной литературе, сама дерзала сочинять вирши и орации. Симеон Полоцкий, воспитатель детей Алексея Михайловича, звал ее своей любимой ученицей и посвятил ей книгу «Венец веры кафолической».
Даже недоброжелатели Софьи называли ее ум мужским, то есть твердым, ясным, жестким; но мужской ум не делал ее мужеподобной, не лишал ее обращения женской обходительной ласковости.
И все же не ум гнал ее вон из терема – страсть. Но не любовь проснулась первой в ее сердце – ненависть. Одно лицо неотступно стояло у нее перед глазами, одно имя не выходило из головы – Натальи Кирилловны, проклятой мачехи, медведицы, бог весть откуда забежавшей в их семейство. Беседуя со своим яростным сердцем, Софья стала политиком. Хорошо, сейчас медведица повержена, загнана назад в берлогу. Надолго ли? Федя, братец любимый, несмотря на молодые лета, одной ногой уже в могиле. Сколько бы ему ни осталось, Петра с Иваном ему не пережить. Да что говорить об Иване, следующим будет Петр, ясно. Значит, еще два, три года, ну, много, пять лет – и снова всем во дворце будет заправлять она, проклятая, а вместе с ней Матвеев и вся нарышкинская свора, мужики, дворовые дети, деревенщина. Откуда только взялись? Ведь не орут их, не сеют, сами рожаются от худых отцов и гулящих матерей, а все туда же – царствовать! В предвидении такого будущего она задыхалась от ненависти. Этого нельзя допустить! Чтобы успокоиться, она брала любимые византийские космографы, в сотый раз перечитывала истории византийских цариц. Не было на Руси женского правления, кроме Ольгиного, но разве второй Рим не пример третьему? Вот благоверная царица Пульхерия – отстранила от престола двух своих немощных братьев, Аркадия и Гонория, и правила добродетельно и с блеском. Да и память Ольги разве не благословенна в русских летописях? Она откладывала книгу и долго сидела, смотря перед собой отрешенным взглядом, перебирая в уме имена: Пульхерия, Аркадий, Гонорий, Софья, Петр, Иван…
Когда она впервые появилась в царской опочивальне и села у изголовья больного брата, Языков дерзко спросил, что царевна, собственно, тут делает. Софья ответила так, что первый постельничий прикусил язык, зыркнул глазами, ядовито улыбнулся. Федор Алексеевич пресек назревавшую ссору.
Зато обрадовался Милославский. Стал приходить к ней, беседовать. Ловко она отбрила этого наглеца, выскочку! Правильно, ведь она и он, Милославский, одного корня, одна семья, им надо держаться вместе. Кому, как не ей, законной дочери Алексея Михайловича, повлиять на государя, положить предел засилью никчемных людишек. Из его речей Софья быстро поняла расстановку сил. Против них Языков, Лихачев, Долгорукий, Голицыны, Хитрово, Стрешневы; опереться можно разве что на Хованского и братьев Толстых. Что говорить, тяжело, – в открытую не схватишься. Надо выжидать, не отходить от государя.
Теперь Софья безотлучно сидела у изголовья брата. Сама подавала лекарства, утешала. Федор Алексеевич был доволен присутствием сестрицы: с кем еще так хорошо поговоришь о польской литературе? Однажды она попросила разрешения сопровождать его в боярский совет. Он ответил согласием. Когда Софья появилась в Думе, бояре выкатили глаза, но смолчали.
Она приучала Кремль к себе, к тому, чтобы ее отсутствие вызывало недоумение и вопросы. Она оставалась равнодушной к косым взглядам приверженцев традиций, ее не смущала ни сила, ни количество ее врагов. Но, с тех пор как Милославский произнес фамилию Голицыных в числе ее противников, она безотступно думала об одном человеке – князе Василии Васильевиче Голицыне. Впервые увидев его в толпе окольничих, Софья задержала на нем свой взгляд чуть дольше, чем на других, – и запомнила сразу, всего: стройный, осанистый, длинные волнистые белокурые волосы, прямой породистый нос на продолговатом лице с мягкой светло-русой бородкой, вдумчивые голубые глаза, благородные маленькие руки… Отныне в любой толпе ее глаза безошибочно выхватывали его лицо, прежде всех остальных. Она видела, что он не такой, как все, – одет не богаче, а изысканнее, держится не величавее, а изящнее, образованный, иначе понимает, иначе говорит. Она надеялась, что иначе и думает. Ведь он не похож на других. Но и она не похожа на других. Неужели они – враги? Какая нелепость! Не может быть!..
Как-то раз Голицын обратился к Федору Алексеевичу с необычной просьбой. Речь шла о женщине, убившей мужа: ее по обычаю закопали в землю. Голицын просил откопать ее, пока не задохлась, и заключить в монастырь – так будет более по-христиански. Бояре возмутились. Как, помиловать убийцу мужа? Царь колебался. Софья горячо вмешалась, воззвала к патриарху Иоакиму, к брату, прося проявить милосердие. Патриарх не возражал. Послали гонца с приказом откопать виновную. Во взгляде Голицына Софья прочла благодарность.
Обстоятельства их знакомства неизвестны. Кажется, Голицын был в этом деле пассивной стороной. Софья сделалась для него необходимой раньше, чем он понял, что ему интересно с ней. Голицын страдал от окружавшего его безмолвия. Ведь говорить обо всем том, что он ежедневно слышит при дворе, – не все ли равно что немотствовать, бессмысленно мычать? Науки, искусства, законы для этих людей – пустой звук, они не способны понять даже свое убожество. Кваканьем не опишешь ничего, кроме болота. Тоскуя по ученой беседе, томясь в своем великолепном дворце, построенном и отделанном в итальянском вкусе, с дорогими венецианскими зеркалами, со стенами и потолками, расписанными картами звездного неба и знаками Зодиака, Голицын как праздника ожидал приезда новых иностранных послов или возвращения московских – хоть эти редко могли толком рассказать о том, что видели. Правда, под рукой всегда были кукуйские немцы, но их Голицын не особенно жаловал – в большинстве своем сволочь, наемная солдатня, отбросы цивилизованного мира. Предпочитал им заботливо подобранное мысленное общество благородных мужей: европейских философов, юристов, писателей. Книги говорили о вещах, событиях, делах, отношениях, людях, которых он не знал, не видел вокруг себя, но которые – странное дело – иной раз представлялись ему гораздо более вещественными, реальными, осязательными, чем все то, что окружало его. Живые цветы Тосканы распускались на морозных стеклах его кабинета, герои и боги толпились в передней, белоснежная тога на плечах взывала к деяниям великих римлян; и тогда его собственный дворец казался ему всего лишь прихотливой роскошной грезой, на мгновение украсившей беспробудный темный сон Охотного ряда. Порой от чтения делалось невыносимо тяжело. Кому здесь нужно все это? Кто воодушевлен стремлением распространить просвещение, улучшить нравы, насадить ростки свободы? Живем в своем затхлом углу, отгородились от остальных людей сатанинским высокомерием. А за этим забором-то что? Грязь, жестокость, грубость, невежество. Пьяниц прощаем, жалеем, а шахматистов кнутом наказываем. Тревожные мысли теснились в голове, выстраивались в проекты преобразований, просились на бумагу. Он записывал их, сверял с мнениями живущих и умерших авторитетов, исправлял, улучшал. Потом в отчаяние бросал перо. Для кого он это пишет – для себя?
Оказалось – и для нее. Оказалось, что с этой женщиной можно беседовать не только о литературе. Ее интересовали политика, богословие, торговля, военное дело, законодательство. Он не ожидал встретить с ее стороны такого глубокого понимания государственных вопросов. Однажды вместо очередной книги Голицын дал ей объемистую рукопись. Софья читала ее почти с испугом. Под пером Голицына извечные формы московской жизни ломались, отбрасывались, как устаревший хлам, как стесняющие оковы. Создание армии на иноземный манер, освобождение крестьян и наделение их землей, открытие светских школ и академий – нововведения затрагивали все привычное, застывшее в освященной веками неприкосновенности, изменяя до неузнаваемости лицо страны. Софья долго размышляла, хочет ли она жить в этой новой стране, но смогла твердо решить только то, что не хочет жить в старой, где ей уготован монастырь. Потом поняла: он герой, творец, людские обычаи и предрассудки сковывают его. Надо дать ему расправить крылья, подняться над толпой. Ведь и она стремится туда же – ввысь. Только там, наверху, они смогут быть вместе.
Отныне Софья знала, что борется за свое счастье. Соблазн предложить ему теперь же свою любовь она отвергла как желание, недостойное ни ее, ни его. Не наложницей – царицей войдет она к нему; не похоть неутоленную, а славу и величие принесет в дар. Мысль о том, что Голицын женат, даже не приходила ей в голову. Человеческие законы не для них.
А пока она решила показать ему, что они – вместе. В рукописи Голицына она встретила статью об отмене местничества. Эта мысль показалась ей весьма своевременной. Такой шаг несомненно привлечет на ее сторону, на их сторону всю массу худородных служилых людей. А какое удовольствие доставит ей наблюдать за тем, как вытянутся лица чванливых стариков, только и помышляющих о том, чтобы запереть ее обратно в терем! И Васенька увидит, что ей под силу многое, очень многое…
Обычай местничества заменял на Руси понятие аристократической чести. При назначении на военную, гражданскую или посольскую должность бояре и дворяне «считались местами», то есть отказывались служить под началом менее родовитого воеводы или дьяка. Каждый знатный род имел свою разрядную книгу, содержавшую запись того, когда и где члены этого рода занимали ту или иную должность, кем и чем командовали, под чьим начальством служили. И если в разрядной книге было указано, что при таком-то московском государе прадед такого-то князя начальствовал в передовом полку над прадедом князя этакого, то впредь никакое наказание не могло заставить потомков князя такого-то стерпеть бесчестье, служа под началом потомков князя этакого. Из-за местнических споров проигрывались сражения, срывались важные переговоры, однако местничество настолько прочно укоренилось в государственном обиходе, что никто из царей не смел посягнуть на него.
Допустить поражение в первом бою было нельзя. Софья использовала все имевшиеся у нее средства. Убеждала брата проявить твердость. Заручилась поддержкой патриарха. Поручила Милославскому задействовать старые связи. Ей даже удалось привлечь на свою сторону Языкова, который охотно согласился отвесить оплеуху родовитому боярству.
И вот, прежде чем при дворе успели сообразить, что к чему, на стол царю легла челобитная от выборных людей с просьбой отменить древний обычай, пагубный для государства.
В начале января 1682 года Федор Алексеевич назначил чрезвычайное сидение с боярами, на которое, по важности обсуждаемого вопроса, пригласил и патриарха с собором.
В Думной палате духовенство расселось справа от царского престола, бояре – слева, выборные встали вдоль стен. Все произошло на удивление быстро. После чтения челобитной слово взял царь. Он напомнил всем о своей обязанности блюсти Христову любовь среди подданных и объявил о державном желании уничтожить местничество. Затем поднялся патриарх с сильным словом против богомерзкого и для всех ратных и посольских дел вредоносного обычая. По окончании его речи Федор Алексеевич вопросил: по нынешнему ли выборных людей челобитью всем разрядам и чинам быть без мест или по-прежнему быть с местами?
Бояре, окольничие и думные, помявшись мало, отвечали: да будет как изволили царь и патриарх с собором.
По царскому приказу в передних сенях разожгли в котле огонь и побросали в него разрядные книги с записями чинов и мест.
– Начатое и совершенное дело соблюдайте впредь крепко и нерушимо, – обратился ко всем патриарх, – иначе бойтесь тяжкого церковного запрещения и государева гнева!
– Да будет так! – прозвучало в ответ.
С гордостью победителя Голицын наблюдал за тем, как огонь в котле пожирает боярскую гордость. Вот, значит, послужил не спеси боярской, а государству. Скинул-таки один тяжелый камень с российских плеч. Но должно быть, на губах его играла чуть заметная улыбка. Неужели это действительно сделал он, потомок древнего голицынского рода? Ай-ай, что бы сказал покойный батюшка Василий Андреевич!..
* * *
В Пустозерске Матвеев совсем оскудел. В избенке, где он жил, зияли щели в полнеба, дров на протопку не хватало, к середине ночи печь остывала, как могильный камень. Он рано просыпался от холода, шел в церковь к заутрене. В пустозерской ссылке Матвеев сделался набожнее, чем прежде, да и теплее было в церкви-то.
Когда служба заканчивалась, уже рассветало. Артамон Сергеевич окидывал привычным взглядом полсотни дворов, обведенных тыном. Да, вот где Господь судил доживать век! Пока сам здесь не очутился, ведь и не знал, что за диво такое – Пустозерск! Теперь на вот – смотри досыта. Тьфу, дыра окаянная… Если рассудить здраво, самое удивительное в России то, что в ней всюду живут люди. В какую богом забытую глушь ни заедешь – непременно стоит деревенька или острог. Вокруг топь непролазная или земля льдом навеки покрылась – все равно стоит процветает. Коли русский человек вцепился в свой клочок земли, ничем его не сковырнешь… А казалось бы – что ему в клочке-то этом? Пустозерск! Экие райские кущи…
Днем захаживал в дом воеводы Андреяна Тихоновича Хоненева, узнать, нет ли новостей из Москвы. Облегчения себе уже не ждал, а так, по старой привычке, желал знать, что новенького делается на белом свете. Эх, сюда бы «Немецкую газету»!..
Хоненев был новый воевода, сменивший прежнего, Гавриила Яковлевича Тухачевского. Тухачевский Матвеева до себя не допускал, гнушаясь разговором с опальным. Хоненев, напротив, охотно позволил приходить, хотя в беседе всегда сохранял служебный тон. У Артамона Сергеевича вначале промелькнуло было: уж не переменился ли ветер из Москвы? Потом он понял: просто такой уж человек был новый воевода, не любил почем зря заноситься.
Новости приходили лежалые, но все же это были новости. Зимой узнал Матвеев, что в прошлом августе преставился Никон, патриарх сведенный; государь и патриарх с собором простили ему его вины, позволили жить в Москве, – да вот не доехал, скончался возле Ярославля, в струге. Патриарх Иоаким велел похоронить его как простого монаха.
Да, странная судьба была у всех участников давней распри. Гонимые переживают гонителей: Никон – Алексея Михайловича, Аввакум – Никона… Что это – всевышняя справедливость? Случайность? И приходило на память, как Алексей Михайлович, умирая, в забытьи, все испрашивал Никонова благословения. Так и померли врагами. Теперь, значит, Господь помирил…
Заточенный в земляной тюрьме, Аввакум воспринял новость равнодушно. Жаль, не довелось ему еще раз встретиться с этим носатым и брюхатым кобелем, чтобы разбить ему рыло, выколупать глазки его свинячьи, бесстыжие… И царь Федор хорош – простил, значит… Только хороший царь не простил бы, а быстрее и повыше его повесил! Понятно, сыночек весь в отца – яблочко от яблони!.. Шиша Антихристова рядом сажает, а чад Христовых в тюрьмах гноит. А ведь того не знает царь Федор, что Бог между Аввакумом и царем Алексеем судит: слышал протопоп от самого Спаса – в муках сидит Михалыч за свою неправду. «Смотри, царь Федор, – отписал он грамотку в Москву, – велю Христу и тебя на суде поставить, попарить батогами железными!.. Истину говорю: не цари неправедные, не иереи испакостившиеся – Святой Дух и я, мы судим!»
Не в смирении – в ярости черпал силу протопоп. Верил ли сам в то, что говорил? Сомнительно: мало было в нем простодушия – да не было почти.
В первый, самый тяжкий ссыльный год три челобитных отправил Матвеев в Москву, оправдываясь перед Федором Алексеевичем в возведенных на него обвинениях. Ответа не было. Артамон Сергеевич смирился, понял: не в обвинениях дело. Они – лишь повод. Просто упекли подальше.
Потому не смог сдержать радостных слез, когда в конце апреля 1682 года пришел государев указ: перевести его в Мезень и выдать на дорогу тысячу рублей. Но пришлось повременить с переездом – дороги раскисли.
А тем временем приехал в Пустозерск капитан Лешуков с другим царским указом – сжечь четырех раскольников, Аввакума, Лазаря, Федора и Епифания, за злохульные и злопакостные писания.
За острогом на скорую руку соорудили сруб, посадили в него мятежных окаянных старцев. Зачитали народу их вины, что в день Богоявления во время крещенского водосвятия в присутствии царя Федора Алексеевича раскольники бысстыдно и воровски метали свитки богохульные и царскому достоинству бесчестные и, тайно вкрадучись в соборные церкви, как церковные ризы, так и гробы царские дегтем марали по наущению расколоначальника и слепого вождя своего Аввакума. Он же сам со товарищи на берестяных хартиях начертывал царские персоны с хульными надписями и б…словными укоризнами, противными всему Священному Писанию и святым словам Спасителя Иисуса Христа.
Сруб обложили соломой, подожгли с четырех сторон. От сильного ветра дым стелился по земле, разъедал глаза собравшимся. Вот из объятого пламенем сруба послышался чей-то истошный вопль. Разобрать голос было нельзя, но никто не сомневался в том, что это не Аввакум.
* * *
Царица Агафья Семеновна и двух лет не процарствовала, умерла зимой, через три дня после родов. Новорожденный царевич, нареченный Ильей, пережил мать на две недели. Таким образом дело о вселении Грушецких в Преображенский дворец затухло само собой, не успев перерасти в серьезную ссору Натальи Кирилловны с Языковым.
Федор Алексеевич от горя слег окончательно. Истаявший, беспомощный, он не покидал опочивальни, проводя дни в молитве и благочестивых беседах с духовником и патриархом. Во время молебнов и чтения Псалтири царь то и дело просил перекрестить его, так как сам не имел сил сделать лишнее движение рукой. Сидевшая у царского изголовья Софья кусала губы: неужели так скоро? Ведь Федору еще нет и двадцати!.. Озабоченность читалась и на лицах ближних бояр.
Раздумывали все, действовал один Языков. Гадать о своем будущем ему не приходилось: воцарение Ивана означало победу Софьи и Милославского и сулило первому постельничему путешествие подалее Пустозерска. Языков решил сблизиться с Нарышкиными – благо застарелой вражды между ними не было – и содействовать избранию в цари Петра.
Он двигался к цели как обычно – неуклонно, но исподволь и постепенно. Расслабленность Федора Алексеевича не позволяла надеяться на здоровое потомство в новом браке, однако Языков сосватал полумертвому царю девицу Марфу Матвеевну из никому прежде не известного рода Апраксиных. Новая царица была крестницей Артамона Сергеевича Матвеева; тем самым Языков как бы протягивал руку Нарышкиным через голову Софьи и Милославского.
Свадьбу справили перед началом Великого поста, скромно, без торжеств и пиров. Жениха принесли в церковь для венчания в кресле. Федор Алексеевич едва держал голову, стыдливо прятал под тяжелым, обильно украшенным драгоценными каменьями парчовым платьем свои неимоверно распухшие ноги. К концу службы он впал в забытье; его осторожно разбудили только тогда, когда патриарх стал задавать молодым положенные по обряду вопросы.
Эти перемены во дворце и были причиной перевода Матвеева из Пустозерска в Мезень, а затем еще ближе к Москве – в Лух. Одновременно в столицу вернули опальных Нарышкиных. Большинство бояр в Думе легко приняло возвращение бывших заправил. Сошлись на том, что хотя Матвеев и перебивал когда-то дорогу Милославскому и Хитрово, но вообще людей знатных почитал как должно; никто не мог припомнить от него какой-нибудь обиды. Зато в голос возмущались поведением двадцатитрехлетнего брата Натальи Кирилловны, Ивана, который открыто давал понять, что собирается вскоре играть первую роль.
Наталья Кирилловна стала чаще бывать в Кремле. Петру в кремлевских палатах не нравилось, тянуло назад в Преображенское, к потешным. Однажды в конце зимы Языков с любезной улыбкой сообщил Наталье Кирилловне, что распорядился соорудить в Кремле для царевича потешный двор на манер Преображенского. Она поблагодарила, подозвала сына, сообщила новость. Обрадованный, Петр немедленно пожелал видеть место будущей крепости, подробно объяснил Языкову, какими должны быть рвы, валы, стены.
В конце апреля, когда вместе с лазурным небом в Яузе отразилась зеленоватая, едва заметная глазу дымка Преображенских садов, к Наталье Кирилловне примчался гонец из Кремля с известием о кончине Федора Алексеевича.
Спустя час ее карета въехала в Спасские ворота. Кремль был запружен толпой народа, который, увидев в каретном окошке Петра, с любопытством выглядывавшего из-за занавески, громко приветствовал его. Наталья Кирилловна задернула окошко и привлекла сына к себе, прижав его голову к груди. Петр с удивлением почувствовал, как сильно бьется ее сердце.
В царской опочивальне тоже было тесно. Бояре плотным кольцом окружали кровать, на которой лежало тело Федора Алексеевича, богато обряженное для прощания, со всеми знаками царского достоинства – венцом, бармами, державой и скипетром. В изголовье кровати стояла Софья – высоко подняв голову, надменно обводя собравшихся черными, с сухим острым блеском глазами. Рядом с ней подслеповатый царевич Иван вытягивал подбородок, беспомощно озираясь по сторонам. Напротив них, у самой стены, почти невидимая за откинутым пологом, заплаканная Марфа Матвеевна прятала за рукавом свое красивое глупенькое личико.
Увидев вошедших Наталью Кирилловну с сыном, Языков и молодой князь Михаил Юрьевич Долгорукий призвали бояр расступиться, взяли Петра под руки и повели к кровати. Стиснутый ими с обеих сторон, Петр с недоумением почувствовал под кафтаном Языкова что-то твердое. Он несколько раз толкнул первого постельничего локтем в бок, проверяя свою догадку. Панцирь? Зачем?
Высокая царская кровать доходила ему почти до груди. Петр с любопытством посмотрел на осунувшийся профиль крестного, даже привстал на носки, чтобы лучше видеть. В эту минуту он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись налево, он встретился глазами с Софьей. Петру стало как-то не по себе. Чего она так странно на него смотрит, словно он наступил ей на ногу? С непонятным облегчением ощутил он на своих плечах руки матери, подошедшей к нему сзади.
Патриарх Иоаким, стоявший у царского ложа возле Марфы Матвеевны, выступил вперед, поставил царевичей рядом, перед собой. Они стояли, не зная, куда деть руки, смущенно оглядывались. Поклонившись царевичам, патриарх вопросил: как они думают, кто из них теперь, после кончины блаженного государя Федора Алексеевича, должен восприять скипетр и державу. Все притихли, ожидая, что скажут царевичи. Первым заговорил Иван.
Он думает, что брату его, Петру, быть на престоле сподручнее, поскольку у него жива мать, царица Наталья Кирилловна.
После слов Ивана в спальне поднялся гул. Слышались рассудительные голоса о том, что такое дело надобно решать Земским собором. Но их заглушали злобные крики сторонников Милославского: да чего тут решать, царевич Иван старший – ему и царствовать! Царевич Иван скорбен главою, царствовать не может, возражали их противники. В перепалку вступил Языков, примирительно повысив голос. Бояре сами видят, царевич Иван своей волей не хочет царствовать; а время не терпит, им всем без царя долго быть нельзя. Если уж решили выбирать царя, то вон – у дворца вся Москва собралась, всех чинов люди. Пускай владыка выйдет и спросит их: кого желают на царство?
Большинство бояр согласилось с ним. Духовные власти и думные люди вышли на Красное крыльцо. Патриарх спустился к народу, который скопился на площади у церкви Спаса за Золотой решеткой.
– Кому быть преемником усопшего царя? – вопросил он. – Петру Алексеевичу или Иоанну Алексеевичу? Или обоим вместе царствовать? Объявите единодушным согласием намерение свое перед всем ликом святительским, и синклитом царским, и всеми чиновными людьми!
– Хотим Петра Алексеевича! – завопили в толпе.
Несколько голосов слабо выкрикнули Ивана, но их тут же замяли, заглушили. Языков, Долгорукие, Голицыны, Стрешневы, улыбаясь, переглядывались.
– Петра на царство! Да здравствует государь Петр Алексеевич! – ревела теперь уже вся площадь.
Патриарх вернулся к боярам:
– Что скажете, думные?
– Быть по сему, – ответили они.
Сразу же приступили к присяге. Петра отвели в Грановитую палату и посадили на трон. Первыми присягали члены царской семьи, за ними остальные придворные. После слов присяги каждого допускали к царской руке. Когда к трону подошла Софья и нагнулась для поцелуя, Петр едва не отдернул руку, – ему показалось, что царевна укусит ее.
К концу церемонии его руки, исколотые колючими боярскими бородами и усами, неприятно горели, пощипывали. Но Петр не обращал на это внимания. Он вдруг понял: ему не надо больше никого ни о чем просить, вся Оружейная палата в его распоряжении. Теперь он устроит такой штурм потешного городка, такой штурм!.. С пушками, с настоящим огнестрельным снарядом! Петр нетерпеливо ерзал на троне, хмурился на прискучивших брюхатых бородачей, невозмутимо продолжавших степенное мучительство.
На другой день состоялись похороны. Стольники внесли в Успенский собор роскошно убранные коврами сани с телом Федора Алексеевича, поставили на каменные плиты, в центре. В других санях принесли вдовую царицу Марфу Матвеевну, покрытую траурным покрывалом. Народ был удивлен приходом в собор, вопреки обычаю, царевны Софьи, которая с громким плачем встала возле останков брата.
Наталья Кирилловна не стала притворяться, ушла вместе с Петром, не дожидаясь отпевания. Вслед за ней, гордо неся голову, удалился Иван Кириллович Нарышкин. Софья сквозь слезы выкрикнула вдогонку упрек: хорош братец, не может дождаться конца погребения!
– Дитя долго не ело, устало стоять, – равнодушно ответила Наталья Кирилловна, а Иван Кириллович, не поворачивая головы, бросил:
– Кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер, жив.
Софья завыла громче, перекрывая причитания черниц-плакальщиц. В народе сочувственно-уважительно зашептались: эк убивается, лебедь белая… Любила, значит, брата, государя царя.
Еще громче забурлила толпа, когда Софья, выйдя из Успенского собора, чтобы проводить тело Федора Алексеевича в Архангельский собор, в царскую усыпальницу, заголосила на весь белый свет:
– Извели нашего любезного брата злые люди, остались мы круглыми сиротами, нет у нас ни батюшки, ни матушки, никакого заступника!.. Брата нашего, Ивана Алексеевича, на царство не выбрали… Сжальтесь, православные, над нами, сиротами! Если в чем мы перед вами провинились, то отпустите нас живых в чужие земли к королям христианским…
Москвичи недоумевали, спрашивали друг друга: что такое говорит царевна? Тут же нашлись знающие люди, которые охотно объясняли: не своей смертью умер государь Федор Алексеевич, виданное ли дело – в двадцать-то лет!.. Отравлен злыми людьми. – Это, к примеру, кем же? – Известно кем, доктором своим – Стефаном-жидом и изменниками боярами, а коноводят ими Нарышкины. Видели небось, как Иван Кириллович заносится, не дал царице Наталье Кирилловне с государем и службу дослушать. Сам метит в цари, козья борода, как бы не сделал чего худого молодому царю Петру Алексеевичу… В толпе испуганно ахали, крестились.
В последующие два дня царский дворец разделился на две враждующие половины. В палатах Натальи Кирилловны царило оживленное веселье. Были посланы гонцы за Матвеевым и другими приверженцами Нарышкиных, сосланными при Федоре Алексеевиче. Щедро раздавали чины, награды. Иван Кириллович Нарышкин, несмотря на молодость лет, был пожалован в думные бояре. Он сразу сел в Думе на первое место, вызвав негодование и ропот стариков. Думные сидения проходили в пререкательствах и спорах о старшинстве, дела были заброшены.
Шумели и на половине Софьи, но больше по-пустому: злобились, ругали Нарышкиных, жаловались на судьбу. Милославский, Хованский, Толстые ходили как в воду опущенные; Софья на людях крепилась, но у себя в опочивальне давала волю слезам, металась без сна на кровати. Голицын не появлялся, сидел в своем дворце, читая римских классиков. Она не посылала за ним. Незачем. Поздно. Растравляя себе сердце, вспоминала его белокурые локоны, красивые холеные руки, мысленно впивалась губами в маленький, плотно сомкнутый рот…
На третий день заволновались стрельцы. Подали в Стрелецкий приказ челобитную на девятерых полковников, что-де они выстроили себе на их, стрелецкие, сборные деньги загородные дома, посылают стрелецких жен и детей в свои деревни пруды копать, плотины и мельницы делать, сено косить, дрова сечь, а самих стрельцов употребляют во всякие свои непотребные работы, даже отходы чистить, принуждают побоями, батожьем покупать на собственный счет цветные кафтаны с золотыми нашивками, бархатные шапки и желтые сапоги, вычитают из государского жалованья многие деньги и хлебные запасы.
Языков приказал стрелецкого посыльного, который принес челобитную, выдрать принародно кнутом для острастки, а учинителям мятежа пригрозил казнью. Хмуро смотрели стрельцы, как их товарища распластали на доске, связав руки. Палач засучил рукава, ловко положил ему кнутом на спину первую кровавую полосу.
– Братцы! – истошным голосом завопил стрелец.
Ведь по вашему общему решению носил я челобитную в приказ, за что же выдаете меня на лютую муку?
Стрельцы как очнулись – отбили товарища; палача чуть не кончили на месте. Тут же всей толпой повалили на двор к начальнику Стрелецкого приказа князю Юрию Алексеевичу Долгорукому. Старый князь лежал разбитый параличом; вместо него вышел его сын, князь Михаил Юрьевич.
– Чего надо? – грозно спросил он стрельцов.
Но те не оробели, как прежде бывало. Хватит, накомандовался, теперь пускай их послушает.
– Выдай нам головой полковников, которых мы в челобитной указали! – кричали стрельцы. Выдай деньги, что ими у нас вычтены! Не сделаешь по-нашему, сами тех изменников перебьем и дворы их разграбим!
Князь Михаил Юрьевич растерялся, обещал сказать об их требованиях государю и Думе. Стрельцы ушли, грозя добраться и до других изменников, которые обманывают государя.
Бояре призадумались. Кроме стрельцов, другой военной силы в Москве нет, – как тут усмирить буянов? Попросили стрелецкого голову князя Хованского пойти образумить подчиненных. Князь развел руками. Что он может сделать? Не слушают стрельцы своих начальных. Бояре еще покряхтели, почесали бороды и послали объявить стрельцам, что государь, вняв их челобитной, решил посадить полковников под караул в Рейтарский приказ, а вины их приказал расследовать. Стрельцы стояли на своем: или выдадут им полковников головой, или быть великому мятежу. Видя их упорство, патриарх разослал по слободам епископов и архиереев с увещевательным словом. До вечера ходили они по стрелецким кругам, убеждая положиться на государево правосудие. Наконец стрельцы согласились, чтобы с виновных было взыскано по государеву розыску, но в их присутствии.
Наутро полковников поволокли на правеж. Много палок было переломано о полковничьи спины. Стрельцы толпились вокруг наказуемых, громко перечисляя их преступления. Истязание прекращалось только по их крику: довольно! Несколько дней полковников держали на правеже часа по два, иных и дольше; уносили назад в Рейтарский приказ полумертвых, под свист и улюлюканье.
Осмелели стрельцы, воля, как хмель, ударила им в головы. Целыми днями толпились у своих съезжих изб пьяные, непокорные. Сотников и приставов, которые пытались навести порядок, втаскивали на каланчи, метали вниз. «Любо ли?» – кричали сверху товарищам. Те смеялись: «Любо, любо!» Князя Михаила Долгорукого, просившего прекратить бесчинства, не стали слушать, прогнали камнями и бранью.
В один из этих дней к Софье пришли Милославский с Хованским. Выгнали из комнаты боярынь и карлиц, плотно затворили дверь. Милославский заговорил вполголоса, едва сдерживая радостное возбуждение. Сам Бог посылает им орудие против Нарышкиных. Стрелецкий мятеж разрастается. Самое время направить его в нужное русло. Князь Иван Андреевич берется склонить стрельцов на сторону царевича Ивана. И у него, Милославского, в стрелецких полках есть верные люди – капитаны Цыклер, Озеров, Одинцов, Петров, Чермный. Пусть царевна даст добро, они готовы послужить ей и царевичу. Хованский подтвердил: за успех он ручается. Ему, потомку Гедиминовичей, нет больше сил сносить надругательства всяких Матвеевых, Языковых, Нарышкиных, Апраксиных. Хватит, надоело! Всем им надо указать их место. Сам он готов хоть завтра сложить голову за законного царя Ивана Алексеевича. Но нужно ее слово, им с Милославским самим начинать такое дело непристойно.
Софья слушала их с бьющимся сердцем. Вот, значит, какие голуби принесли ей масличную ветвь! Точно ли Бог ее послал или дьявол искушает? Впрочем, все равно, другого такого случая не будет… Ради него, друга милого, берет грех на душу.
Они еще долго шептались, обсуждая детали. Затем перешли к составлению списка намеченных жертв. Хованский сел за стол, придвинул лист бумаги. Обмакнув перо в чернила, спросил, кого первым писать – Языкова или Ивашку Нарышкина?
– Матвеева, кого же еще! – выпалил Милославский. – Без него Нарышкиным и трех дней не усидеть во дворце. Вот приедет, с него и начнем!
Они морщили лбы, вспоминая врагов, стараясь никого не упустить. Насчитали сорок шесть человек. Софья не возражала, не противилась. Голова у нее горела. Много крови, тяжело, Господи, душно… Но уж чтобы раз и навсегда…
* * *
Матвеев возвращался в Москву. Ехал в посланной за ним от имени государя роскошной карете, запряженной шестериком. Все было по-прежнему, все вернулось к нему: и боярское достоинство, и имение, и деньги, и почет, и власть; вот только прожитых годов не вернуть царским указом – ну да что там, побренчим и тем, что в мошне осталось…
Налетали короткие, бурные грозы; капли дождя весело барабанили по крыше, стеклам кареты. Воздух благоухал цветущей сиренью, придорожные деревни утопали в белой кипени. Блаженно разомлев под лучами нежаркого майского солнца, Артамон Сергеевич лениво следил глазами за проплывавшими мимо деревьями, полями; дремал. В Троице-Сергиевой лавре его ожидала почетная встреча. Архимандрит с братией, бояре и окольничие, присланные из Москвы, встретили его у ворот с крестами, иконами, хоругвями, поднесли хлеб-соль. После торжественного молебна к нему подошли семеро стрельцов с предупреждением, что в Москве затевается недоброе: князь Хованский подбивает стрельцов против Нарышкиных, в слободах сеются подозрительные слухи об отравлении Федора Алексеевича, в полках ходит по рукам какой-то список, где фамилия Матвеева стоит на первом месте. Все семеро были старики – из тех, кто помнил времена, когда Артамон Сергеевич был у стрельцов любимым начальником. Теперь они просили его поостеречься, обождать, не соваться в самое пекло. Выслушав их, Матвеев ушел в палаты, отведенные ему в доме архимандрита. Походил из угла в угол, теребя бородку, и велел закладывать карету. Уехал, не дожидаясь начала трапезы.
Поздним вечером, усталый и разбитый тряской, он въехал на свой московский двор. Разоренный и ограбленный дом был безлюден. Со свечой в руке Матвеев побродил по комнатам, всюду встречая следы разгрома: драные обои, клоками свисавшие со стен, какое-то пыльное тряпье, валявшееся на полу, черепки посуды, разломанную мебель. С тяжелым сердцем лег спать внизу на охапке соломы, но заснуть не мог, ворочался, потом встал и до рассвета просидел читал над свечой. Все она, бессонница, наказание Господне. Воистину юноша гонит сон прочь, как досадную помеху, а старец призывает его, как благословение.
А. С. Матвеев. Художник И. Фоллевенс, конец XVII века
Наутро Артамон Сергеевич отправился во дворец. Наталья Кирилловна сияла. Наконец-то! Теперь все устроится с Божьей помощью. Объятиям и радостным слезам не было конца. Петр, плохо помнивший Матвеева, сразу проникся симпатией к ссохшемуся старику с умными глазами и изжелта-восковой бородкой, неуловимо похожему на кого-то из святых в иконостасе придворной церкви. Это чувство окрепло в нем еще больше, когда Матвеев протянул ему переводную «Книгу о ратной пехотной мудрости» с рисунками холодного и огнестрельного оружия, с изображением приемов рукохватания мушкетного и копейного, с планами передвижения военного строя. Это как раз то, что надо! В знак благодарности Петр пригласил Матвеева присутствовать на больших потешных играх, которые намеревался устроить на днях.
После приема в царских палатах Артамон Сергеевич побывал у патриарха и долго беседовал с ним во внутренней келии, навестил старого приятеля князя Юрия Алексеевича Долгорукого. В последующие дни вся знать перебывала у него в доме. Старики стрельцы прислали ему камни с отеческих могил на постройку нового дома. Вернулись распущенные холопы. Гостинцы и подношения приносили Матвееву в таком количестве, что их вскоре стало некуда складывать. Артамон Сергеевич не растерял в Пустозерске и Мезени ничего от прежней своей придворной ловкости, умел принять каждого с подобающей честью, приветить ласковым словом. Бояре разъезжались довольные приемом, уверенные, что старик укротит и стрельцов, и Нарышкиных. Прослышав, что Матвеев собирается натянуть узду, многие стрелецкие полки прислали выборных с хлебом-солью и с просьбой о заступничестве у государя, поскольку их заслуги ему, Матвееву, лучше других бояр известны.
Не побывал в матвеевском доме один Милославский, сказавшись больным. Лежал, потея, в горячих отрубях, обложенный кирпичами, кипятил заговор. По ночам тайно принимал мятежных стрелецких капитанов, давал указания, снабжал новыми слухами. Капитаны и их люди ходили по слободам, собирали стрельцов в круг, разглашали за верное, что Иван Нарышкин с Матвеевым решили зачинщиков беспорядков казнить, а стрельцов с семьями разослать по городам.