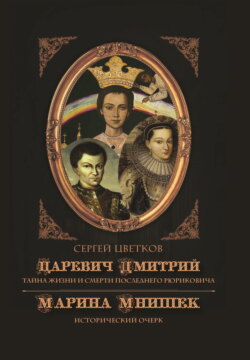Читать книгу Царевич Дмитрий. Тайна жизни и смерти последнего Рюриковича. Марина Мнишек: исторический очерк - Сергей Цветков - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Царевич Дмитрий. Тайна жизни и смерти последнего Рюриковича
Часть первая
Спасенный царевич
II. Угличский царевич
ОглавлениеУглич стоит на Волге, на обоих берегах. В XVI веке места здесь были пустынные, дикие. Вокруг – непролазные дебри, топи, заводи в ольхе и тростниках, столетние сосны и ели, валуны, вросшие в мох. Тонким голосом поет невидимый гнус, лоси и вепри с трудом продираются сквозь колтуны еловых ветвей. Для разбоя лучшего места не найти. Для спасения души тоже. Раньше, пока казанцев не усмирили, от татар житья не было. Казаки, поднимавшиеся по Волге на лодках, также своего не упускали, даром, что православные. После присоединения Казани на реке стало спокойно, миряне богатели торговлей, за городом множились тихие обители.
Сами угличане были не прочь потягаться древностью с Ростовом Великим: собственная угличская летопись сохранила предание о жившем здесь некоем Яне, приходившемся княгине Ольге не то братом, не то более дальней родней. По его имени и город долгое время носил название Яново поле, а потом стал называться Угличе поле – якобы от угла, который образует здесь Волга, круто поворачивая с севера на запад.
Углич – город самостоятельный. Все здесь свое – своя летопись, свой святой, свои князья. Последний удельный город в Московском государстве. Угличане привыкли, что ими владеют великие князья, братья московских государей. За своего господина стояли крепко, не щадя живота. Еще не так давно покушались вызволить из неволи Ивана и Дмитрия Андреевичей, племянников Ивана III Васильевича, которых он заточил в монастыре. Тогда государь в гневе рассеял многих угличан по другим городам. С тех пор Углич жил мирно. Последним угличским князем был Юрий Васильевич, брат грозного царя, поэтому опричный разгром и опалы город счастливо миновали.
Нового князя угличане приняли с радостью. Уже издали Мария увидела вышедшую из города навстречу поезду нарядную толпу горожан, духовенство, кресты, хоругви. Священнослужители говорили приветственные речи. Народ ликовал и падал ниц перед царской каретой.
В Преображенском соборе она долго молилась у гроба с мощами святого князя Романа Угличского. Потом поехала во дворец. Бродила по холодным, пустым каменным палатам, подыскивая, в какой комнате остановиться. Наконец выбрала самые дальние покои и уединилась в них с Дмитрием.
Тело Ивана Васильевича похоронили в Архангельском соборе рядом с могилой его старшего сына. Москвичи долго не могли свыкнуться с мыслью, что грозного царя нет в живых. Проходившие мимо собора люди крестились и молились, чтобы он как-нибудь не воскрес.
Как Годунов не спешил с венчанием Федора, церемонию пришлось отложить ради шестинедельного моления об усопшем государе. По истечении этого срока именитые мужи, съехавшиеся в Москву изо всех городов, от имени всей земли подали Федору челобитную и просили быть царем. Федор дал согласие. Венчание состоялось 31 мая.
На рассвете этого дня над Москвой разразилась ужасная буря. Ветер срывал крыши домов, по небу растекались белые струи молний, раскаты грома гремели, не умолкая, как будто по небесной тверди из конца в конец катался какой-то огромный, грохочущий шар; проливной дождь в считанные минуты затопил улицы. Народ воспринял непогоду, как предзнаменование грядущих бедствий, и даже когда буря утихла, боялся покидать свои дома. Но ближе к полудню небо прояснилось, и по звону колоколов бесчисленные толпы отовсюду начали стекаться к Кремлю. Было так тесно, что стрельцы едва смогли расчистить путь для духовника Федора, который вышел из царских палат, чтобы перенести в Успенский собор Мономахову святыню: животворящий крест, венец и бармы. Годунов, величественно вышагивавший за духовником со скипетром в вытянутых руках, был великолепен в своем вышитом золотом одеянии, сиявшем алмазами, яхонтами и жемчугом необыкновенных размеров. Это был и его день.
Но вот на дворцовом крыльце появился Федор, окруженный боярами, князьями, воеводами, архиереями, дьяками. Огромное людское море мгновенно затихло, с благоговением разглядывая государя. На Федоре было платье небесно-голубого цвета; одежды сопровождавших его вельмож были золотые, с красными и серебряными оттенками. В полной тишине царь нетвердой походкой прошел в переполненный собор. Во время молебна окольничие и епископы ходили по храму и тихо приказывали народу благоговеть и молиться. Затем митрополит Дионисий приступил к обряду венчания. Возложив на Федора Мономахов крест, венец и бармы, он взял его за руку, поставил на особое, царское место и вручил длинный скипетр из китового зуба. Архидиакон на амвоне, священники в алтаре и хор на клиросе торжественно и звучно провозгласили царю многие лета.
Федор выглядел немного испуганным, растерянно улыбался. К концу краткой напутственной речи митрополита Дионисия он выглядел уже настолько утомленным, что его поспешили усадить на трон, поставленный на амвоне. Во время литургии Федор смотрел бессмысленным взглядом на короны завоеванных Москвой царств, по обычаю лежавшие у подножия трона, и то и дело поворачивался к стоявшим у него за спиной Годунову и Никите Романовичу, словно вопрошая их, когда его наконец оставят в покое.
Пиры, принятие присяги, целование царской руки, раздача должностей, привилегий и милостыни – все это продолжалось целую неделю. Торжества закончились на восьмой день за городом – на просторном лугу, где сто семьдесят медных пушек палили в честь государя несколько часов подряд.
После праздников дворец погрузился в благостную, ничем не возмущаемую тишину. Природа словно погасила в Федоре все страсти, бушевавшие в неистовой натуре его отца. На опухлом лице царя все время играла ласковая, но жалкая улыбка; фамильный ястребиный нос не в силах был придать его лицу наследственное выражение свирепой жестокости, столь характерное для его отца и старшего брата. Да и вообще, в отличие от них, жизнь Федора представляла собой нравственно – бытовой образец жизни древнерусского государя. Обыкновенно Федор вставал в четыре часа утра; неспешно одевался. Посылал за духовником, который являлся с большим крестом и с иконой святого, память которого праздновалась в тот день по святцам. Федор сейчас же становился на молитву перед принесенной иконой, а духовник выходил и возвращался через четверть часа с чашей святой воды и кропилом.
Окончив молитву, царь шел к супруге, Ирине Федоровне. Вместе с ней стоял на заутрене. Потом принимал окольничих и духовных. К девяти часам начинал ерзать на троне, с нетерпением ожидая, когда можно будет пойти звонить к обедне (это было одно из любимейших занятий Федора; Иван Васильевич при жизни с горечью говорил, что он больше похож на пономарского, чем на царского сына). В церкви думные бояре шумно спорили о государственных делах, замолкая на время, чтобы справиться о мнении государя. Федор ласково смотрел на них. Молчал. Перебирал четки. Суетные люди! Все как-нибудь устроится Божиим судом.
В одиннадцать царь обедал, строго соблюдая постные дни. После обеда два-три часа спал. Слушал вечерню. Перед сном снова виделся с Ириной. Ему нравился ее смех, нравилось, что она, будучи умнее его, хохотала вместе с ним над балагурством шутом и кувырканьем карликов. Он любил показывать и дарить ей иконы в роскошных окладах, изделия своих золотых и серебряных дел мастеров. В эти минуты она без труда добивалась от него распоряжений, выгодных ее брату, Борису.
По большим праздникам Федор уступал просьбам придворных и присутствовал на кулачных боях или играх с медведями. Эти развлечения были ему противны. Торжество грубой силы заставляло его острее чувствовать свою немощность. Он вздрагивал всем телом от ударов бойцов, рева зверей; улыбка сходила с его губ, тело болезненно напрягалось.
Иностранцы, видевшие нового московского государя, не стесняясь говорили, что он весьма скуден умом или даже вовсе лишен рассудка. А по Руси распространялась молва: Господне благоволение над нами; правит государством благоюродивый самодержец Федор Иванович. Освятованный царь!
Платон, изгнавший из своего идеального государства поэтов и актеров, советовал его будущим правителям отвечать тем, кто будет спрашивать, почему в их государстве нет трагедии: «Наше государство и есть лучшая трагедия». Россия – государство далеко не идеальное, однако история не раз выбирала ее в качестве гигантских подмостков для своих трагедий. Во время четырнадцатилетнего царствования Федора внешне все, казалось, обстояло благополучно. Иностранцы, помнившие кровавое правление Грозного, дивились теперь, что Московия будто стала другой страной, обрела новое лицо. Каждый человек, писали они, живет мирно, уверенный в своем месте и в том, что ему принадлежит; везде торжествует справедливость. Но история исподволь уже воздвигала декорации для будущей трагедии, умело выбирала актеров на ведущие роли и устраняла второстепенные фигуры.
Первое время после смерти Ивана Васильевича в опекунском совете установилось равновесие сил. Годунов скромно сидел на четвертом место; первое по старшинству занял Никита Романович, за которого горой стояли москвичи и братья Щелкаловы, Андрей и Василий Яковлевичи, влиятельные дьяки посольского и разрядного приказов. Двое других опекунов, родовитые и бессильные, осторожно искали союзников в Кремле и за его стенами. Федор Иванович Мстиславский, делавший вид, что доволен и тем, что с ним хотя бы советуются, втихомолку подбивал к возмущению бояр; Иван Петрович Шуйский, имевший вес, как защитник веры и отечества, в среде московского купечества и духовенства, толковал с ними о похищении царских прав безродным татарином (Годуновым) и горевал об унижении Рюриковичей.
Но вскоре старого Никиту Романовича разбил паралич. Мстиславский и Шуйский распрямились, стали возвышать голос в совете. Годунов затаился, стараясь угадать, с какой стороны будет нанесен удар. Неожиданную помощь ему оказали дьяки Щелкаловы. Если верить нашим летописцам, Борис и братья дали друг другу «клятву крестоклятвенную», чтобы всем троим согласно искать «к царствию утверждения», то есть преобладания в правительстве. Старший Щелкалов был не прочь, кажется, поучить Бориса уму-разуму: вызвался быть для него «наставником и учителем» в житейской науке, «как перейти ему от нижайших на высокие и от малых на великие и от меньших на большие и одолевать благородных». Дети опричнины сплачивались против родовой знати.
Первым пал Мстиславский. Его обвинили в том, что он хотел убить царского шурина, заманив его к себе на пир. Неизвестно, заходил ли Мстиславский в своих планах свержения Годунова так далеко – все-таки он приходился Борису названным отцом! Может быть, обвинение против него было ложным, полученным хорошо известным в Московской Руси способом. В разрядный приказ вдруг приходило несколько дворовых людей неугодного царю боярина и давали против него показания. Хорошие, ценные показания. Этого было достаточно для опалы. Как бы то ни было, в 1585 году Мстиславского постригли и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. Чтобы расправа не выглядела огульным гонением на знатный род, место Мстиславского в думе сохранили за его сыном Федором Ивановичем.
Затем Годунов и Щелкаловы вспомнили об одной особе, которую ввиду бездетности Федора следовало как можно скорее вырвать из рук воинственного Батория. Поразмыслив, Борис вызвал к себе Джерома Горсея. Управляющий московской конторы Английской торговой компании по просьбе думы на днях должен был отправиться в Лондон, чтобы объявить королеве Елизавете о воцарении Федора. На вопрос Годунова, не возьмёт ли он на себя еще одно, тайное и чрезвычайно важное поручение, Горсей любезно ответил, что всегда рад услужить лорду-протектору.
В Риге жила женщина, носившая громкий титул королевы Ливонии. Это была Мария Владимировна, одна из двух дочерей князя Владимира Старицкого, брата Ивана Васильевича. После казни князя Старицкого, царь надолго забыл о своей племяннице и вспомнил о ней, когда начал Ливонскую войну. В то время он мечтал создать вассальное Ливонское королевство, возложив его корону на датского принца Магнуса, во что бы то ни стало желавшего поцарствовать, все равно где. Чтобы обеспечить верность принца, Иван Васильевич заставил его жениться на русской княжне. Поскольку Магнус был протестант, царь придумал особую форму бракосочетания: перед алтарем обряд венчания над невестой совершал православный священник; пастор делал свое дело в дверях храма. Таким образом, молодые венчались, стоя врозь друг от друга, зато святыня храма не была осквернена еретиками.
Марии Владимировне едва минуло 13 лет. Вся дальнейшая ее жизнь была чередой лишений и испытаний. Царь обещал Магнусу дать за невестой кучи золота и серебра, но прислал лишь рухлядь и платья. Супруга сразу опостылела принцу. Он переметнулся к Баторию, который также оказался щедр лишь на обещания. Так и не примерив ливонской короны, Магнус умер в то время, когда Ливония, разоряемая со всех сторон, стала добычей Батория. Король назначил Марии Владимировне и ее 9–летней дочери Евдокии скромную пенсию и отослал их в Ригу под надзор кардинала Радзивилла, большого охотника до общества молодых ливонок. Баторий надеялся разыграть эту карту в том случае, если Федор умрет бездетным.
Однажды вечером, когда Мария Владимировна готовила дочь ко сну, расчесывая ей волосы, в ее комнату вошел незнакомый бородач в английском камзоле. Это был Горсей, без труда получивший от Радзивилла разрешение повидать пленницу. Он попросил позволения поговорить с ней наедине. Мария Владимировна с удивлением ответила, что не знает его, но все же отошла с ним к окну. Горсей под большим секретом сообщил ей, что царь Федор Иванович, узнав, в какой нужде она живет, просит ее вернуться в родную страну и занять там достойное положение в соответствии с ее царским происхождением и что лорд-протектор Борис Федорович Годунов, в свою очередь, также изъявляет свою готовность служить ей. Мария Владимировна выразила опасение, что в Москве с ней поступят так же, как с другими вдовами: разлучат с дочерью и постригут в монастырь.
– Но вы не простая вдова, а кроме того, время изменило этот обычай: теперь те, кто имеет детей, не принуждаются к пострижению, а остаются растить и воспитывать их, – заверил ее Горсей.
Страстное желание обрести свободу заглушило в несчастной ливонской королеве голос благоразумия, она ответила согласием. В тот же день в Москву поскакал гонец, везя в подкладке кафтана письмо Горсея с отчетом о выполнении поручения.
Получив согласие Марии Владимировны на возвращение, Годунов добился от польского сейма ее выдачи. Почтовые лошади, заготовленные на всем пути от Нарвы до Москвы, в считанные дни доставили королеву с дочерью на родину. Годунов принял их, как обещал, с почестями. Наделил вотчинами, деньгами, сулил молодой вдове в скором времени знатного жениха.
Между тем на границах все как-то устраивалось само собой. Немощный Федор благополучно царствовал, его грозные враги умирали. Непобедимый Делагарди утонул в Нарове; обескураженные шведы подписали перемирие на четыре года без всяких условий. А в декабре 1586 года с литовской границы пришло известие еще более поразительное: воеводы писали, что в Польше толкуют о кончине Стефана Батория. В Варшаву отправился дворянин Елизар Ржевский, который должен был, в случае если слух о смерти Батория подтвердится, предложить полякам в короли Федора. Ржевский сообщил в Москву, что Баторий действительно умер и что паны, съехавшись на сейм, как на войну, выбирают нового короля: сторонники Зборовских хотят австрийского принца Максимилиана; гетман Ян Замойский, соратник покойного Стефана, прочит на престол шведского принца Сигизмунда, чтобы в союзе со Швецией дальше воевать Москву; третьи, среди которых большинство составляют литовские паны, стоят за Федора, но жалуются, что московский государь пишет к ним холодно и не шлет денег, как другие претенденты.
В Польшу срочно выехало другое посольство: Степан Васильевич Годунов, князь Федор Троекуров и дьяк Василий Щелкалов. Послы должны были от имени Федора обещать панам защиту их старых вольностей и дарование новых, раздачу земель и денег, невмешательство царя во внутренние дела Речи Посполитой. В особой статье письменного наказа послам говорилось: «Если паны упомянут о юном брате государевом, то изъяснить им, что он младенец, не может быть у них на престоле и должен воспитываться в своем отечестве». Так от головы Дмитрия заботливо отстраняли и вторую корону, на этот раз польско-литовскую.
Выборы короля происходили в поле, на котором было выставлено три знамени: на австрийском была изображена немецкая шляпа, на шведском – сельдь, на русском – шапка Мономаха. Большинство избирателей собралось под русским знаменем. Соединение Московского государства и Речи Посполитой казалось делом решенным. Но едва дошло до условий договора панов с московским царем, начались раздоры. Федор ни за что не хотел короноваться по католическому обряду и требовал, чтобы в общем гербе нового государства корона Польши была помещена под шапкой Мономаха. «Москвитяне хотят пришить Польшу к своей державе, как рукав к кафтану!» – возмущались поляки.
Польские сторонники московского царя переметнулись к Зборовским и Замойскому. Еще можно было поправить дело денежными раздачами, но оказалось, что московские послы приехали на сейм с пустыми руками! Литовские паны требовали от них 200 тысяч рублей, потом соглашались и на 100 тысяч и, не получив ни рубля, в досаде примкнули к Замойскому. На престол Речи Посполитой сел Сигизмунд III, наследник шведского престола, ярый католик. Худшего для Москвы выбора невозможно было представить. К счастью, польско-шведский союз против России не состоялся. В протестантской Швеции не были склонны поддерживать королевича-паписта.
А в Москве назревал новый мятеж. Торговые люди, предводительствуемые знатными купцами, ежедневно приходили в Кремль и кричали, что побьют Годунова камнями, если он тронет кого-нибудь из Шуйских. В думе, слыша эти крики, волновались. Иван Петрович Шуйский, не скрывая довольной улыбки, победно смотрел в сторону Годунова, как когда-то со стен Пскова взирал на лагерь Батория. Чтобы не допустить между ними открытого столкновения, митрополит Дионисий взялся помирить врагов. Он свел их в своих кремлевских палатах и требовал клятвы жить в любви братской, искренно доброхотствовать друг другу и вместе радеть о государстве и вере. Годунов и Шуйский с умиленными лицами приложились к кресту. Затем улыбающийся Шуйский вышел к народу и объявил о состоявшемся примирении. В ответ ему раздались крики:
– Помирились вы нашими головами! Теперь и нам и вам от Бориса пропасть!
Кричавшими были двое московских купцов. Той же ночью они загадочно исчезли. Однако их предупреждение было услышано Шуйским. Несмотря на только что данную клятву, он составил хитроумный заговор против Годунова, уговорив примкнуть к нему и примирителя – митрополита Дионисия. Вдвоем они зазвали к себе купцов и служилых людей и дали им подписать челобитную, составленную как бы от имени всей земли, чтобы царь развелся с бесплодной Ириной и взял себе в жены княжну Мстиславскую, дочь постриженного князя Ивана Федоровича.
Но и Годунов не дремал. Его лазутчики и шпионы держали Шуйского под постоянным наблюдением. На челобитной еще не успели просохнуть чернила, как он уже узнал о готовящемся перевороте. Борис повел игру не менее тонко. Он встретился с митрополитом и без малейшего признака гнева стал усовещать его, что развод есть дело беззаконное, что Федор и Ирина еще молоды и могут в будущем иметь детей и что в любом случае трон не останется без наследника, поскольку у Федора есть младший брат царевич Дмитрий. (Замечательно, что Борис сам признал Дмитрия законным наследником престола; без сомнения, царевич был таковым в глазах всех русских людей.) Дионисий не нашел, что возразить и просил только не мстить заговорщикам. Борис великодушно обещал ему это. Единственной жертвой неудавшегося заговора стала княжна Мстиславская, которую постригли в монастырь.
Но через некоторое время холопы Шуйского Федор Старов с товарищами явились во дворец с доносом, будто их господин замыслил извести царя. (Формальные основания для притязаний на престол у Шуйских были: этот коренной великорусский род по родословцу стоял выше не только всех Рюриковичей, но и старейших Гедиминовичей.) Наши летописцы не сомневаются, что доносчики были подучены Борисом. Князь Иван Петрович Шуйский с братом Андреем разделили участь Мстиславского: одного услали на Белоозеро, другого в Каргополь. Их друзей, князей Татевых, Урусовых, Быкасовых, многих купцов и дворян разметали по дальним городам. Подвергся опале и митрополит Дионисий – его удалили в Хутынский монастырь. Вместо него на московский святительский престол сел ростовский архиепископ Иов, будущий первый русский патриарх, друг Бориса, во всем с ним согласный.
Из всех Шуйских опала не коснулась только князя Василия Ивановича и его брата Дмитрия. Более того, Годунов даже приблизил первого к себе, быть может, чтобы иметь возможность лучше присматривать за ним. Впрочем, Василий Иванович проявлял полную лояльность к Годунову, – по крайней мере, внешне. Все же, чтобы окончательно устранить всякую угрозу престолу со стороны этого древнейшего рода, Борис запретил Василию Ивановичу жениться и тем самым иметь законное потомство.
К 1589 году Годунов сделался всемогущ. Пользуясь вялостью царя и поддержкой сестры-царицы, он все ближе и ближе подходил к трону. Он был поочередно «конюшим», «ближним великим боярином», «наместником царств Казанского и Астраханского», пока наконец не добился титула «князь-правитель», сделавшись фактическим соправителем Федора. На приемах иностранных послов он один из всех бояр стоял у трона, а передают, что будто бы однажды его рука как бы невзначай овладела «государевым яблоком» – державой, которую улыбающийся Федор и не подумал у него оспаривать. Это стремительное возвышение объясняется не столько его честолюбием (как умный человек, он вполне удовольствовался бы ролью «серого кардинала»), сколько неумолимой логикой политического самосохранения: защищаясь, он был вынужден наносить ответные разящие удары, облекаться в броню чинов и титулов. Можно верить летописцу, повествующему о страхе и колебаниях, которые иногда охватывали его. Действительно, он как будто оказался на волшебной лестнице, – лестнице власти, ступеньки которой поочередно пропадают под ногами, вынуждая подниматься все выше и выше.
Итак, все актеры заняли свои места. Но главному герою трагедии предстояло на время исчезнуть.
Как забыть кремлевские палаты, почет, власть, свою причастность к государственным делам и к тем, кто заправляет ими? Может быть, Нагие и смирились бы с жизнью в Угличе, если бы им ежедневно не напоминали самым унизительным образом о том, что они находятся в ссылке. Правда, с самим Федором высланные остались в прекрасных отношениях: Нагие посылали ему по праздникам пироги, царь одаривал их мехами. Но дворцовым хозяйством и всеми доходами полновластно распоряжался дьяк Михаил Битяговский, приставленный опекунами для присмотра за мятежной семьей. Он не позволял Нагим израсходовать ни одной лишней копейки сверх определенного им содержания. Братья Марии Михаил и Григорий бесились, устраивали страшные перебранки со сварливым дьяком, но лишь понапрасну портили себе кровь.
Конечно, воспоминания о Москве, сожаления об утраченном престоле, злословие о Годунове составляли главную часть бесед во дворце. Дмитрий чутко прислушивался к этим разговорам, впитывая настроения взрослых. В Москве рассказывали, что играя однажды на льду с другими детьми, он велел вылепить из снега дюжину фигур и, дав им имена знатнейших бояр, принялся рубить их своей сабелькой; снеговику, изображавшему Бориса Годунова, он будто бы отсек голову, приговаривая: «Так вам будет, когда я буду царствовать!»
Уверяли также, что царевич любит муки и кровь и охотно смотрит, как режут быков и баранов, а иногда и сам пробирается на кухню, чтобы собственными руками свернуть головы цыплятам. Настоящий сын Грозного! Впрочем, многие называли эти россказни клеветой, распускаемой самим Борисом, и, напротив, утверждали, что юный царевич обладает умом и душой истинного христианского государя, благочестивого и справедливого.
Полагаю, что даже в том случае если эти слухи соответствовали действительности, они не свидетельствуют об исключительной испорченности характера юного царевича. Думается, ни при чем здесь и дурная наследственность. Мальчикам вообще свойственна жестокость – к животным и людям. Вот что, например, писал Бунин от лица героя «Жизни Арсеньева», – без сомнения, вспоминая схожий эпизод из своего детства: «Я был в детстве добр, нежен – и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом… Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием, я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь изодравшего мне руки, и зарезал с страшным удовольствием!» Наверное, не существует мужчины, который не мог бы вспомнить мух и кузнечиков с оторванными из любопытства крыльями и ножками, разрезанных червяков, кошек, брошенных в мусоропровод, забитых камнями голубей, закапанных расплавленной пластмассой лягушек – всех этих невинных и бессмысленных мучеников нашего познания добра и зла, жизни и смерти.
По единодушному свидетельству иностранных и русских писателей, кто-то два или три раза пытался отравить Дмитрия. Невозможно сказать, почему эти попытки не удались. Летописцы знают одно объяснение: «Бог не допустил». Возможно, поводом этих слухов послужили приступы рвоты у царевича – из-за недоброкачественной пищи или по какой-нибудь другой причине. Несомненно одно: царица Мария пребывала в постоянном страхе за жизнь сына. Да и могла ли она оставаться беспечной, если к 1590 году в монастырях скончались Мстиславский и Шуйский, при подозрительных обстоятельствах умерла Евдокия, дочь Марии Владимировны, а сама бывшая ливонская королева была пострижена в монахини? Молва приписывала эти смерти властолюбию Бориса, и в угличском дворце безусловно разделяли это мнение. Сам ход событий делал если пока и не самого Дмитрия, то его имя тем знаменем, вокруг которого могли сплотиться все тайные (явных уже не осталось) противники Годунова. Расстановка сил всем казалась очевидной. И не только Нагие, но и многие другие люди на Руси спрашивали себя: решится ли Борис на последний, страшный шаг?
В России сбываются только худшие ожидания. 17 мая 1591 года по Москве молнией распространилась весть: царевича Дмитрия не стало! Передавали разное: младенец оказался жертвой не то несчастного случая, не то злодеев-дьяков, которых угличане растерзали на месте преступления; имя царского шурина не сходило с языков.
Годунов почувствовал, как земля уходит из-под его ног. Неблагоприятные слухи нужно было развеять во что бы то ни стало и как можно скорее.
На следующий день в Углич выехала следственная комиссия. Годунов постарался, насколько мог, придать ей, хотя бы внешне, вид полного беспристрастия. Из четырех ее членов, трое, казалось бы, не имели оснований угождать Борису: князь Василий Иванович Шуйский принадлежал к опальной фамилии; дьяк Елизар Вылузгин исполнял свои прямые обязанности; митрополит крутицкий Геласий представлял своей особой нравственный авторитет церкви. Только один следователь, окольничий Андрей Клешнин, был напрямую связан с Борисом – его жена, княжна Волхонская, была неразлучной подругой царицы Ирины, а сам Клешнин пользовался исключительным доверием Федора и был всей душой предан Годунову.
Можно лишь догадываться, получили следователи какие-либо инструкции от Годунова, или они действовали независимо. Во всяком случае их действия показывают, что они отлично представляли, в каком направлении должно двигаться следствие в столь щекотливом для Бориса деле.
Вечером 19 мая следственная комиссия прибыла в Углич и сразу приступила к допросам. Следствие продолжалось почти две недели. Похоронив тело царевича в угличской Спасской церкви, следователи 2 июня возвратились в Москву. Дьяк Василий Щелкалов зачитал материалы дела перед государем и собором во главе с патриархом Иовом. Из показаний опрошенных складывалась довольно ясная картина происшедшего.
Царевич Дмитрий страдал падучей (эпилепсией). Припадки болезни происходили бурно: во время одного из них он покусал руки дочери Андрея Александровича Нагого, дяди царицы Марии, а в другой раз изранил свайкой – длинным, толщиной в палец гвоздем, которым царевич любил играть в тычку, – саму царицу. Чтобы исцелить ребенка, его водили к кирилловским старцам причащаться богородичным хлебом; обращались и к знахарям, но они вместо лечения навели порчу на царевича. За три дня до несчастья у Дмитрия снова был припадок. В субботу 15 мая ему стало лучше, и царица повела его к обедне, а по возвращении во дворец разрешила ему поиграть на заднем дворе, поручив его попечению мамки Василисы Волоховой, кормилицы Арины Ждановой (по мужу Тучковой) и постельницы Марии Колобовой (по мужу Самойловой). К царевичу присоединились еще четверо «жильцов» – дворовых ребят-сверстников: Петрушка Колобов, Баженка Тучков, Ивашка Красенский и Гришка Козловский. Играли опять в тычку, попадая ножиком в железное кольцо, положенное на землю. Вдруг с царевичем случился новый припадок и, падая, он глубоко ранил себя ножем в шею.
«… На царевича пришла опять черная болезнь и бросило его об землю, и тут поколол царевич сам себя в горло и било его долго, да тут его не стало» (показания Василисы Волоховой).
«… набрушился сам на нож в падучей и был еще жив» (показания Григория Федоровича Нагого).
Арина Тучкова подхватила Дмитрия на руки. На крик из дворца выбежала царица. В гневе она принялась колотить поленом мамку, не уберегшую царевича, приговаривая, что сын ее Осип Волохов вместе с сыном Битяговского Данилой и его племянником Никитой Качаловым зарезали Дмитрия; а Волохова стала бить ей челом, чтобы велела царица дать сыск праведный, потому что сын ее Осип и на дворе не бывал.
Максимка Кузнецов, случайно бывший в это время на звоннице Спаской церкви, находившейся рядом со дворцом, заметил неладное и ударил в набат. Пономарь Соборной церкви вдовый поп Федот Афанасьев по прозвищу Огурец, услышав звон, побежал со двора в город; навстречу ему попался дворцовый стряпчий Кормового двора Суббота Протопопов, который, сославшись на приказ царицы, велел звонить в колокол, «да ударил его в шею».
В городе решили, что во дворце начался пожар. Народ повалил на дворцовый двор. Первыми прибежали братья царицы, Михаил и Григорий. Мария, устав избивать Волохову, но еще не утолив своего гнева, передала полено Григорию, который продолжил охаживать нерадивую мамку по бокам. Затем явился дядя царицы Андрей Александрович Нагой. Когда на дворе начала скапливаться толпа, он взял тело царевича, отнес его в церковь Спаса и был при нем «безотступно», «чтобы кто царевичева тела не украл». В это время Мария и Михаил стали возбуждать сбежавшийся народ, крича, что царевича зарезали Битяговские, отец и сын, Осип Волохов, Никита Качалов и дьяк Данила Третьяков. Другой дядя царицы Григорий Александрович Нагой, прибывший во дворец одним из последних, услышал уже, что «царевич, сказывают, зарезан, а того не видал, кто зарезал».
Дьяк Михаил Битяговский в это время обедал у себя дома вместе с попом Богданом, духовным отцом Григория Федоровича Нагого. Когда зазвонили в колокола, дьяк послал людей проведать, не пожар ли. Они вернулись, сказав, что сытник Кирилл Моховиков, назвавшись очевидцем несчастного случая, «подал весть», что царевич зарезался.
Битяговский бросился во дворец. Ворота были закрыты, но Кирилл Моховиков отпер их ему, подтвердив, что царевича не стало. По двору метались посадские люди с рогатинами, топорами, саблями. Битяговский побежал в покои царицы – «чаял того, что царевич наверху», но, не найдя никого, спустился вниз. Здесь его заметили дворовые и посадские люди и окружили. Он спросил их: для чего они с топорами и рогатинами? Вместо ответа они стали гоняться за ним и Данилой Третьяковым, который тоже оказался во дворе. Беглецы думали спастись, запершись в Брусяной избе, но толпа «высекла двери», выволокла дьяков из избы и убила обоих. Убили также человека, который выказал сочувствие к Волоховой.
Авдотья Битяговская показала, что велели убить ее мужа братья царицы, Михаил и Григорий, раздраженные постоянными ссорами с ним: Битяговский бранился с Михаилом Нагим за то, что тот «добывает беспрестанно ведунов и ведуний к царевичу Дмитрию» и что он с братом приютили ведуна Андрюшку Мочалова, который гадает им, сколь долговечны государь и государыня.
После убийства Михаила Битяговского с Данилой Третьяковым разделались с Данилой Битяговским и Никитой Качаловым, которые укрылись в Дьячной избе: они тоже были «выволочены» и «побиты до смерти». Затем начали грабить дворы убитых.
«… А на Михайлов двор Битяговского пошли все люди миром, и Михайлов двор разграбили, и питье из погреба в бочках выпив, и бочки кололи» (показания Данилко Григорьева, дворцового конюха).
Вдову Битяговского сильно избили, а подворье разграбили «без остатку». В Дьячной избе разломали «коробейки» и украли 20 рублей государственных денег. При этом убили еще троих людей Михаила Битяговского и двоих – Никиты Качалова; а посадского Савву плотника с шестью товарищами Михаил Нагой приказал лишить жизни за то, что они толковали, будто дьяки убиты «за посмех» (то есть напрасно). Подьячие Третьятко Десятый, Васюк Михайлов, Терешка Ларивонов, писчики Марко Бабкин и Ивашка Ежов, упрекнувшие посадских людей, что зря убили дьяков, услыхали в ответ: «Вам-де от нас то же будет!» – испугались и убежали за город в лес, дожидаться приезда государевых людей. Туда же потянулись многие горожане, опасавшиеся за свои жизни.
Осипа Волохова убили одним из последних. Приехвший по набату в город игумен Алексеевского монастыря Савватий еще застал его в живых около шести часов вечера. Толпа привела Осипа в церковь Спаса, куда зашел Савватий, чтобы повидаться с царицей. Мария стояла у гроба сына; Осип скрывался за одним из столпов храма. Мария указала на него Савватию, как на соучастника убийства царевича. Когда игумен вышел, толпа набросилась на Осипа; его дворовый человек Васька кинулся на тело господина, прикрывая его собой, – так убили и его.
Последней жертвой рассвирепевшей толпы была «женочка юродивая», жившая на дворе у Михаила Битяговского и часто хаживавшая во дворец «для потехи царевичу». Царица приказала ее убить два дня спустя за то, что «та женка царевича портила».
Три дня Углич находился в руках Нагих. Вокруг города на телегах ездили их дворовые люди, по дорогам, ведущим в Москву, были разосланы верховые, чтобы никто не мог подать весть государю об их злодеяниях. Перед приездом следователей Нагие решили скрыть следы своей измены и направить следствие по ложному пути. Городовой приказчик Русин Раков добровольно признался, что был вовлечен в этот заговор Михаилом Нагим, который вечером 18 мая шесть раз вызывал его к себе и, имея за спиной толпу дворни, заставлял его целовать крест: «буде ты наш» – и просил «стоять с нами заодно». Раков волей-неволей согласился. Михаил приказал ему «собрать ножи» и «положить на тех побитых людей», – как доказательство их злых намерений. Раков взял в торговом ряду и у посадских несколько ножей, со двора Битяговского – железную палицу, да свою саблю дал ему Григорий Нагой. Оружие вымазали в куриной крови и положили у трупов Михаила Битяговского, его сына, Никиты Качалова, Осипа Волохова и Данилы Третьякова. Рядом с одним убитым человеком Битяговского положили даже самопал. Несмотря на это разоблачение, Михаил Нагой упорно настаивал, что царевич убит Битяговским с товарищами, а сам он ни в чем не повинен.
Таким образом измена Нагих была очевидна. Убийства государевых людей произошли по их приказу, при помощи их дворни, которая верховодила посадскими. Митрополит Геласий добавил к прочитанному, что царица Марья перед отъездом комиссии в Москву призвала его к себе и говорила с «великим прошением», что дело учинилось грешное, виноватое, и молила, чтобы государь ее братьям в их вине милость показал.
Собор единодушно вынес решение: перед государем царем Федором Михаила и Григория Нагих и угличских посадских людей измена явная, а смерть царевича приключилась Божиим судом; впрочем, дело это земское, в царской руке и казнь, и опала, и милость, собору же должно молить Господа Бога, Пречистую Богородицу, великих русских чудотворцев и всех святых о царе и царице, об их государственном многолетнем здравии и тишине от междоусобной брани.
Царь приказал боярам разбрать дело и казнить виновных. Годунова в эти дни не было видно ни на соборе, ни в думе – хотел исключить всякое подозрение о каком бы то ни было давлении на их решения с его стороны. Нагих привезли в Москву, пытали крепко и потом сослали в отдаленные города. Царицу Марию насильно постригли в монахини под именем Марфы и отправили в монастырь св. Николая на Выксе, близ Череповца. 200 угличан казнили; другим отрезали языки, многих заточили в темницы, а 60 семейств выслали в Сибирь и населили ими город Пелым. Не пощадили и угличский набатный колокол: по царскому приказу лишили его крестного знамения, отсекли ухо, вырвали язык, били плетьми и вывезли в Тобольск. (Тобольский воевода князь Лобанов-Ростовский приказал сдать колокол без уха в приказную избу, где он и был записан, как «первоссыльный неодушевленный с Углича».) Тела Битяговского и других убитых, брошенные в общую яму, вырыли, отпели и предали земле с честью. Вдовам и мамке Волоховой пожаловали поместья.
На этом заканчивается история Дмитрия, князя Угличского.
Дальше начинается история Дмитрия, царя Московского.