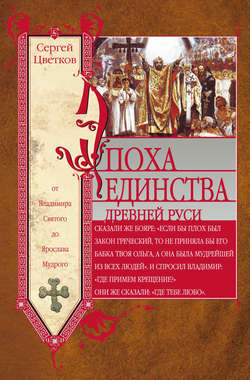Читать книгу Эпоха единства Древней Руси. От Владимира Святого до Ярослава Мудрого - Сергей Эдуардович Цветков - Страница 7
Часть первая Распря Святославичей
Глава 3 Начало усобицы
Причины распри Святославичей
ОглавлениеБорьба Ярополка с Олегом и Владимиром, имевшая обманчивый вид исключительно внутреннего междоусобия, находилась в непосредственной связи с упомянутым выше обострением русско-чешских отношений[25].
В 972 г. произошло событие, замеченное всей Европой. После десятилетних дипломатических усилий, перемежавшихся с военным нажимом, Оттон I добился от Византии признания его титула «императора августа Священной Римской империи германской нации». Договор был скреплен женитьбой его старшего сына, соправителя и наследника Оттона II, на византийской принцессе Феофано, племяннице василевса Иоанна Цимисхия. В следующем году, на Пасхальной неделе, победитель пышно отметил свое торжество на имперском съезде в Кведлинбурге. В продолжение празднеств в императорскую резиденцию одно за другим прибывали посольства из соседних стран с поздравлениями новому цезарю.
Среди тех, кто «явился с большими дарами», саксонский хронист 70-х гг. XI в. Ламперт Херсфельдский отметил и послов «от Руси» (Ruscorum). С какой целью прибыли они в Кведлинбург? Вероятно, не только затем, чтобы чествовать Оттона I. Как мы помним, буквально только что, за год или два перед Кведлинбургским съездом, чешский князь Болеслав II оторвал от Русской земли изрядный кусок Северо-Восточного Прикарпатья и Подолии вместе с Червенскими городами. К тому же 973 г. был годом учреждения Пражско-Моравской епископии, и этот вопрос, по всей видимости, обсуждался на съезде в Кведлинбурге, поскольку Болеслав II явился туда лично. Восточные границы нового диоцеза не могли не интересовать и посланцев Ярополка. Мы не знаем, вынашивались ли в Киеве планы возврата в обозримом будущем карпатских земель, или там стремились только не допустить дальнейшего продвижения чешских дружин на восток. Однако ясно, что в том и другом случае Ярополку было важно заручиться поддержкой Оттона I против Болеслава II, являвшегося вассалом германского императора.
Неизвестно, как откликнулся Оттон I на предложения Киева. В том же 973 г. он умер. Но обстоятельства сложились так, что в самом скором времени германская сторона сама должна была проявить живейшую заинтересованность в союзе с Русской землей, направленном против Чехии. Едва Оттон II успел освоиться с положением самодержавного «императора римлян», как в июне 974 г. баварский герцог Генрих II Сварливый поднял против него мятеж. Болеслав II и польский князь Мешко (Мечислав) I присоединились к непокорному вассалу императора. В этой ситуации Оттон II безусловно испытывал острую нужду в союзниках, и его обращение к Ярополку с предложением создания античешской коалиции выглядит с точки зрения сложившейся расстановки сил вполне естественным и закономерным.
Свидетельство о русско-немецких переговорах 974/975 г. и их благоприятном исходе содержится в «Генеалогии Вельфов», составленной около 1125 г. В этом родословном списке могущественного швабского рода упоминается между прочим некий «знаменитейший граф Куно из Энингена» и его многочисленное семейство, в том числе четыре дочери, одна из которых, Ита фон Энинген, во второй половине 70-х гг. Х в. вышла замуж за графа Рудольфа Вельфа, другая, не названная по имени, стала женой «короля Руси» (regi Rugorum) Ярополка[26]. В настоящее время установлено, что Куно из Энингена – это реальное историческое лицо, граф Конрад (Куно – латинская форма этого имени, Chuono, Chuonis) фон Энинген, с 983 г. – герцог швабский[27].
Оттон II и его супруга Феофано, благословляемые Христом. Париж. Музей Клюни
Когда в 975 г. дело дошло до открытого столкновения Оттона II с Болеславом II, Конрад выступил на стороне императора и активно поддерживал его в течение всей германо-чешской войны, продлившейся до 977 г. Таким образом, сам выбор невесты для Ярополка доказывает, что античешский союз Германии и Руси все-таки состоялся. Посредством брака с дочерью Конрада Ярополк вошел в близкое свойство с императорской семьей, так как энингенский граф, если верить родословной Вельфов, приходился зятем Оттону I[28]. Надо заметить также, что, по всей вероятности, в 974/975 г. была оглашена лишь помолвка (вероисповедальных различий между женихом и невестой, как будет показано далее, не было), тогда как отправка невесты Ярополка в Киев состоялась, очевидно, в 977 г., после окончания войны с Болеславом II.
Заключение германо-киевского соглашения 974/975 г., скрепленного женитьбой Ярополка на дочери имперского графа, возвращает нас к проблеме датировки полоцкого сватовства Ярополка и Владимира. Теперь мы видим, что последнее событие не могло иметь место позже 974 г., ибо Ярополк, разумеется, не стал бы добиваться руки Рогнеды, будучи обручен с родственницей государя христианского Запада, так как подобное поползновение на двоеженство немедленно разрушило бы все надежды на престижный династический союз.
Опасность быть зажатым между двух огней побудила Болеслава II, в свою очередь, начать поиск союзников. И он скоро нашел их. Ими стали братья Ярополка – Олег и Владимир, в чьих биографиях прослеживаются более или менее прочные связи с Чехией.
В одном из своих сочинений по истории Моравии (Zrdcadlo slavneho Margkrabstwij Morawskeho, 1593) чешско-польский историк Бартоломей (Бартош) Папроцкий, ссылаясь на находившиеся у него под рукой «анналы русские и польские», пишет о некоем русском князе, сыне «Колги Святославича» и племяннике князей Ярополка и Владимира. Жизни Колги/Олега грозила опасность со стороны его брата Ярополка, поэтому он отправил своего сына в Чехию. Впоследствии Колга был убит Ярополком, а его спасенный сын стал родоначальником моравского рода Жеротинов[29]. Эти события почему-то датированы Папроцким 861 г., но речь, несомненно, идет о междоусобной брани Святославичей во второй половине 70-х гг. X в.
Безымянный Ольгович, переправленный отцом в Чехию, по всей видимости, существовал в действительности, и память о нем некоторое время жила в чешско-моравских летописях. Иначе трудно объяснить, каким образом он попал в пращуры Жеротинов, ведь специально измышлять в генеалогических целях столь незначительную фигуру им не было никакого смысла[30]. Олег, судя по всему, был ненамного моложе Ярополка, и потому вполне мог в 975–977 гг. иметь младенца-наследника. Категорически отвергнуть такую возможность, во всяком случае, нельзя. Доверить своего сына Олег безусловно мог только дружественной стране. Стало быть, даже если отнестись к сообщению Папроцкого с известной долей осторожности, налицо факт достаточно близких отношений Олега с Болеславом II.
Что до Владимира, то имеется прямое указание летописи на два его чешских брака (статья под 980 г.). В росписи Владимировых сыновей, рожденных от «водимых» (законных) жен, читаем, что от одной «чехини» он «роди» Вышеслава, «а от другое – Святослава[31] и Мьстислава». В.Н. Татищев приводит имена этих женщин: Малфрид и Адил, которое он считает искаженным от Адельгейда[32]; польский историк XV в. Ян Длугош пишет только об одной «чехине». В другом месте Повести временных лет Вышеслав назван «старейшим» сыном Владимира, что делает вероятным его рождение в 975–978 гг., то есть именно в интересующее нас время. Ведь как раз тогда Владимиру, по нашим расчетам, исполнилось 18–20 лет.
Однако точно ли матерью Вышеслава была «чехиня»? Формальным поводом для сомнений на этот счет служит то обстоятельство, что во второй половине X в. Чехия имела официальный статус христианской державы. Между тем Владимир в середине 70-х гг. X в. не только оставался язычником, но и был уже женат на Рогнеде. Как же мог состояться брак между язычником-многоженцем и христианкой? Тем не менее такая возможность совсем не исключена.
Болеслав I Храбрый выкупает у пруссов останки святого Адальберта-Войтеха.
Бронзовый барельеф на дверях собора в Гнезно
Языческое многоженство было одной из самых жгучих и вместе с тем самых деликатных проблем, с которыми христианство сталкивалось в процессе обращения «варварских» германо-славянских народов Европы. Христианское воззрение на семью приживалось с величайшим трудом, вследствие чего христианское духовенство, дабы не отпугнуть неофитов и колеблющихся чрезмерной суровостью своих требований, сплошь и рядом было вынуждено идти на скандальные попущения традиционным обычаям и закрывать глаза на вопиющие нарушения церковных правил, регулировавших супружеские отношения. На территории
Чехии и Моравии подобное невмешательство Церкви в повседневную жизнь паствы стало почти что нормой. По свидетельству Паннонского жития Кирилла и Мефодия, католические священники («латиньстии и фряжестии архиереи с иереи»), просвещавшие моравских славян одновременно с солунскими братьями, «не браняху [не запрещали] же жертв творити по перьвому [языческому] обычаю, ни женитьб бещисленных творити».
Во второй половине X в. положение дел ничуть не изменилось. По словам немецкого историка XIX в. В. Гизебрехта, «ночь идолопоклонства еще так широко распространялась над страной», что даже сам Болеслав II, оставшийся в истории с прозвищем Благочестивый, порой остывал «в усердии к христианской вере»[33]. Пражский епископ Адальберт-Войтех, чех по происхождению, незадолго до своей мученической кончины в 997 г., серьезно полагал, что чехи отпали от христианства и вернулись к языческим порядкам, едва ли не поголовно погрязну в в многоженстве. Его отвращение к нравам своих соотечественников было таково, что он даже не желал оставаться их пастырем и с величайшей радостью воспринял разрешение папы оставить пражскую кафедру для миссионерской деятельности среди пруссов.
На этом историческом фоне летописная запись о женитьбе Владимира на «чехине» выглядит достаточно правдоподобной, тем более что примеры подобных браков христианки и язычника в истории есть. Незадолго перед тем (в 965 г.) не кто иной, как чешский князь Болеслав I, отдал свою дочь Домбровку (сестру Болеслава II) за польского князя Мешко I, тогда еще косневшего в язычестве. Здесь возникает закономерный вопрос: а не могла ли Владимирова «чехиня» тоже быть родственницей чешского князя, чешской княжной, как сказано у польского историка XVI в. Мацея Стрыйковского? Однако состояние источников не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть эту догадку.
Таким образом, направленному против него киевско-немец-кому союзу Болеслав II противопоставил чешско-древлянско-новгородский альянс. Создание подобных коалиций было вполне в духе дипломатии Болеслава. Так, он неоднократно заключал соглашение с язычниками-лютичами для войны против христианской Польши и самой Священной Римской империи.
Из двух младших Святославичей Болеслав II, разумеется, больше всего рассчитывал на Олега. Само географическое положение Древлянской земли делало ее естественным буфером между карпатскими провинциями Чешского княжества и Киевом. Вот почему, вместо того чтобы оказать военную поддержку Оттону II, Ярополк вынужден был совершить поход на Овруч, закончившийся смертью Олега, а Владимир, узнав о гибели брата-союзника, «убоявся бежа за море» – поступок ничем не мотивированный в летописи и находящий объяснение только в свете международной обстановки 70-х гг. X в.[34]
25
Исторические обстоятельства, обусловившие возникновение конфликта трех Святославичей, приоткрылись сравнительно недавно благодаря исследованиям А.В. Назаренко. Для лучшего освещения этой темы, представленной в русских летописях лишь отрывочными данными полулегендарного происхождения, ученый привлек дополнительные источники, которые и помогли «обнаружить стержень, логическую ось событий, развернувшихся на Руси после гибели Святослава Игоревича» (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 361–373).
26
В отечественной историографии распространена ошибочная гипотеза видного генеалога «Рюриковичей» Н.А. Баумгартена, который отождествил «короля Руси» с князем Владимиром (его статьи на эту тему были опубликованы в 1927–1930 гг. в римском журнале Orientalia Cristiana на французском языке). В подкрепление своего мнения Баумгартен сослался на известие Титмара Мерзебургского о том, что в 1018 г. в руки польского князя Болеслава I Храброго, захватившего Киев, попала мачеха князя Ярослава Владимировича. Поскольку византийская супруга Владимира, царица Анна, умерла, согласно летописи, в 1011 г., ученый посчитал, что под «мачехой» Ярослава скрывается дочь графа Куно, ставшая женой «короля Руси» Владимира между 1012 и 1015 гг. На капитальные недостатки этой теории указал А.В. Назаренко (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 310–311; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 362). По внутренней хронологии «Генеалогии Вельфов» русский брак дочери Куно должен был прийтись на вторую половину 970-х гг. Ведь Куно именуется там графом, а не герцогом (последний титул был ему пожалован только в 983 г.). Следовательно, составитель «Генеалогии Вельфов» в этой части своего труда воспользовался каким-то документом, написанным до 983 г. Нельзя не учитывать и того, что в 1012 г. этой дочери Куно должно было исполниться не меньше 35–40 лет – возраст, совсем не подходящий для династического брака, тем более с Владимиром – государем, известным в качестве большого знатока женских прелестей.
27
См.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 310; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 362.
28
В «Вайнгартенской истории Вельфов» (60-е гг. XI в.) дочь императора, вышедшая замуж за Куно, носит имя Рихлинт. Однако женское потомство Оттона I хорошо известно, и дочери с таким именем среди него нет. Тем не менее Куно/Конрад фон Энинген, по-видимому, в самом деле состоял в довольно близком родстве с императорской семьей, так как его сын, швабский герцог Херманн II, серьезно претендовал на королевский трон Саксонии, опустевший в 1002 г. после смерти бездетного Оттона III, внука Оттона I и последнего представителя Саксонской династии (см.: Древняя Русь в свете зарубежных источников. С. 309; Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 371–372).
29
См.: Флоровский А.В. Русское летописание и Я.А. Коменский // Летописи и хроники. Сборник статей. 1973 г. М., 1974. С. 313–314.
30
Жеротины, напротив, желали происходить от знаменитых государей. Известно их притязание на родство даже с византийскими императорами, хотя и все равно через русское посредство – по Изяславу, князю полоцкому, ошибочно считавшемуся в то время сыном князя Владимира от византийской царевны Анны (см.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 369; Флоровский А.В. Русское летописание. С. 315).
31
А.В. Назаренко обращает внимание на дальнейшую судьбу Святослава, отраженную в «Сказании и страсти и похвале святую мученику Бориса и Глеба»: «Его бегство в 1015 г. от Святополка почему-то именно к «горе Угорьстеи», т. е. к Карпатам, как будто косвенно подтверждает летописную версию» его происхождения (Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 366). Но, согласно известию «Повести об убиении святых новоявленных мучеников Бориса и Глеба», повторенному Ипатьевской летописью, Святослав Владимирович пытался укрыться совсем не в Чехии: «бежащу ему в угры», то есть к венграм.
32
См.: Татищев В.Н. Собр. соч. Т. I. С. ИЗ, 119.
33
Цит. по: История Средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. СПб., 1999. С. 688.
34
См.: Назаренко А.В. Древняя Русь на международных путях. С. 370.