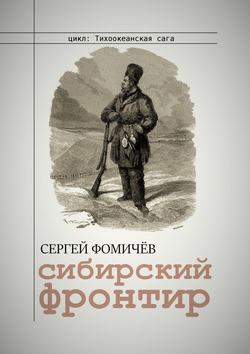Читать книгу Сибирский фронтир - Сергей Фомичев, Сергей Фомичёв - Страница 17
Часть I. Река времени
Глава первая. Остановка в пути
ОглавлениеПутешествие во времени занятие утомительное. Тем более путешествие вынужденное. Расхожее, закреплённое мифологемами и метафорами, представление о времени, как о реке, как ни странно, получило в моём случае реальное воплощение. К сожалению, подобная аналогия вовсе не означала лёгкой прогулки. Если уж пользоваться метафорами, то мой путь через века и эпохи больше напоминал восхождение на горный хребет, когда трещат от напряжения суставы, слезает с ладоней кожа, а мышцы хоть и наливаются сталью, но сталью расплавленной, воспаляющей каждую нервную клетку.
Лениво работая ложкой, я поглощал горячую пищу и наслаждался жизнью. Я радовался не столько тому, что выжил, сколько обретённому на время теплу и покою.
Средневековый Псков весьма удачное место, чтобы перевести дух. Местные жители не слишком обращают внимания на внешний вид, говор или различия в вере, и в пёстрой толпе приезжих довольно просто скрыть экзотическое происхождение. Город живёт торговлей, а эта сфера деятельности делает людей терпимыми. Ведь по большому счёту торговля и породила такое явление как человечество.
Конечно, и здесь случается всякое. Бывает, нагрянет чума, или война, или голод, и в такие периоды любую инаковость могут растолковать как причину бедствия, могут даже спалить чужака на костре в целях профилактики катастрофы. Но когда в исторической мясорубке наступает затишье, Псков вполне годится для передышки.
Тут, правда, следует сделать важную оговорку. Под передышкой я подразумеваю именно передышку и ничего более. Некоторые путают отдых с развлечением, а тут уж никаких гарантий. Одно дело затаиться в норе, получив вместе с крышей над головой относительную безопасность, и совсем другое – отправиться на экскурсию, доставая прохожих ехидными вопросами об особенностях их культуры, или выяснять у патриархальных предков, где тут можно снять девочек и купить травки. Не думаю также, чтобы на улочках Пскова показались уместными полицейская форма, интернетовский сленг, сатанинская татуировка или панковский «ирокез» ярко—зелёного цвета. Всякой толерантности есть предел и путь на костёр или на дыбу мог начаться с любого неверного шага.
Меня же вполне устраивала скромная роль иголки в стоге сена, которую, что важно, никто не ищет. Худая по меркам средневековья родная речь благополучно растворилась в интернациональном многоголосии, тем более что твёрдых канонов языка на Руси утвердить пока не додумались. Зная неплохо польский, я мог сносно общаться на любом из славянских языков. Индейскую куртку и джинсы маскировало ярмарочное разнообразие одеяний, а сношенные кроссовки я в первый же день сменил на сапоги – обувь настолько универсальную, что на умеренных широтах трудно представить себе культуру, где она смотрелась бы вызывающе. Что до причёски, то за время странствий я изрядно оброс, а длинные волосы и заросшее лицо считались здесь в порядке вещей.
Эта естественная маскировка причиняла одно неудобство – во время трапезы поросль цепляла на себя кое—что из предназначенного утробе. Поедая густые щи из глиняной миски, я то и дело промакивал заляпанные с непривычки усы и бороду хлебным ломтём. Волосы и щетина цеплялись к мякишу, вместе с ним отправлялись в глотку, где прилипали к языку, нёбу и неприятно щекотали гланды. Я откашливался и вновь принимался за еду. Что поделать, салфеток на постоялом дворе не водилось, а от простенькой идеи вытирать рот рукавом я отказался, как только подумал о трудностях средневековой стирки.
Бытовые условия и без того оставляли желать лучшего. Стараясь избежать чужого внимания, я, видимо, переусердствовал с конспирацией. Моим пристанищем стало убогое заведение на окраине Пскова, называть которое постоялым двором не поворачивался язык. Скорее это была ночлежка, средневековый бомжатник. Обыкновенная крестьянская изба с крошечными, в один венец высотой, оконцами и низким потолком, владелец которой (со смешным прозвищем Ухо) предоставлял за умеренную плату стол и кров всем желающим. Случалось, он пускал бедняков в обмен на какие—то вещи, возможно, краденные, за помощь по хозяйству, а то и просто из жалости. Кто—то уходил, кто—то приходил, иные жили неделями. На ночь обычно оставалось полтора десятка человек. При этом считалось, что заведение пустует по случаю тёплой погоды. Зимой, как утверждал Ухо, сюда набивалось вдвое больше людей.
Мы спали в той же комнате где и ели. Вечером разбирали стол и укладывались кто на лавке, а кто на полу. Мешки и котомки служили подушками, одежда – подстилками и одеялами. Я спал как младенец, не обращая внимания на запах немытых тел, укусы насекомых, стоны и храп. После скитаний по диким местам любые неудобства казались мне сущей безделицей, а долгое пребывание в компании с ископаемыми ящерами научило ценить человеческое общество, пусть даже оно испускало звуки и запахи, достойные иных монстров.
Бегство из ссылки едва не доконало меня, но, получив передышку, я быстро оклемался, а разум, ранее сосредоточенный только на выживании, стал искать иного приложения.
А поразмыслить было над чем. Волею судьбы, вернее сказать, волею кучки гоблинов, принадлежность которых так и осталась тайной, я оказался заброшен в прошлое. На первых порах мной двигало единственное желание – вырваться из западни и вернуться домой. Затем, как—то само собой пробудилось любопытство. Я не историк, даже не особый любитель истории. Тексты из школьных учебников всегда воспринимались мной на уровне газетных передовиц, то есть не воспринимались вовсе. Стараниями их авторов прошлое превратилось в нуднейшее повествование, пересыщенное идеологией и фальшивыми мифами.
Теперь—то я мог кое—что увидеть воочию. И спешка была бы равносильна пробежке сквозь экспозицию музея в духе стратегии карикатурных японских туристов: час на Лувр, два – на Великую Китайскую Стену. Правда, поначалу, когда в музей тебя втолкнули, угрожая пистолетным дулом, о золочёных шлемах под стеклом как—то не думаешь. Тем более, что и втолкнули—то не куда—нибудь, а прямиком в зал палеонтологии с живыми такими экспонатами. Так что пришлось повертеться, чтобы не стать их рационом. Но спустя некоторое время нервы пришли в норму, тело втянулось в работу, а когда на периферии зрения замелькали пейзажи антропогена, голова сама собой принялась озираться по сторонам.
Несколько дней псковских каникул придали мыслям нужную упорядоченность. Я озадачился, как бы использовать выпавший на мою долю фантастический шанс, за который всякий честный учёный продал бы душу дьяволу?
На первый взгляд уникальное положение давало массу соблазнительных возможностей, однако, при более пристальном рассмотрении перспективы терялись в тумане скромных познаний. То, что я увидел вокруг, вовсе не напоминало музей. Никто не удосужился развесить по стенам доспехи, расставить артефакты с табличками, или сопроводить панораму исчерпывающим комментарием. Что хуже – отсутствовали указатели. Книги рассказывали о великих свершениях и великих героях, а реальность растворяла их среди тысяч скромных событий и миллионов простых людей. Я ощутил себя в сказочном лесу, состоящем сплошь из обыкновенных деревьев. Всё сказочное пряталось где—то в дебрях, и обнаружить его было куда сложнее, нежели заблудиться и сгинуть. Что толку в отмычке, если не знаешь, как отыскать нужную замочную скважину.
Нет, профессионал, наверное, нашёл бы и здесь много ценного для науки. Быт, одежда, обряды, говор, да мало ли что волнует академические умы. Но я—то профессионалом себя не считал и желал увидеть нечто более зрелищное, чем какие—нибудь аспекты социальных отношений или нюансы культуры.
Извилины перебирали загадки истории, когда—либо встреченные мной на страницах популярных изданий. Ответы на некоторые из вопросов могли стать сенсацией и потешить моё самолюбие. Практичная часть натуры припоминала легенды о многочисленных кладах проигравших монархов, разбойников и самозванцев. Но информации не хватало даже для определения отправной точки поисков. Даты, услужливо поставляемые памятью, касались исключительно войн и революций, словно всё развитие человечества состояло из одной бесконечной резни. Соваться в горнило империалистических или классовых сражений не было ни желания, ни смысла. Шансов увидеть что—либо действительно интересное было немного, а резня как таковая меня не привлекала. Я по горло насмотрелся кровищи в родном столетии, и вряд ли по этому показателю его могло переплюнуть какое—то из предшествующих.
Чем больше я размышлял, тем очевиднее становилось, что по большому счёту меня не интересует история. Нет, я не прочь побродить по древним городам, посмотреть на жизнь, на архитектуру. Но и только. Распутывание загадок, кроме серьёзного риска нарваться на тех, кто желает сохранить тайну, требовало ещё и массу времени, а я не собирался надолго зависать в прошлом. По той же причине сорока миллионами лет ранее мне не пришло в голову изучать повадки динозавров, хотя даже поверхностный взгляд, вероятно, потянул бы на толстую книгу.
Мне хотелось поскорее попасть домой. Вернуть кое—какие долги неким гоблинам, а уж потом, если позволит обстановка, можно будет заняться и путешествиями во времени. К примеру, почему бы не заглянуть в будущее. Вот оно меня влекло куда сильнее, чем прошлое.
Однако прошлое задалось целью поймать туриста на крючок и забросило другую наживку. Ведь вернуться можно и не с пустыми руками. Отчего бы не набить карманы артефактами, раз уж возникла такая оказия? Одна только пригоршня здешних монет могла принести больше, чем годовой заработок контрабандиста. Причём никаких проблем с радиоуглеродным анализом. Металл он металл и есть.
Улыбка сидящего напротив человека заставила меня вздрогнуть. На миг показалось, будто он читает мысли по моему напряжённому от раздумий лбу, словно морщины являются строчками донесения. Читает и ухмыляется в ответ.
Заподозрив неладное, я огляделся. Комната оказалась пуста. За столом кроме нас двоих никого не осталось. Привычка размышлять во время еды часто приводила к тому, что я пробуждался от мыслей в полном одиночестве. Прочие обитатели ночлежки спешили набить чрево и разбрестись по делам. Только ужин мы заканчивали сообща. После него следовало разбирать стол и прибираться в комнате, а семеро одного ждать не желали.
Но сейчас время обеда. Народ разбежался, а хозяйка, собрав грязную посуду, отправилась на реку. Я прислушался. Ухо возился где—то во дворе. Судя по звукам, кромсал дерево топором, заготовляя то ли дрова, то ли лучину, то ли дранку для крыши. В общей комнате он вообще появлялся редко, в дела клиентов предпочитал не соваться, а отношения с ними за редким исключением ограничил взиманием платы за постой. Но что интересно ни краж, ни поножовщины в ночлежке не случалось ни разу. Люди как—то сами ладили между собой.
Я перевёл взгляд на незнакомца. Да, пожалуй, именно незнакомца, ибо, подумав, я не смог припомнить, будто он когда—либо садился за стол вместе со всеми. На моей памяти этот тип вообще не появлялся здесь. Вызывало подозрение и то, что он ничего не ел, хотя перед ним стояла миска со щами. Человек просто смотрел на меня и улыбался.
Молчание продолжалось несколько минут.
– Мы не ожидали, что вам удастся выбраться оттуда… – произнёс, наконец, он.
Этой фразой незнакомец расставил все точки над разнообразными буквами. Он знал, кто я такой, знал, куда меня забросили, но главное дал понять, что представляет тех самых гоблинов, которые были виновниками всех моих несчастий.
Окатив его взглядом, одновременно презрительным и вызывающим, я не утерпел и вытер рот рукавом. Бесстрашие было форменной рисовкой. На самом деле мне стало жутко от догадки, какое именно дело привело в ночлежку этого типа. Гоблины наверняка решили вернуть меня туда, откуда я с таким трудом выбрался. Небось, ещё и накинут к сроку пару десятков миллионов лет за попытку к бегству.
***
Лодку мне построить тогда так и не удалось. Да уж… поди попробуй, сруби дерево, разделай его на доски и сколоти лодку, не имея ни топора, ни пилы, ни гвоздей, ни, главное, нужных навыков и знаний. В отчаянии я проклинал цивилизацию, не научившую меня примитивным вещам, ругал себя за непредусмотрительность, как будто мог предвидеть подобный вывих судьбы и положить в рюкзачок топор.
Трубный рёв властителей юрского периода стимулировал мозговую активность. Я перебирал варианты, черпая вдохновение из книг и рассеивая надежды с помощью житейской логики. Памятуя об уроке Робинзона, сразу отказался от долблёнки. Да и нечем было долбить древесину. Перочинный нож, собственные ногти и зубы, сильно уступающие, к сожалению, местным аналогам – вот и всё чем я располагал. Отсутствие подходящих шкур и костей, поставило крест на проекте каяка. В самом деле, не устраивать же с жалким пистолетиком охоту на динозавров. А никакого иного зверья вокруг не водилось.
В конце концов, выход нашёлся. Стоило только снизить планку технологических требований. Плот ничуть не хуже лодки подходил для поставленной задачи.
Правда и с ним пришлось повозиться изрядно. Я отыскал несколько сухих, но ещё не слишком гнилых стволов, достаточно лёгких, чтобы управиться в одиночку и надеяться на их положительную плавучесть. Из коры, из травы, из собственных ремней изготовил крепёж. С великим трудом получился убогий плотик, едва способный держать на воде человека.
Убогий так убогий. Я не собирался пересекать океан, опережая не только Хейердала, но и само человечество по следам расселения коего пустился в путь неутомимый норвежец. Вернее, всем им ещё предстояло пуститься, а прежде того родиться. Мне же хотелось просто вернуться домой, а для короткого, если мерить пространством, заплыва вполне годился скромный заливчик, к которому я вышел на второй день ссылки и облюбовал, не только имея в виду судостроительные планы, но и подметив, что местная фауна держалась в стороне от него.
Поначалу побег казался делом элементарным. Пространство и время имеют одну природу, по крайней мере, применительно к моему случаю – это продемонстрировали гоблины, забросив меня в Юру. Они воспользовались визуальной привязкой, купили меня на резиновую голову динозавра. Так что мешало мне разработать собственную систему визуальных ассоциаций, способную проторить обратный путь?
Кое-что конечно мешало. Здесь не найдёшь подходящего моей эпохе маячка, который укажет верное направление. Маленькие динозаврики вряд ли бредят Антропогеном, а мамаши едва ли водят отпрысков в «Парк Четвертичного Периода», где над ушами доверчивых посетителей щёлкает зубами восковая голова человека.
Что ж, значит, следовало задействовать воображение. Пока руки занимались постройкой плота, голова подыскивала нужный образ. Единственное доступное средство передвижения определило выбор. Я решил, что достаточно будет вызвать перед глазами очертания известного берега, нарушенного человеческой деятельностью, например, представить набережную какого-нибудь города, и править свой плотик к ней.
Результат оказался нулевым. Сколько бы я ни воображал, какие бы города не перебирал в памяти, пробиться через время не получалось. Плот мотался в заливчике с теми же видами на успех, что поплавок в ванне.
Вот тогда я перепугался. Не меньше, чем до этого, осознав, что оказался в далёком прошлом. Неужели тюремщики лишили меня способности к прыжкам? Или тот прорыв времени, что забросил меня в юрский период, был единственным исключением? А быть может, голого воображения недостаточно и сознанию всё же необходима материальная зацепка? Но ведь до сих пор пробивая пространство, я пользовался исключительно воображением. Или нет?
– Эй, ископаемые! – крикнул я пасущимся вдалеке животным. – Кто—нибудь из вас знает, где тут собака зарыта?
Хозяева здешнего мира проигнорировали чужака. Копать пришлось самому. Из камней и песка я создал на берегу фигуру, пропорциями похожую на снеговика. Вместо рук приспособил сучья, вместо головы подходящий по размерам череп. Набросил на деревянные плечи пуховик, надвинул на костяной лоб кепку. Отошёл на два десятка шагов и полюбовался шедевром. Издали фигура вполне походила на человеческую. Я бы даже сказал, что в её очертаниях угадывалось что—то от Дэнни ДеВито.
– Такие дела, Дэнни, – сказал я. – Остаёшься за старшего. И раз уж тебя назначили пугалом, постарайся напугать меня посильней. Если всё пройдёт, как задумано, тебе в наследство достанется моя куртка и кепка, а так же весь этот чёртов мир. – Я хлопнул его по плечу, едва не развалив скульптуру. – Владей, Дэнни.
Я отвёл плот почти на середину залива и развернулся. Разумеется, собственное творение не могло напугать меня хотя бы на миг, чтобы повторить эффект аттракциона с пластиковой головой динозавра. Но я надеялся, что одинокий силуэт на берегу вызовет какую—нибудь ассоциацию.
Тщетно.
Я перебирал один вариант за другим. Возводил из песка замки, ставил шалаш, мастерил фигуры людей и животных. День за днём носился на плотике по заливу, пробуя разные ракурсы, дистанцию и скорость; прикрывал глаза, размывая картинку, прищуривался, делая её более чёткой, зажмуривался, полностью отдаваясь воображению; но так и не смог никуда переместиться.
Мало—помалу отчаяние перерастало в равнодушие. Я готов был сдаться. Сознание всё чаще переключалось с поисков выхода на необходимость как—то обживаться здесь, в этом времени. Всё труднее становилось отгонять предательские мысли, которые осаждали меня, точно стая падальщиков мясную тушу. Тут ведь как – стоит только поддаться лживости здравого смысла, начать обустройство быта, и повседневные заботы утянут тебя в трясину.
Умные книжки утверждали, будто лучшим моментом для побега из тюрьмы или лагеря являются первые дни заключения, когда ещё есть силы, желание и нужный настрой. Ещё лучше бежать с этапа, из зала суда, из отделения, а то и вовсе с места задержания. Потом будет только хуже, потом наверняка обломают, согнут, выпотрошат душу, лишат вкуса к жизни и свободе.
Не врали книги, я нутром чуял, что не врали. Пусть меня не охраняли вертухаи со злобными псами, пусть отсутствовала колючая проволока и пулемётные вышки. Хватало и собственного разума, который, отказываясь искать выход, превращался в абсолютного тюремщика. Я осознавал, что чем дальше, тем чаще попытки возвращения будут откладываться из—за всякого пустяка, и настанет момент, когда здешние условия покажутся мне вполне сносными, а родной дом превратится в смутную легенду. И потому я не позволял себе даже завести календарь, опасаясь, как бы пресловутое бревно с зарубками не превратилось в жертвенный столб.
Как ни странно, но единственный признак существования надзирателей помог мне избежать капитуляции в большей мере, чем собственная воля. Подносы с едой возникали регулярно, словно вестники потустороннего мира. Они волей—неволей связывали меня с родным временем, а, кроме того, позволяли не думать о хлебе насущном. Ведь добыча еды – первое, что заставляет отвлечься от идеи.
Ну а ещё я развлекался, не давая прорасти отчаянию. Как? Я топтал бабочек! Это превратилось в какую—то манию, в крестовый поход против самого времени. Я давил их всюду, где только встречал.
Как ни странно, но раздавленные бабочки привели таки к серьёзным изменениям. Нет, не эволюции, конечно, и не истории как таковой, но окружающей меня обстановки. Какой—то зверёк выбрался вечером из невидимой норки, чтобы утащить набитые за день трофеи. Зверьком он был не в просторечном смысле – в самом что ни на есть научном. Он чем—то походил на обыкновенную мышку, хотя имел пёструю окраску.
– Мы, млекопитающие, должны держаться друг друга, – сказал я, бросив гостю немного каши.
Тот испугался, сбежал, но следующим вечером появился вновь. И потом стал приходить каждый вечер и исчезать под утро. Зверёк держался осторожно, но мало—помалу перестал бояться, а недели через две уже ел у меня с руки.
– Жаль, что не могу научить тебя разговаривать, – говорил я, скармливая товарищу бабочек. – «Бедный, бедный Хробинзон…» Впрочем, извини, ты не попугай, конечно. Ты ближайший мой родственник, если подумать. Предок.
Я понял, что, кажется, понемногу схожу с ума и если меня не добьёт отчаяние и не сожрёт апатия, сумасшествие довершит разрушение личности.
Вырвался я оттуда чудом. Я даже не уверен, что смог бы повторить такой трюк ещё раз. Чудо трудно загнать в систему исходных условий.
Как—то раз мне пришло в голову отправиться на плоту ночью. Это был смертельный номер, на который я решился только от безысходности. Какие—то твари постоянно плескались в водах залива. Днём я иногда наблюдал их тёмные спины, едва различимые среди волн, и старался держаться подальше, памятуя, что дожившие до моего времени крокодилы порой закусывали пловцами.
В темноте опасность усиливалась стократ. Тем не менее, я решил рискнуть. Погрузил вещи, посадил на плот млекопитающее и оттолкнулся шестом от берега. Боясь заглядывать в тёмные глубины залива, я смотрел вверх.
Ночное небо совсем не казалось родным. Не знаю, как шустро бегают звёзды на небе и что значат для них сорок миллионов лет, но мне не удалось найти даже Большую Медведицу. Тоска усиливалась. Я впал в какую—то прострацию. Желание видеть людей стало столь велико, что я зажмурился и представил костёр, разведённый на берегу, возле которого сидят люди. Артель рыбаков, сбежавшие из дома мальчишки, разбойники, туристы или кто—то ещё, неважно, главное люди. Я представил мерцающий огонь, зыбкое отражение на поверхности воды. Представил и попал в яблочко. Что ни говори, а огонь обладает неким мистическим свойством. Иначе как объяснить, почему ему удалось то, что не удавалось всем моим произведениям из песка и камня.
Я открыл глаза. В дрожащей прибрежной полосе отражался небольшой костерок. Я боялся поверить, что это не случайное возгорание, не галлюцинация, вызванная душевным расстройством. То ли от избытка чувств, то ли от страха, по моим щекам побежали слёзы. Я зачерпнул ладонью воды, желая освежить лицо. Пара капель попала на губы. Я не сразу сообразил, что получил подтверждение чуду. А когда сообразил, улыбнулся. Вода оказалась пресной. Воображение победило.
Жаль только, что милый зверёк остался в прошлом. То ли его смыло водой, то ли не пропустила дыра во времени. Но тогда я об этом не думал. Я праздновал победу.