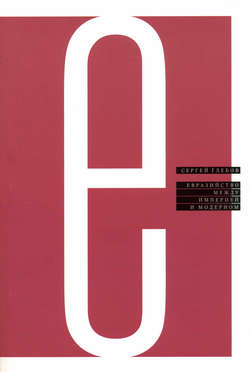Читать книгу Евразийство между империей и модерном - Сергей Глебов - Страница 3
I
Евразийство между империей и модерном
2
Действующие лица
ОглавлениеЕвразийство не смогло бы стать столь многообразным движением, затронувшим самые различные аспекты политики и науки, если бы в нем не принимали участия незаурядные личности, сыгравшие значительную роль в развитии таких разных областей, как история музыки, фонология или биогеография. Несмотря на различные профессиональные и общекультурные интересы, эти люди были объединены определенным поколенческим этосом и опытом последних «нормальных» лет Российской империи, Первой мировой войны, двух революций и Гражданской войны. Они разделяли общее ощущение глубокого кризиса – точнее, надвигающейся катастрофы – современной им европейской цивилизации; они верили, что путь к спасению лежит в проведении границ между различными культурами, как выражался Трубецкой, воздвижении «перегородок, доходящих до неба». Они испытывали глубокое презрение к либеральным ценностям и процессуальной демократии и верили в неминуемое пришествие нового, еще невиданного строя. Эти люди, за немногими исключениями, принадлежали к привилегированным слоям бывшей Российской империи. Многие, особенно среди младших евразийцев, воевали в Белой армии, потерпели поражение и пережили изгнание.
Историки неодинаково оценивали участников евразийского движения, и их внимание не всегда напрямую зависело от того, какую роль сыграл тот или иной человек в общей истории движения. Безусловно, больше всего написано о Н.С. Трубецком, что объясняется его научной карьерой и многолетними усилиями P.O. Якобсона по пропаганде его лингвистических идей1. Однако биографии Трубецкого, даже если они выходят за рамки чисто лингвистических аспектов его деятельности, остаются односторонними, так как опираются на весьма ограниченное число источников. Отсутствие доступа к архивным материалам2 стало причиной идеализации и облагораживания облика Трубецкого: большинство биографий этого выдающегося лингвиста обходят стороной такие черты Трубецкого, как ярый антисемитизм, граничивший с нацистскими убеждениями, и принадлежащее ему авторство фашистской теории государства, которую проповедовали евразийцы. О П.П. Сувчинском биографической литературы до последнего времени практически не существовало, а те фрагментарные биографические данные, которые появлялись по большей части в апологетических сборниках, несмотря на их значение для культурологии или музыковедения, не соответствуют критериям исторической науки3. Д.П. Святополк-Мирский удостоился отдельной биографии, возможно, благодаря тому, что его работы по истории русской литературы, вышедшие на английском языке, получили широкую известность в англосаксонском мире и на них выросло не одно поколение славистов4. Если Г.В. Флоровскому и Г.В. Вернадскому повезло больше, чем П.П. Сувчинскому, то биографической литературы о П.Н. Савицком до недавнего времени не существовало вовсе, что кажется необъяснимым, учитывая доступность источников и огромный интерес к евразийству в современной России5. О Л.П. Карсавине написано несколько статей, содержащих биографические сведения, а вот евразийцы младшего поколения, такие как П.С. Арапов или П.Н. Малевский-Малевич, разделили судьбу Савицкого и не стали предметом не только монографий, но даже статей биографического характера6.
В евразийском предприятии принимали участие десятки, если не сотни, людей самого разного уровня. В орбиту евразийства в разное время были вовлечены такие представители российской культуры, как С.Л. Франк и И.Ф. Стравинский, М.И. Цветаева и А.М. Ремизов, A.B. Кожевников и P.O. Якобсон. В то же время в нем фигурировали бывшие офицеры, например П.С. Арапов, будущий лидер русских нацистов за рубежом A.B. Меллер-Закомельский или резидент генерала А.П. Кутепова и «Треста» в Варшаве Ю.А. Артамонов. К движению примыкали и агенты ОГПУ, такие как A.A. Ланговой-«Денисов». Мы ограничимся здесь лишь биографическими данными Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского и П.С. Арапова. Первые трое являются самыми видными представителями евразийства, его духовными отцами и многолетними руководителями, тогда как последний – автор значительного числа публикуемых здесь писем – был активным организатором евразийского движения и его подпольным «антрепренером» на протяжении почти десяти лет. За рамками книги остались биографии Г.В. Флоровского, более тяготевшего к кругу религиозно-философских мыслителей и рано отошедшего от евразийства, и Л.П. Карсавина, который участвовал в движении лишь на последнем этапе его существования (к тому же Карсавин примкнул к евразийству лишь благодаря протекции Сувчинского, тогда как Трубецкой и Савицкий долго противились его привлечению). Именно эти четыре человека – Трубецкой, Савицкий, Сувчинский и Арапов – составляли «внутренний круг» евразийства, руководили движением, обсуждали между собой его стратегию, редактировали публикации и принимали ключевые решения.
В комментариях к публикуемым письмам будут отражены биографические данные «второстепенных» участников и «попутчиков» движения: Д.П. Святополк-Мирского, Г.В. Вернадского, П.Н. Малевского-Малевича, В.П. Никитина, H.A. Клепинина, H.H. Алексеева, К.А. Чхеидзе и многих других. Здесь следует сказать несколько слов об отношении к евразийству Романа Осиповича Якобсона. Он, безусловно, симпатизировал основателям движения и был очень близок с Н.С. Трубецким, с которым его связывало многолетнее и чрезвычайно плодотворное научное сотрудничество, но особенно он был дружен с П.Н. Савицким, ставшим его крестным отцом. Под влиянием Савицкого Якобсон разрабатывал евразийскую теорию языковых союзов, обсуждал евразийские работы Трубецкого; его принадлежность общеидеологической среде евразийства бесспорна. Он также привлек к участию в своем восточнославянском отделе журнала Slavische Rundschau Савицкого, Трубецкого и Сувчинского. В одном из публикуемых в данном томе писем Трубецкой пишет Сувчинскому, что, по его мнению, Якобсон «совершенно наш» во всем, что касается оценки быта, современности, науки, восприятия искусства. Смущала Трубецкого лишь религиозность, точнее, отсутствие таковой у Якобсона. После Второй мировой войны именно Якобсон сыграл ключевую роль как в пропаганде работ Трубецкого, так и в трансляции некоторых евразийских идей в западный контекст. И все же Якобсон всегда находился на определенной дистанции от евразийцев: было это результатом его собственного решения или следствием сдержанности евразийцев, на которых мог оказать влияние факт службы Якобсона в советском учреждении или их личный (во всяком случае, Трубецкого) антисемитизм, остается вопросом для исследователей7. Также несмотря на публикации работ в евразийских сборниках сложно причислить к евразийцам A.B. Карташева, П.М. Бицилли и многих других – они лишь симпатизировали определенным идеям, но не принимали евразийское учение в целом.