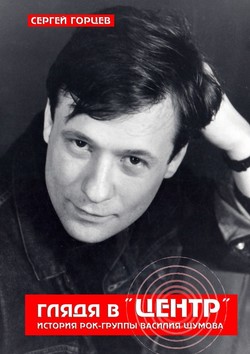Читать книгу Глядя в «Центр». История рок-группы Василия Шумова - Сергей Горцев - Страница 4
Книга первая.
«Центр»: До…»
(1980—1990)
Часть первая.
«Рок-н-ролл – детонатор идиллий»
ОглавлениеИ вот однажды (это было в ноябре 1983 года), опять-таки «случайно», узнаю, что в ДК I ГПЗ в Москве, в «джазовом абонементе» Аркадия Петрова, выступает «Центр». Мне почему-то казалось, что после рекламы А. Троицкого пол-Москвы должны собраться на это представление. На самом же деле, я легко заранее купил билет в кассе и примерно за полчаса до концерта прибыл к месту действия. Сразу показалось, что попал куда-то не туда – уж больно серьезная подобралась публика – тихая и интеллигентная. До того интеллигентная, что когда в ДК вошел румяный с мороза, улыбающийся Андрей Макаревич (наверное, самый популярный тогда рок-музыкант), то никакой толпы за автографами не было и в помине. Я же своего не упустил и до сих пор сохранил страничку блокнота с подписью «патриарха». Кстати, простота и естественность общения Андрея произвели тогда на меня сильное впечатление.
О том, что же произошло на том концерте, есть разные мнения и версии. Но все сходятся в одном – это было первое серьезное явление «Центра» народу. И, говорят, явление неудачное, если не сказать – провальное. У меня же совсем противоположное мнение. Я открыл для себя совершенно новый мир. И неважно, как это назвать – «новая волна» или «панк» – важнее атмосфера, дух происходящего на сцене, важно как это все было сделано. Важно, что так это никто другой не делал.
После довольно монотонного введения Аркадия Петрова о том, что «сейчас мы послушаем, а затем обсудим выступление новой группы», возникает пауза. А затем… Затем дикий свист за кулисами, и на сцену с бас-гитарой вылетает взлохмаченный человек в мешочного вида черном костюме – «Я все умею», – поет он после небольшой инструменталки. Далее на сцену выбегают еще четыре «чудака» в таких же черных костюмах, и вся пятерка отрешенно, иногда фальшивя, начинает свое музыкальное действие. Они играли минут сорок, и все это время «джазовый» зритель был как будто в шоке. Аплодировали после каждой песни, вместе со мной, человек десять (!) из тысячного зала. Особенно запомнился момент, когда после очередной песни, после редких хлопков, Вася сказал в микрофон: «Тише, пожалуйста. В соседних домах люди уже готовятся ко сну. И ваши аплодисменты могут им помешать…» В зале раздалось хлопанье ресниц московской интеллигенции – хлоп, хлоп, хлоп… Я чуть от смеха не упал с кресла. Вот как выглядела рукописная программа выступления «Центра», непонятно как оказавшаяся у меня в архиве.
«Программа»
1. Инструментальное вступление.
2. Я всё умею.
3. Одинаковый ритм семидневной недели.
4. Фотолаборатория.
5. Стюардесса летних линий.
6. Мальчик в теннисных туфлях.
7. Волшебница.
8. Морелла (по мотивам Э. По).
9. Колыбельная для города с населением более 1 миллиона человек.
10. На пароходе в тропическом море (танго).
11. Женский марш.
12. Звезды всегда хороши.
13. Автомобиль Билли.
14. Ревность.
Состав: Василий Шумов – бас, Валерий Виноградов – гитара, Карен Саркисов – ударные, Алексей Локтев – клавишные, Андрей Шнитке – гитара.
Москва, Дворец культуры I ГПЗ, 15 ноября 1983 года.
* * *
Я был в восторге. Было все то, что меня всегда интересовало – оригинальность, театрализация, современность. «Центр» показал тогда, в основном, песни из альбома «Стюардесса летних линий», сыгравшего большую роль в просвещении длинноволосых рокеров.
Но вернусь к концерту. После ухода группы, в шоке, похоже, оказался и ведущий А. Петров. Он вышел на сцену и долго оправдывался перед залом, что сам, мол, до это «Центр» не видел, а «лишь слышал в записи несколько песен». После перерыва ситуация в зале изменилась, и народ воодушевлено принял классический ВИА под названием «Гулливер», основу которого составляли музыканты, прославившиеся позднее под названием «Бригада С» (но без Г. Сукачева). Для меня же это не представляло уже никакого интереса. Я с трудом досидел до конца, ожидая обещанного обсуждения и даже послал на сцену записку с одобрением «Центра». Но обсуждения почему-то не было. Отчасти объяснение всему случившемуся я нашел много позже, прочитав отличную книгу Троицкого «Рок в СССР». Вот как описывает Артем тот вечер:
«В ноябре 1983-го я решился устроить им „генеральный показ“: престижный зал на 1200 мест, с трудом арендованная аппаратура „Динакорд“ и множество важных гостей – пресса, ТВ, композиторы, рок-звезды. Мне хотелось доказать им всем, что есть жизнь и после „Машины времени“, есть талантливая молодежь и реальная „новая волна“. Я приехал во Дворец культуры за сорок минут до начала концерта и в комнате артистов застал роскошную картину. Множество пустых бутылок из-под водки и четыре невменяемых существа. Только пятый, молодой ритм-гитарист Андрей, сын известного композитора Альфреда Шнитке, выказывал признаки жизни – он предложил мне допить бутылку. Оказывается, сегодня был день рождения ударника. Нужно было или отменять выступление, или надеяться на чудо. Я с трудом растолкал музыкантов и попросил их подготовиться к выходу на сцену… Концерт был уникальный: они пели мимо микрофонов, не попадали по клавишам и струнам – хотя, к счастью, никто не упал. Катастрофа, конечно: мало кто понял, что они совершенно пьяны, но все удостоверились, что они очень плохи… Эта история показывает, почему „Центр“, при своих редких достоинствах, никогда не был особенно популярен: они всегда были искренне равнодушны к успеху…»
Нельзя не отметить, что несколько по-другому ту же ситуацию видел Аркадий Петров, который позже отмечал, что «эта поддача, которая чуть не привела все к срыву, входила в образ, провокационный театр группы „Центр“, который музыканты не без удовольствия разыграли». Много лет спустя я не удержался и попросил самого Василия оценить значение того концерта в дальнейшем непринятии группы московским бомондом. Он ответил следующим образом: «То, что „Центр“ был в стельку пьяным на концерте в ДК ГПЗ, не имеет большого значения в дальнейшем неприятии нашей группы. Дело в том, что мы были настоящей свежестью в общем музыкальном тухляке начала 80-х. В тухляке, где выпестовывались свои рок-звезды и признанные величины. Поэтому пьяные мы были или нет – дело не в этом. Может быть, даже наше опьянение как-то сгладило реальное глубинное неприятие. Это тогда пошли слухи, что „Центр“ – это фашисты и многое другое, для нас, нежелательное… Чтобы быть принятым бомондом надо существовать в их спектре мироощущения, ценностей и карьерных ходов. Все это само по себе нам не грозило и не грозит».
Так, собственно, с 1983 года я и начал собирать все, что связано с «Центром» и его лидером. Собирать информацию приходилось по крупицам. Основным её носителем тогда были магнитофонные катушки, а основными распространителями – коллекционеры и немногочисленные студии звукозаписи. Студиям было безмерно тяжело. Дяди и тети из органов культуры, члены всяких ведомственных и межведомственных комиссий ретиво выискивали «крамолу» в репертуарных списках и могли вполне прикрыть студию только потому, что какой-то ансамбль не входил в списки «разрешенных», или наоборот, входил в списки «неразрешенных», т. е. запрещенных. Общую атмосферу недоверия, особенно к самодеятельным группам, активно провоцировали средства массовой информации. Вот некоторые типичные цитаты того времени:
«… Для нас, советских людей, неприемлема культура, проповедующая примитивное удовольствие, развлечения, политическую пассивность, дающая вместо подлинного познания только иллюзию. Одним словом, ведет к моральной деградации. И поэтому, ведя последовательную работу по эстетическому воспитанию молодежи, никогда не следует забывать, что в его основе всегда должна лежать гражданственность, нормы советского образа жизни. И это требует от всех нас активного отношения к музыкальным проискам западной пропаганды, разоблачения их и наступательности».
(Газета «Комсомольская правда»
16. 09. 84г.,
статья «Барбаросса рок-н-ролла»
Ю. Филинов.)
Вот так-то.
Или вот «перл» о творчестве «Машины времени»:
«Мимоходом, мимолетом бросаются слова, за которые принято отвечать (! – С.Г.) по высокому гражданскому и художественному счету. Но, видно, ансамбль четко следует призыву, изложенному его руководителем в песне „Старые друзья“: „Пусть день пройдет без забот о былом“. Вряд ли отсутствие у человека забот о былом можно считать нормальным. Отсюда недалеко и до всякого рода „прощений“ и „забвений“, хотя памятью проверяют настоящее. Видимо, некогда было ансамблю задуматься над сложными явлениями жизни…»
(А. Комаров, В. Ковалев
«Пусть верным будет путь»
«Собеседник» N-3 1984 г.)
В начале 1985 года я от имени друзей написал письмо в популярную газету «Московский Комсомолец», которая первой попыталась хоть как-то писать об отечественной рок-музыке. Мы попросили рассказать о группах «Центр» и «Браво». Обратите внимание, как нам ответила газета (25. 02. 85г.):
Уважаемые Николай и Виктор!
Благодарим Вас за внимание к нашей газете. К сожалению, мы не можем удовлетворить Вашу просьбу и рассказать об ансамблях «Центр» и «Браво». Дело в том, что эти два самодеятельных коллектива – «домашние», то есть не зарегистрированные во Всесоюзном научно-методическом центре народного творчества, а о таких ансамблях мы не пишем.
(Д. Шавырин)
И это в то время, когда их концерты повсюду сопровождались неслыханным ажиотажем! Моему возмущению не было предела, и я тут же отправил в «МК» новое послание. Суть его сводилась к тому, что я просил объяснить расхождение «официального» мнения с мнением простых слушателей. Я был уверен, что тем самым наносится вред не только творчеству, но и в целом музыкальному воспитанию, если уж и говорить о нем. Я был наивен и осознал это только после получения очередного ответа, который читатель пусть оценит сам (19. 03. 85г.):
Уважаемый товарищ Горцев!
Благодарим Вас за внимание к газете. Ответы на поставленные в Вашем письме вопросы Вы можете получить в журнале «Советская музыка» N-2 за 1985 год. И в будущем мы не будем писать о тех коллективах, уровень исполнения которых крайне низок.
(Д. Шавырин)
Публикуя эти документы, я меньше всего хочу обидеть их авторов. Больше того, я прекрасно понимаю – таковы были условия игры и правила поведения. Что они, бедные, могли, если такова была идеология страны, со всеми ее «плюсами» и очевидными «минусами».
Маразм подобных журналистских «штучек» сегодня, слава богу, очевиден. Тогда же это было на полном серьезе. Но до чего только не додумается наш человек! Московские газеты и городские столбы были полны объявлений примерно следующего содержания: «Продам катушки. Тел…» Как правило, за такой информацией скрывался частный «старатель», который в эпоху развитого социализма беспошлинно стриг купоны на неповоротливости государственной машины.
Звоня по таким вот объявлениям, я стал обладателем первого прилично записанного альбома «Центра» — «Стюардесса летних линий». Нет слов, я был восхищен этой музыкой. Чего стоило одно название! Вы вслушайтесь и вдумайтесь – «Стюардесса… летних… линий»! Романтика, энергия, ирония, оптимизм, – все было в этом альбоме и не имело аналога на нашей сцене. Относительно зарубежных аналогов сказать что-то определенное тоже было невозможно. Где-то «проскальзывает» «DOORS», где-то Captain Bеefheart, где-то «Police»… И совершенно очевидно было, что такую музыку могут играть только очень просвещенные и музыкально эрудированные люди. Это выгодно отличало группу на протяжении вcей её истории.
Наибольшей известностью и популярностью на концертах в то время пользовались песни «Призывный возраст» («Девушки любят летчиков»), «Волшебница», «Наутилус», «Звезды всегда хороши… ” и «Ревность» («Моя жена привела любовника»). У каждой из этих песен своя судьба. «Призывной возраст» был «гимном всех времен и народов», ее распевали зрители на концертах и после. «Волшебница» несколько лет спустя органично вошла в кинофильм И. Таланкина «Время отдыха с субботы до понедельника». (В этом же фильме многие впервые смогли лицезреть группу воочию – всех участников несколько секунд показывают крупным планом). «Наутилус» довольно часто крутили в дискотеках. «Звезды всегда хороши… ” настолько нравилась Жанне Агузаровой, что позже она записала ее на компакте. «Ревность» звучала почти на всех концертах «Центра» и была одной из любимых Васиных песен. Причем Шумову нравилось время от времени заменять в ней слова в том месте, где герои слушают музыку. Там, в зависимости от настроения лидера группы, могли появиться и «Крафтверк», и Пугачева, и Розенбаум. Романтический настрой альбома очень точно выражают строчки из песни «Наутилус»:
Посторонитесь, тоскливые франты —
В небе парус капитана Гранта!
Мы любим всё – всё, что красиво,
О «Наутилус», «Наутилус»!
Позднее Шумов отмечал, что «Стюардесса» – «альбом, сделанный по наитию» и что в нем он объединил очень разные песни. Во время записи у «Центра» появился свой звукорежиссер – Андрей Пастернак. В его радиорубке ВТО на Пушкинской и были записаны почти все альбомы «Центра» до 1987 года.
Первый альбом еще раз доказал, что Шумов – настоящий лидер группы – все песни сочинил только он (исключение составили «Волшебница», «Эльсида», «Женский марш» («Странные леди»), написанные в союзе с Алексеем Локтевым). Важным этот альбом явился для группы еще и потому, что это был первый опыт целенаправленной студийной работы. Все 16 песен были записаны на двухканальном магнитофоне «СТМ» буквально за два дня. Для особо искушенных меломанов в альбоме был сюрприз – в трех песнях «Стюардесса», «Фонотека» и «Призывной возраст» на соло-гитаре играет Владимир Кузьмин, живший недалеко от Васи и заменивший Валерия Виноградова. (Как переводчик Виноградов уехал на концерты с болгарской группой «Сине-Белые»). Кроме того, в песне «Женский марш» по-моему впервые на нашей рок-сцене используется аккордеон.
Много позднее Шумов так определил значение «Стюардессы» в истории группы: «После этого альбома группа как бы нашла своё место на карте советской рок-музыки. Сразу появились поклонники и почитатели, мне стали звонить из других городов, приглашать на концерты. Помню ребята из Ташкентской области коробку грецких орехов прислали…»
Второй альбом «Центра» «Однокомнатная квартира» появился в моем поле зрения лет через пять после его записи. Этот опус был личным изобретением Василия от начала до конца. Шумов то ли в шутку, то ли всерьез назвал альбом кантатой. Он был записан в декабре 1983 года Василием, Локтевым и музыкантом из группы «Рубиновая атака» Владимиром Рацкевичем (именно на квартире Рацкевича на Маяковской и был записан альбом). Это был чистый эксперимент, как по содержанию, так и по длительности (около 18 минут). Пожалуй, самой сильной песней в этой минималистской работе была песня, давшая название альбому – «Однокомнатная квартира». Хороша и первая Васина миниатюра – «Движение» («Лифт») с вокалом Алексея Локтева. Сравнив искрометный романтический первый альбом с мрачным и однообразным вторым опусом «Центра», уже тогда, в 1983 году, многие меломаны поняли, что Шумову суждено быть «белой вороной» в серой стае собратьев по перу и струнам. Столь радикально отличающиеся по духу записи тогда никто не делал. Насторожились и коллеги-музыканты. Подобно Джонатан Ливингстон (чайке из произведения Ричарда Баха), Шумов явно не хотел подчиняться законам «стаи».
Все ждали, что «Центр» «учудит» в следующей работе. Электронный (!) альбом «Чтение в транспорте» (март 1984г.) был записан также на квартире Василием вдвоем с Локтевым. Комната, которая одновременно была и студией, была предоставлена приятелем Шумова Юрием Царевым. Шумов выступил в роли автора и продюсера. Не знаю как для других, но для меня эта работа была настоящим прорывом, открытием, тем более, что слушал ее я сразу после «Стюардессы». Сочетание Шумовского речитатива с электронными пассажами Локтева произвели очень сильное впечатление своей новизной и гармоничностью. Вот, например, как начиналась песня «Когда приходит Щеголь»:
Свет почти не виден за задернутой шторой,
Стены поглощают любой шорох,
Пальцы бесшумно листают журнал каких-то мод.
Дверь не закрыта, зеркало разбилось.
Бутоны пионов ревниво распустились,
Календарь не хочет знать, какой сейчас год.
Но больше всего мне до сих пор нравятся песни «Чтение в транспорте» и «Багровое сердце». Причем, в последней Шумов и Локтев использовали монтаж стихов разных авторов, в том числе строк Н. Гумилева. Помните? – «И если я живу на свете, то лишь из-за мечты…» Неплохо получилась новая версия известной когда-то песни «Эх, Андрюша!» На ее основе в популярной тогда телепередаче «Веселые ребята» появилось что-то наподобие сегодняшних видеоклипов. Это тоже был новый опыт на телевидении. Необычным в альбоме было и наличие миниатюр – коротеньких музыкальных сценок. Многие мои знакомые говорили приблизительно следующее: «Вообще „Центр“ я не понимаю, но их миниатюры – это класс!» Шумов рассказывал, что миниатюру «Вспышка» хотели использовать в фильме «Асса». Создатели фильма предложили сделать из нее 4-5-минутную композицию. Василий отказался, объясняя это тем, что это нереально и при длительности более 35 секунд она просто теряет оригинальность и смысл. Так ни о чем и не договорились.
К сожалению, ни «Однокомнатная квартира», ни «Чтение в транспорте» не получили известности и их до сих пор слышали, пожалуй, лишь самые преданные почитатели «Центра».
Гораздо популярнее оказался четвертый альбом – «Тяга к технике» (июнь 1984 г.). Наверное, потому, что стилистически он был как бы продолжением первого альбома. Очень похожи звук и интонации. Наиболее запоминаемыми оказались песни «Я все умею», «Фотолаборатория», «Одинокий Сергей», «Мальчик в теннисных туфлях». Их Шумов включал почти во все свои концертные программы того времени. Мне кажется, после выхода «Тяги к технике» у «Центра» появился реальный шанс не то чтобы стать популярным, но, по крайней мере, стать стабильным составом высокого уровня. Но… стабильности состава как раз и не было. Летом 1984 года Шумов остался вдвоем с Валерием Виноградовым. Появление нового барабанщика Александра Васильева ситуацию не спасло. Кроме того, 1984 год оказался в целом годом наиболее неблагоприятным для отечественной рок-музыки. Слова «сократить, запретить, разогнать» были наиболее употребляемыми по отношению к рок-группам. Именно в это время «Центр» выгоняют с базы – ДК «Яуза». Причем, явных причин для этого не было. Просто кто-то «сверху» позвонил и сказал: «Убрать!». Ретивая дирекция Дома культуры (!) дошла при этом до прямых оскорблений, и именно тогда Василий не раз слышал в свой адрес слово «фашист». Более нелепого обвинения в адрес романтика Шумова, чья мать жила в оккупации, придумать было просто невозможно. И именно в это время всем ансамблям было предписано петь песни только (!) членов Союза композиторов СССР. Именно в это время появляются газетные публикации, о которых я уже говорил. Вася шутил, что не отчаиваться в этой обстановке ему во многом помогало пьянство, очень распространенное тогда в среде рок-музыкантов.
С другой стороны, было ясно, что все происходящее – абсурд и долго продолжаться не может. Его надо было просто переждать. Шумов решил – раз говорят петь песни советских композиторов – давайте их петь. И «Центр» в 1984 году делает программу советских песен (которая спустя год выходит альбомом) под названием «Любимые песни». И это тоже был по существу первый серьезный опыт обращения рок-музыкантов к песенной классике 60-70-х годов. И опять-таки очень жаль, что очень мало людей слышали Шумовские версии песен «Черный кот», «Как прекрасен этот мир», «Последняя электричка», «Атомный век» и др. Для меня этот альбом много значит и потому, что доказал, что при всех новомодных веяниях отправной точкой творчества «Центра» все-таки является отечественная эстрада. (Понимаю, что тут могут быть и другие мнения)
В этом же году состоялся кинодебют «Центра». На «Мосфильме» вышел довольно интересный фильм И. Таланкина «Время отдыха с субботы до понедельника» с Баталовым и Стржельчиком в главных ролях. Причем, в начале предполагалось, что музыку к фильму напишет Альфред Шнитке. Он же рекомендовал «Центр» для участия в съемках, так как хорошо знал группу в связи с участием в ней своего 17-летнего сына Андрея, который около года играл на гитаре. Впоследствии сложилось так, что Альфред Шнитке из фильма вышел, а Таланкин остановился на Шумове и Локтеве как композиторах для фильма. Песня «Волшебница» и ее мелодия неплохо вписались в общий сюжет фильма и можно было говорить об успешном дебюте «Центра» в кино. Кстати, позднее Шумов всегда с благодарностью вспоминал Альфреда Шнитке, так как он «неплохо просветил в плане современной академической авангардной музыки». Василий переписывал пластинки из его коллекции и получал разъяснения – что к чему.
В январе 1985 года «Центр» завершает запись одного из своих самых оригинальных альбомов под названием «Цветок и мотылек». Дух романтики, лирики здесь проявился на 120%. Вышло нечто совершенно необычное для отечественной рок-сцены. Сами участники группы отмечали наличие в нем большого количества музыкальных удач и открытий. Я бы отметил еще и очень качественное сведение записи Андреем Пастернаком. Вообще, «Цветок и мотылек», может быть, самый стильный альбом, несмотря на большое количество композиций (13) и сравнительно небольшое время звучания (около 30 минут). Мне особенно нравятся песни «Цветок и мотылек» («Я горжусь своим соло» – говорил позже Виноградов),«Подземный ход», «Испаньола» и «Развлечения по понедельникам», а также 6 сценок-миниатюр, которые прославили «Центр» не меньше, чем песни. Обращает на себя внимание присутствие короткого момента женского вокала («Цветок и мотылек»), принадлежащего «Берте» (Татьяне Диденко) – давней знакомой Василия.
Через полгода «Центр» продолжил свое наступление на романтику альбомом «Признаки жизни», записанным в очень короткий срок Шумовым, Васильевым, Виноградовым, Чуриловым и Скляром. Альбом примечателен тем, что записан при самом активном участии Александра Скляра как автора и исполнителя. Три его песни «Ночь после лета», «Дилара», «В ожидании сна» никак не портят общей картины, вокал Александра делает песни «Центра» более разнообразными, а потому и интересными. Кроме того, в альбоме пять песен написаны на стихи Евгения Головина – Васиного знакомого поэта и очень интересной личности. Лучшими песнями я считаю: «Бледно-зеленые цветы», «Мауна Лоа», «Скрыто от глаз» и «Признаки жизни». В последней из этих песен Шумов очень удачно использует прием постепенного нарастания экспрессии с эффектной концовкой:
Нервы как-то привыкли к снотворному порошку.
Но даже в клетке пантера готова к прыжку.
Исчезает Венера. Появляются птицы.
Признаки жизни.
Признаюсь, было странно впоследствии слышать от Шумова и Виноградова не слишком лестные отзывы об этой работе. Они почему-то считают альбом серым и скучным. Может быть суть дела заключалась в том, что вернувшийся из Кореи Александр Скляр стал играть слишком большую роль в творчестве «Центра». Как-никак, а половина песен альбома именно его. Можно было предположить, что «двум медведям» в одной «берлоге» ужиться будет очень трудно. Они и не ужились. После некоего конфликта А. Скляр покинул «Центр» и создал свой ансамбль – «Ва-банк». Лично мне «Признаки жизни» очень нравится. Гитара на нем звучит просто изумительно. Присутствие двух соло-гитар (Виноградов, Чурилов) позволило использовать такой прием как дублирование партии (например, октавами или квинтами). Так у нас, по-моему, до этого никто не играл.
В отношении следующей записи под названием «Учитесь плавать» (январь 1986 года) мнение всех едино – это высшая точка в развитии первого состава группы, который я лично связываю с именами Шумова и Виноградова. Валера Виноградов так и сказал однажды: «Учитесь плавать» – это как «Let It Be» у Битлов». Он же вспоминает, что в ходе записи была восхитительная атмосфера и все испытывали настоящий подъем. Валерий особенно выделяет песни «Рита», «Белое и зеленое», «Учитесь плавать» и «5 к 1». Для Шумова более важной оказалась песня «Между прочим», поскольку «таких песен раньше у меня не было». Ну, а мне более симпатичны «Пение путешественника», «Кони Йото» и «Марианская впадина». В последней песне Василий вновь очень удачно использует строчки Игоря Северянина – своего и моего любимого поэта.
Пять песен в альбоме – на слова Евгения Головина, в том числе и заглавная, давшая название альбому. Кстати, это словосочетание «Учитесь плавать!» многие годы спустя интенсивно эксплуатировал Александр Скляр, организовав серию концертов и выпустив несколько компактов. В принципе, оценивая творчество «Ва-банка», внимательно присмотревшись к его истории можно предположить, что такая же более-менее удачная судьба вполне могла сложиться и у «Центра», выбери Шумов однажды какой-либо компромиссный вариант сотрудничества с А. Ф. Скляром. Я даже подозреваю, что это получилось бы гораздо мощнее, чем у «Ва-банка». В том числе и в коммерческом плане. Но это я так, – для разминки ума. Знаю, что для Шумова этот вариант был с самого начала совершенно неприемлем. Как в творческом, так и в плане личных взаимоотношений.
Если задать Василию вопрос о том, какой год в его судьбе и истории группы можно выделить особенно, подозреваю, что он вполне может назвать 1986-ой. В личном плане – это, конечно, довольно неожиданная женитьба в октябре на миниатюрной брюнетке француженке Анне. А в творческом – это фактический распад «романтического» состава «Центра». Так угодно было судьбе, что в начале года «Центр» представлял собой только трио: Шумов, Виталий Чурилов и Александр Васильев. Конечно, это был удар для группы. Но Шумов не был бы Шумовым, если бы и в этой ситуации не нашел для себя выход. Для него было ясно одно – играть по-старому было уже невозможно. Василий начал поиски новых путей развития «Центра».
Осенью 1986 года он реализовал свою давнишнюю идею сделать рок-оперу на стихи французского поэта Артюра Рэмбо – своего давнего кумира. Перевод стихов Рэмбо сделал Евгений Головин, человек, во многом влиявший на литературные пристрастия Василия и имевший в андеграундной среде кличку «Сильвер». В основу композиции положены стихотворения А. Рэмбо «Пьяный корабль», сонет «Гласные» и фрагменты из сборника «Озарения». Идея была великолепной не только потому, что имелся первоклассный исходный материал. Шумов задумал привлечь к созданию спектакля многих известных музыкантов, которые сразу откликнулись на его предложение. Так, после нескольких репетиций на суд зрителей, собравшихся в ДК им. Курчатова, было представлено уникальное действо, участниками которого были В. Шумов, П. Мамонов, Ж. Агузарова, А. Борисов, С. Летов, А. Троицкий и другие менее известные лица. Конечно, будучи незаурядными личностями, они внесли свой неповторимый шарм (Троицкий, например, забыл слова, Агузарова была, как всегда, эксцентрична, А. Борисов сверхэмоционален и т. д.). Действие сопровождалось световыми эффектами с демонстрацией слайдов. В целом, несмотря на некоторые шероховатости, это был серьезный шаг вперед в отечественной рок-музыке, существенное расширение ее диапазона и первый опыт Шумова в создании театрализованного представления. Жаль, что спектакль «Артюр Рэмбо» прошел всего лишь раз, а его запись практически не сохранилась. (Только через десять лет Шумов, пытаясь сохранить музыкальную и текстовую основу, вернется к этой работе и запишет компакт-диск.)
В июле 1986 года он записывает очередной альбом под названием «Замечательные мужчины». Совершенно другой гитарный звук, новые гармонии, новое настроение. Можно ли считать, что с романтикой и лирикой покончено навсегда? Конечно, нет. Они просто перешли в другое состояние, наполнились новым смыслом. У «Центра» всегда были удивительно емкие и точные названия песен, только перечисление одних названий говорит о многом с точки зрения изменений в творчестве Шумова: «Бездельники», «Сердцебиение», «Бесполезная песня», «Жалобы» и др. Зрители, слушатели, поклонники группы к таким изменениям конечно готовы не были. Ну, действительно, вместо энергично-ироничной пятерки модников на сцене вдруг появилось меланхолическое трио. Поклонники «Мальчика в теннисных туфлях» явно не воспринимали созерцательность «Сердцебиения». И именно после выхода «Замечательных мужчин» Шумов почувствовал, что «публика начала от нас уходить». Неблагоприятным фактором для «Центра» было и то, что как раз в это время начали падать всевозможные запреты и в массы хлынул поток коммерческих составов, которые на какое-то время переключили на себя внимание слушателя. Кроме того, при записи этого альбома Василий впервые выступил как продюсер, взявший на себя всю ответственность за звучание группы. Шумов очень гордился этой новой ролью и считал, что с записью «Замечательных мужчин» «Центр» поднялся на качественно новую высоту. Мне особенно нравятся первая и последняя песни: «Влюбленный Вася» и «Тургеневские женщины».
Реализуя накопленный материал, в этом же году Шумов записывает свой первый сольник – «Мой район». По звучанию он очень напоминает «Однокомнатную квартиру». Да и темы песен тоже чем-то перекликаются. Для автора это был чистый эксперимент – со звуком, с тембрами, с записью и сведением.
Выход альбома еще раз подтвердил фантастическую работоспособность Шумова как человека и как музыканта. С другой стороны, мне кажется, альбом еще раз подтвердил кризис группы (а значит и творческий кризис Шумова). Обозначилось некое топтание на месте, торможение в развитии.
«Мой район» Вася записал исключительно самостоятельно, выступив и в роли автора, и в роли исполнителя, и в роли продюсера. В отличие от гитарного альбома «Замечательные мужчины», «Мой район» – чисто электронная запись с минимальными эффектами. Особенно удачными Шумову казались песни «Мой район», «Феномены», «Сказки Андерсена» и «Квартиросьемщик». Одна песня – «Мудрость» была записана на слова известного поэта Николая Кузанского. Впоследствии Василий уверял меня, что его сольник пользовался в то время большим успехом, нежели альбомы «Центра». Что ж, как говорится, «жираф большой, – ему видней». Кстати, о распространении записей. Василий всегда удивлялся тому как люди узнают о музыке «Центра»: «Я ни разу в жизни не наклеил ни одной фотографии на кассету. У нас нет ни одного отпечатанного на машинке репертуара этих альбомов. Вообще – ноль. Конечно, у меня есть какие-то знакомые – два, три человека, которые интересуются музыкой и, в частности, „Центром“. У них наши альбомы есть – переписали. Всё. Как уж они оказались во Владивостоке – я не знаю».
Вторая моя очная встреча с «Центром» на концерте произошла в том же 1986 году, в январе. Мне удалось попасть на Старый Новый год, проводимый Единым научно-методическим центром (ЕНМЦ) г. Москвы. По существу этот концерт дал толчок к созданию интересного и своеобразного объединения московских групп – рок-лаборатории. Многие в последние годы стремились как-то «лягнуть» комсомол за его якобы неблаговидную роль в становлении отечественной рок-музыки. Конечно, всякое было, но я могу привести много примеров когда комсомольские функционеры того времени активно поддерживали самодеятельных рок-музыкантов (часто рискуя карьерой). Мне кажется, правильнее говорить о карьеристах-формалистах – с одной стороны, и творческих людях – с другой, не связывая это с какой-либо партийностью или профессией. И первые, и вторые есть в любых партиях и везде в жизни… Пишу об этом потому, что на тот концерт в ДК им. Курчатова я попал только благодаря помощи незнакомых ребят из Московского городского комитета ВЛКСМ.
Уже на подступах к ДК было ясно, что здесь будет происходить событие неординарное – толпа молодежи, присутствие многих известных личностей (целый десант музыкантов из Питера во главе с Майком Науменко), бесконечные попытки найти лишний билетик, пролезть в окно или по лестнице. Довершала эту картину общего ажиотажа скромная пожарная машина недалеко от входа – кто-то подстраховался…
Помнится, нас, зрителей, очень долго продержали в фойе. Именно в это время, бродя по зданию, я нос к носу столкнулся со многими отечественными рок-звездами, тогда еще не знакомыми широкой массе трудящихся. Особенно запомнился одинокий худой парень в черном костюмчике и таких же черных сапожках. Пиджачок поверх футболки с надписью «Cats», черные перчатки с обрезанными пальцами, октябрятский значок, настороженный взгляд – Костя Кинчев! Его облик я хорошо знал по фотографиям моего знакомого Жоры Молитвина (о нем чуть ниже). Так вот, в зале мы с Кинчевым оказались на соседних местах. Съежившись глубоко в кресле, Костя очень внимательно и никак внешне не реагируя смотрел на происходящее на сцене. Интересно, о чем он думал?
Приведу список групп, участвовавших в концерте, и посвященному читателю сразу все станет ясно. «Вежливый отказ», «Ночной проспект», «Молодость», «Звуки Му», «Центр», «Николай Коперник», «Мануфактура», «Бригада С», «Браво». Ну как?! Наверняка истинный меломан много бы дал, дабы присутствовать на том действии. Концерт в двух отделениях продолжался довольно долго, так как каждой группе отводилось около двадцати минут.
Очень сильное впечатление произвел «Ночной проспект». Трио в составе Алексея Борисова, Ивана Соколовского и Наташи Боржомовой играло удивительно стильный, ритмичный рок-н-ролл с элементами твиста и «новой волны». Характерной в этом отношении была песня «Ансамбли», которая долго «сидела» в голове после концерта. Оригинальное сочетание фонограммы, женского вокала с живым синтезатором заставило меня запомнить ансамбль и пригласить впоследствии в Смоленск. (Правда, это произошло через два года, и тогда «Ночной проспект» Борисова вновь удивил сменой музыкальных ориентиров. Но это уже другая история).
Другим ярким впечатлением явилось выступление «Звуков Му». Их я тоже впервые увидел живьем. Неподражаемая пластика и мимика Петра Мамонова моментально «завели» зал. Ничего подобного я раньше не видел. Пронзительно жалостливая песня «Консервный нож» («Коля») привела зал в неописуемый восторг. В этот момент я четко понял, что рок-короли существуют не только на Западе.
«Центр» выступал где-то в середине концерта. «Васята», закончившие запись альбома «Учитесь плавать», были вчетвером, и на каждом – шикарный зеленый шарф! Сам «предводитель» в одной из песен (кажется, это была популярная в 60-х годах песня «Снятся людям иногда…”) взял в руки аккордеон, чем вызвал немало криков одобрения. Кроме того, «Центр» спел «Мауна Лоа», «Признаки жизни», «Бледно-зеленые цветы» и очень сильно «Багровое сердце» («Я живу на континенте, а ты – где-то в море…”). Я никогда раньше не слышал ни одной песни Шумова с такой сильной экспрессией, с такой энергетикой, подкрепленной мощной мелодией. Этот концерт был, кстати, последним выступлением в составе «Центра» Валерия Виноградова. Трения, начавшиеся в его отношениях с Василием, привели к такому, в общем-то плачевному, результату.
Очень тепло был принят ансамбль со звучным названием «Бригада С». По-моему, это было чуть ли не первое выступление нового коллектива во главе с Г. Сукачевым и С. Галаниным. «Моя маленькая Бэйби» – напевал зал хором. Я же с удивлением обнаружил в составе «Бригады» экс-барабанщика «Центра» Карена Саркисова. Оказалось, что после службы в армии его место в «Центре» было занято Александром Васильевым, чей старший брат тоже играл когда-то с Шумовым.
Истинный же успех был у «Браво». Выкатившаяся колобком шустрая и обаятельная Ивона Андерс (Ж. Агузарова) своим звонким голоском окончательно покорила публику и дала понять организаторам концерта, что все их труды были не напрасными. Более того, мне показалось, что этот фестиваль рок-лаборатории доказал, что самодеятельность уже настолько профессиональна, что этот профессионализм неминуемо преодолеет все барьеры и выйдет на широкую публику. Так оно впоследствии и оказалось. И еще у меня сложилось впечатление, что в профессиональном плане «Браво» и «Звуки Му» обошли «Центр». Я тогда надеялся, что это была временная сдача позиций.