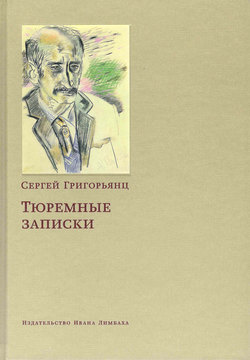Читать книгу Тюремные записки - Сергей Григорьянц - Страница 11
Глава I
Первый арест
Новая камера, новые уговоры и попытка вербовки
ОглавлениеИз карцера, где я провел дней десять, я попал в новую камеру – теперь уже тщательно подобранную. Там были люди, шедшие по более серьезным, чем золочение куполов и кража шапки, делам. Самым достойным был Юра Анохин, автор стихотворения в поддержку восставшего народа в Венгрии, прочитанного на собрании в Московском университете. За это он уже получал срок. После отставки Хрущева его не только освободили, но и реабилитировали, так что теперь он сидел с нами как бы по первой «ходке».
Был еще какой-то инженер (нефтяник, по-моему), который из ревности убил свою жену, нанеся ей множество ножевых ударов; мы с ним были сперва в хороших отношениях – интеллигентный мужик такой, московский.
Был один опытный уголовник, который умел договориться с охраной, с МВД. Он рассказал мне, как можно, опустив смятую монету в автоматическую камеру хранения и сделав ее неработающей, узнать, какой номер на действующей камере наберет человек, оставляя свой багаж. Мне было очень интересно – я надеялся, что когда-нибудь начну писать детективы. Был один высокий парень, который служил в армии чуть ли не на Северной Земле и которому пришили зверское убийство, совершенное в его части. Потом выяснилось, что в части царил поголовный разврат, так что на него просто повесили это преступление.
Еще был тоже недавний солдат, который служил в Москве в каком-то строительном спецбатальоне. И вся его воинская часть, расположенная где-то на Преображенке, кажется человек шестьсот, – поголовно и с ведома начальства – по ночам занималась кражами и грабежами. Каждый солдат, возвращаясь после «охоты», должен был дать дежурному офицеру бутылку коньяка. Тот, видимо, передавал ее сослуживцам и начальству. Причем у каждой группы были свои интересы. Мой сокамерник рассказывал о группе, которая регулярно обчищала склад какой-то московской гардинной фабрики. Грабили они его раз десять, начальство не заявляло о грабежах, да и когда солдаты были пойманы, никакой недостачи там не обнаружилось. А попались они на том, что однажды так набили рулонами ткани багажник такси, что багажник сам открылся и кто-то из водителей, ехавших позади, это заметил и сообщил куда следует. Но мой сосед входил в группу, которая грабила по ночам продуктовые магазины. Его специализация была стоять «на стреме», то есть чуть вдалеке от магазина, и жалобы, которые я по его просьбе писал, начинались с того, что он, увидев, что готовится преступление, не захотел принимать в нем участие и даже довольно далеко ушел, но не знал, куда идти, и только поэтому был арестован. Я знаю подробности, потому что нередко помогал писать жалобы.
Единственным недостатком этих жалоб было то, что ограбленных магазинов было несколько, а каждый эпизод приходилось начинать с того, как он решил уйти от преступников. Результаты их грабежей оказались совсем не такими, как на гардинной фабрике. Директора магазинов охотно указывали, какое чудовищное количество продуктов было украдено. Сотни бутылок коньяка и дорогих вин, сотни же килограммов ветчины, буженины и других самых дорогих продуктов. Причем ко времени инвентаризации после грабежа их действительно не оказывалось в наличии в магазинах. Но судил солдат Московский военный суд, который в те времена был приличнее остальных. Ссылаясь не столько на показания солдат, которые говорили, что почти ничего не брали, сколько на практический подсчет того, что могло поместиться в их рюкзаки, да и вообще, сколько килограммов и бутылок могли унести четверо молодых людей, суд раза в четыре сократил объемы похищенного. Как потом выкручивались директора магазинов – не знаю. Вообще из тюрьмы советская жизнь выглядела совсем иначе, чем из официальных источников.
Я много читал. В тюрьме и писатели и книги воспринимаются совсем иначе, чем на воле. Скажем, талантливые ранние рассказы Алексея Толстого оскорбительно поражают поверхностностью и легкомыслием, которые прежде не были так заметны. Зато отчетливо всплывшее в памяти «Приглашение на казнь» Набокова – писателя мной не любимого, казавшегося холодным, рассудочным и вообще не русским, внезапно начинает поражать своей догадкой (откуда она у него?) о стремлении «сотрудничества» палача с жертвой, попыткой установить близкие дружеские отношения. Я о Набокове вспомнил, пробыв около полугода в тюрьме, увидев нескольких следователей, охранников и «наседок» и почти от каждого, как и в последующие долгие годы, я слышал одно и то же: «Почему вы нас за людей не считаете?» – все они хотели быть со мной если не в дружеских, то в «хороших» отношениях.
Такое же удивление на всю жизнь (откуда он мог это знать?) вызвал какой-то случайный детективный роман Пристли, где сыщик-любитель, когда преступник оказался в тюрьме, спрашивает знакомого полицейского: «Ну, теперь вы все подробности будете знать, в тюрьме он все расскажет», а полицейский отвечает: «Никогда нельзя заранее знать, как поведет себя человек в тюрьме». Я, всегда считавший себя слабым («молодец среди овец», единственный мужчина в женском семействе), и не предполагал, что не буду бояться следователей, уголовников – соседей, провокаторов и, как потом выяснилось, – смерти. И вдруг именно так все и оказалось – и к моему удивлению и к удивлению тех, кто меня арестовывал. И потом всю свою жизнь я убеждался, что и сам человек, и хорошо знающие его люди не могут заранее просчитать, каким он окажется в тюрьме.
Три книги для меня оказались внутренне очень важными. Одной была сказка «Аленький цветочек» в полной ее, взрослой, редакции, с жесткой, суровой фразой Аксакова: «Лишь того Бог человеку не пошлет, чего человек не вынесет». И уже упоминавшийся мной рассказ Мельникова-Печерского о старовере, проведшем по ложному доносу 25 лет на каторге с важной для моих собственных размышлений темой, в чем я действительно в своей жизни виновен, – все это никак не соприкасалось с моим внятным и жестким отношением к следователям: не им меня судить. Особенно любопытным оказался какой-то изданный в 1930-е годы краеведческий сборник о ярославской старине. Один из помещенных там очерков был о том, как в конце XIX века в Ярославле умер палач. Российское Уложение о наказаниях, хотя давно не включало в себя смертной казни, но предусматривало за несколько преступлений телесные наказания, для чего в Ярославской губернии и был старенький палач, которому два-три раза в год приходилось сечь плетьми осужденных. Когда он умер, оказалось, что, несмотря на полагавшиеся ему от казны домик и немалое жалованье, несмотря на объявления в губернских газетах, ни одного желающего на эту должность найти не удается. И тогда Министерство внутренних дел России пошло на беспрецедентную меру: по всей России в тюрьмах и на каторге заключенным предлагали освобождение, если они согласятся занять место в Ярославле. И в течение целого года ни один каторжник по всей России на это не согласился, а до 1905 года, когда телесные наказания были отменены, в Ярославль, если возникала нужда, приезжал по железной дороге палач из Москвы. Мой тюремный и лагерный опыт был, конечно, недостаточен, но я уже хорошо понимал, какая выстроилась бы очередь в Советском Союзе; да и позже, в Ярославской колонии, не раз слышал от соседей, что они, сообразив по советским газетам, что в Анголе и Мозамбике воюют советские войска, писали заявления с просьбой послать их туда: «Можно убивать и грабить, и ничего тебе не будет».
Главным моим сокамерником, ради которого я и был в нее помещен, оказался некто Лева Аваян. Сначала я думал, что Лева – это сокращенное армянское имя Левон, но потом выяснилось, что полное имя его Лаврентий. Говорящее, как оказалось. Он считался одним из обвиняемых, которых регулярно возили в городской суд по «делу прокуроров». Прокуроров этих, за крупные взятки закрывавших уголовные дела, было человек десять, связанных между собой круговой порукой. Наиболее важным был заместитель генерального прокурора РСФСР, которого, правда, не судили, а отправили на пенсию, но по делу этому проходило в качестве обвиняемых человек двадцать из разнообразных советских структур, откуда прокуроры и получали взятки. Аваян считался почему-то сотрудником московской филармонии и для затравки рассказал мне, как развлекаются известные советские актеры. Я эти рассказы слушал со скукой, поразил меня (и потом я его вспомнил на собственном опыте) совсем другой – о том, что родители сотни заключенных, погибших в Златоустовской тюрьме, едва не взяли ее штурмом.
В этой тюрьме начальником по режиму («кумом») был садист, развлекавшийся тем, что в старом здании с толстыми стенами, где в карцерах было по две решетки на окнах – внешняя и внутренняя, а между ними – почти метровое пространство стены, запирал зимой между этими двумя решетками (у внутренней был свой навесной замок) заключенных. И они замерзали, одетые в хлопчатобумажные брюки в сибирские пятидесятиградусные морозы. Так этот негодяй убил около ста человек, пока не оказалась под следствием покрывавшая его сеть прокуроров.
Но рассказы Аваяна были лишь дополнением к трогательной (якобы из национальной общности) обо мне заботе. Для начала он подыскал мне удобное место в камере, потом как-то сумел помочь получить от жены первую за несколько месяцев вещевую передачу – до этого мне приходилось постоянно перестирывать единственные, почти превратившиеся в лохмотья трусы. Как-то Лева тихонько отвел меня в сторону и сказал, что может передать записку от меня жене. Что их постоянно возят в суд на «воронке» с одним и тем же шофером, и Лева смог его уговорить передавать записки своей жене; теперь она сможет передать записку и моей. Что ж, замечательное предложение. Я взял тетрадный листик в клеточку и мелким почерком на каждой строчке подробно описал свою тюремную жизнь. Он как будто неохотно взял у меня эту записку, а вскоре сказал, что был какой-то неожиданный обыск и пришлось бросить ее в бак с бензином. Проходит дней десять, Аваян опять предлагает мне написать жене. Я опять беру листик бумаги в клеточку и мелким почерком на каждой строчке подробно описываю тюремную жизнь. Тут уже он заглядывает через плечо: «Да ты не это пиши. Ты пиши, с кем надо повидаться, кому что передать, кого предупредить…»