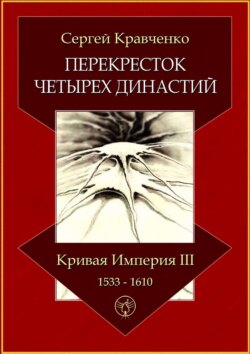Читать книгу Перекресток четырех династий. Кривая империя – III. 1533–1610 - Сергей Иванович Кравченко - Страница 6
Перекресток четырех династий
1533 – 1610
Достойный повод выпить
ОглавлениеОпричнина налетела так стремительно, что мы чуть было не проехали мимо великого события в жизни нашего Писца. А дело было так.
Ранним утром 1 марта 1564 года Писец наш Федя прибыл натужной иноходью к нам в палату и замер у теплой стеночки – то ли больной, то ли хмельной. Мы с Историком как-то сразу почуяли: случилось страшное. Историк под пенсне подобрел глазами и стал кругами приближаться к Писцу, который морщил в руке какой-то листок.
«Кальтенбруннер женился на еврейке» – вспомнилось мне.
Тем временем, Историк уже поил Писца компотом, гладил его по сутулой спине, ласково уговаривал не грустить. Тут и я подошел. Взятый из костяной десницы листок оказался цветным титулом церковной книжки. И был он не писан. А был он печатан! И видно это было даже без пенсне. И почему-то от этого стало в палате жутко.
Историк умно уговаривал Писца, что объективная необходимость в распространении православной литературы как раз и привела в середине 16-го века к возникновению русского книгопечатания. Писец хрипел, взвизгивал горлом и никак не мог проикать запутанную фразу, что «ныне древлее летописное узорочество иныи от лукавого восхищахом».
Тут и я бестактно встрял, чтоб ты, Федя, не грустил, потому что все прогрессивное человечество, как раз намедни справило столетний юбилей книгопечатания. Коварный немец Гутенберг из Майнца давным-давно похитил твое древлее девичество, или как там ты говоришь. Так что под Парижской Бога Матерью тамошние квазимоды бойко торгуют своими католическими библиями, апулеевскими Золотыми Ослами и другой порнографией. Писец стал попросту выть в голос.
Нужно было спасать человека.
Пришлось мне отжать Историка и потащить Федю вниз, на самое дно московской жизни.
Оттуда запомнилось мне сумрачное мартовское солнышко в слюдяном окне шалмана, плавно оказывающееся Луной. Да девка какая-то вполне шемаханского вида все представлялась Шахерезадой и что-то предлагала на брудершафт. И Писца от этого немецкого слова рвало. А хозяин шалмана все подливал нам в глиняные чашки скользкую зеленую дрянь. И становилось Феде все хуже и хуже. И уже не плакал он, а только шептал: «Ты меня уважаешь?». И я понимал, что он сомневается в уважении не к себе лично, потрепанному придворному писателю средних лет, а ко всем тысячам безымянных Писцов, согнувших свой горб за веру, царя и отечество.