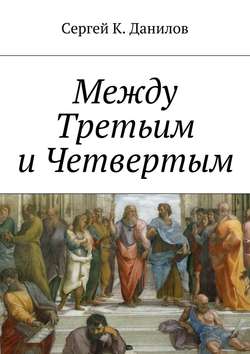Читать книгу Между Третьим и Четвертым - Сергей К. Данилов - Страница 2
1. Вещая Дарьюшка
ОглавлениеЖила-была старушка по имени Дарьюшка. Была она одинокая, ни детей не имела, ни семьи, ни родственников даже самых дальних, перебивалась с хлеба на квас в маленьком домике на окраине города, между Третьим и Четвёртым Прудскими переулками, по нашей улице.
До выхода на пенсию работала Дарьюшка на дезостанции, успешно справляясь с ежемесячным планом уничтожения крыс, тараканов и прочей нечисти, согласно заявок общепитовских точек, детских садов да общежитий. За труд свой к праздникам получала небольшую премию – рублей десять-пятнадцать. Так и жила на зарплату с добавкой, а летом – ещё на своих овощах с огородика, в собственном доме о две комнаты с кухней одна-одинёшенька и горя не знала. На пенсию вышла, оказалось пособие по старости до смешного малым, честно говоря, вовсе не прожиточным: двадцать два рубля без пятнадцати копеек. Тут уж делать стало нечего, пришлось пускать квартирантов в одну комнату за десять рублей в месяц.
От постной жизни начали сны ей вещие сниться. Однажды рассказала ближней соседке Анне Фроловне, будто привиделся ночью академик научный, да не один, с важным генералом в придачу. Академик совсем невзрачный, дохленький такой, сутулый, чуть ли не горбат, а вот умеет так ногой специально топнуть, что Америка той тряски сильно пугается. Будто бы топнул опять академик-герой ножкой сухонькой, землю встряхнул знатно, что вихорь чёрный поднялся до самых небес и давай в округе заборы ломать, деревья валить, провода электрические рвать, генерал тому порадовался, налил академику стопочку коньяка армянского. Стоят они, выпивают – празднуют победу. А генерал из себя ничего – справный мужчина. И говорит академик тост: пусть бы, дескать, всегда мне ножкой топать по родной землице приходилось, дабы свои заборы ломались от ударной волны ядерной, а не чужие стены, и тем самым обходиться без международных конфликтов! На что генерал ему ответил: «Куда тебе скажут, штафирка, туда и топнешь! Пей давай, не умничай!» На что академик, конечно, обиделся, а коньяк всё одно выпил, потому что любил очень.
– К чему может быть такой сон?
– Несуразное видение, – подумав, высказалась Анна Фроловна, – ни к селу ни к городу, совершенно бессмысленное. Ну, сама рассуди: пришла бы ты, допустим, к нам в гости, налил бы Кузьма коньячку армянского, пусть даже пять звёздочек, закуску на стол выставил и вдруг обозвал тебя штафиркой, разве стала бы ты пить с ним тот коньяк?
– Ещё чего не хватало! – нахмурилась Дарьюшка.
– Ну вот. А тут академика – штафиркой, а он бы, значит, вам улыбался, заздравно чокался, коньяк тот лакал и не поперхнулся? Чёрт-те что, несуразица сплошная.
Однако Дарьюшку сон не отпускал, измучилась, голову ломая так и этак, пока не сообразила, что видение прямо в руку шло: ведь и правда зачастили последнее время в их сибирской природе небывалые прежде землетрясения. А коли тряхнёт земельку под ногами сегодня, жди в скорости бури чёрной, несущей тучи чернозёма с поднятой целины кулундинской, казахстанской, семипалатинской, даже если полное безветрие на дворе стоит. Начала Дарьюшка ураганы предвещать, уговаривать соседок не вывешивать после тех трясений малозаметных стираное белье в огороде сушиться – унесёт обязательно завтра вместе с веревкой к чёрту на кулички, не найдёте бельишко, а коли сыщите, так будет чёрное, придётся потом два раза перестирывать. И точно, подтверждались слова её тютелька в тютельку, словно и впрямь академик-герой топал где-то по родной землице. Стали соседки Дарьюшку вещей кауркой величать ради смеха, а потом и не до смеха стало.
Тогда же сделались с ней на диво приветливы сестры-богомолки, снующие туда-сюда по церковным делам день-деньской проворными мышками-норушками, на старости лет будто близняшки, хотя Марфа старше Екатерины лет на пять. Обе согбенные, от постов истощенные до крайности, в тёмные одежки с головы до ног облачённые, да укутанные настолько плотно, что в жаркую летнюю пору невольно сочувствием проникаешься: как бедолаги не сгорели, не задохнулись в чёрной упаковке шерстяной? Одни глаза из-под низко повязанных платков истово горят, фанатично. Закружились вокруг Дарьюшки, принялись с двух сторон уговаривать завещать имущество: «А мы за тобой, как заболеешь, ходить станем, призреем, причастим, схороним по всем правилам, службы за помин души батюшка справит наилучшим образом, так что митрополит позавидует, молитвы поминальные читаться будут до скончания века по рабе божьей Дарье».
Усомнилась пенсионерка: не рановато ли? Вроде жизнь организму покуда терпимая, нога правая сильно побаливает с утра, а днем расходишься, так и ничего, если рюмочку где в гостях подадут – спляшешь веселья ради. Напомнили тогда сёстры во Христе с укором про игольное ушко, через которое верблюду легче пролезть, чем скупому в рай попасть, на что Дарьюшка ответила суховато, что верблюдов тех, по слухам, плюющих в лицо человеку целым ведром слюны, слава богу, в глаза не видывала. Не зналась с подобным скотом, не из нашей они жизни – в городе нынче и козы днём с огнём не сыщешь, свинюшки ни у кого нет с курёнком. По велению родной партии полностью живность изведена и уничтожена. Так что ей эти присказки совершенно ни к чему, ибо смысла они реального не имеют.
Следует уточнить: из себя Дарьюшка не велика фигура – росту низенького, одёжку предпочитает немарких цветов ближе к линялому, донашивает всё из прежнего, нового ничего давным-давно не покупает и на вид самая что ни на есть обычная старушоночка-прихожанка, но церковь посещает лишь на Крещение, когда полночи за святой водой в очереди стоит, еще на Пасху сходит – куличи освятить – и достаточно. А главное, помирать не думает собираться, хотя на здоровье каждый день соседкам жалуется. Укорили богомолки Дарьюшку недостатком истинной веры, намекнув, что при окончательном расчете на том свете много угольков достаётся тому, кто в церковь не ходит, о смерти неминуемой ежечасно не размышляет и к ней заблаговременно не готовится. Но разъясните, добры люди, какая после многолетнего стажа на дезостанции с дустованием отхожих мест может возникнуть у человека вера в райское блаженство?
Отослала сестер-богомолок по делам их духовным бегать далее, а сама, конечно, призадумалась вечером: возраст уже и правда серьезный, пенсионный: кто упокоит, поминки закажет, (похорониться-то мечтала по-христиански, раз во младенчестве крещёная), кто опять же воды подаст на смертном одре? Жила у неё на тот момент прачка Полина, женщина весьма здравого поведения. С лица воды, конечно, не сильно напьёшься, зато компаниями развесёлыми не обременённая и по кинотеатрам шибко не бегавшая. Иногда в воскресенье на утренний сеанс сходит, вернётся, всё обскажет в подробностях, как, что и почему на экране показали, одним словом, – приличная женщина, от бедности своего угла не имеющая. За рабочий день ухряпается квартирантка в прачечной, настирается там до отвала, придёт домой – начинает Дарьюшке помогать: ужин готовит, печку топит, снег кидает или огород поливает, носки вяжет, да мало ли какой работы в хозяйстве. А отдыхает, как и Дарьюшка, сидя за столом, глядя на улицу через окошко, спектакль по радио слушая и семечки щёлкая. Главное – пьянки-гулянки абсолютно её не волнуют, живёт себе и живёт в степенной здравости, никуда не торопится.
Договорилась с ней Дарьюшка, чтобы взяла она на себя последние хлопоты, за это подписала завещание на движимое и недвижимое имущество на её имя, у нотариуса заверила, не поленилась, по закону оформила, как меж честными людьми делать полагается. И даже порадовалась втихомолку за квартирантку: так-то одинокой, без крыши над головой трудненько замуж выйти по нынешним послевоенным обстоятельствам, а тут окажется со временем женщина в своем домике законном, то, может, и найдётся кто подходящий. Умрёт Дарьюшка, похоронит её Полина чин чинарём и, ради бога, пусть своей семьей тогда обзаводится. Что для осуществления этих мечтаний надобно самой отдать концы, нимало не расстраивалась, хорошо ведь простым людям известно: когда время придёт – никто спрашивать не станет, хочешь ты дальше жить или надоело в белый свет зенки пялить. Дезинфектор тоже, небось, не шибко расспрашивает тараканов, как они на свое будущее смотрят. Раз попали в план работы, значит сдохнут сегодня, никуда не денутся.
Опыт всей предыдущей жизни говорил Дарьюшке, что верхний боженька относится к собственным созданиям не добрее, чем специалист в резиновых перчатках к мухам в отхожих местах: не глядит при этом ни на какое их поведение – ни на хорошее, ни на плохое. Дедунька выучил Дарьюшку Писание читать, псалмы петь, а где тот дедунька, где тятя с мамой? Где сестренки с братишками и прочий деревенский люд, рабы божии? Пришли дезинфекторы-комиссары Ленин-Троцкий со Сталиным, вымели Род на лесоповал, отдали упырям-уголовникам на съедение, никого нынче в живых не осталось, одна Дарьюшка случайно вырвалась – может одна из тысяч, – бросившись от насильников в широкую северную реку, холодную, как Ледовитый океан, туда и втекающую. А мучения крестьянские много страшней были, чем сын божий Христос на кресте претерпел, куда как ужаснее. Даже сравнивать нечего, забыть бы бог дал, а вот не даёт, мучает памятью вечной.
Если боженька един всех создал, зачем так над ними распорядился, коли правда милосердный и всех любящий отец? Чтобы и спустя много лет она молчком трепетала денно и нощно? Если бог весь Род уничтожил, значит, не их он бог оказался, может, конечно, кого другого, но не наш, чужеродный. Настоящий родной бог уродов да выродков, законы преступающих, наказал бы, а Род сохранил. Этот – дурной суд произвёл, жестокий, вражеский, уродов размножил неимоверно, власть им дал народ до конца до края мучить. Без нужды в нем Дарьюшка нынче.
Что касаемо смерти, здесь главное, чтобы в гробу пристойно лежать, чтобы все соседи пришли проститься, духовой оркестр похоронный марш сыграл и возле дома на выносе, и на кладбище, чтобы у провожающих слеза ненароком навернулась, на поминках вспомнили добром, тогда и хорошо будет, значит, жизнь прожита не зря. Что до прочего – суета сует и всяческая суета, так в Писании дедусином верно было сказано. Раздумается-размечтается Дарьюшка о своих достойных похоронах, что будет лежать она вся в белом, чисто невеста, пусть и в церкви отпоют, если денег на то у Полины достанется, и необыкновенно радостно на душе сделается: спокойно, умиротворённо, слеза чистая пробьёт, аж всплакнёт втихомолку от счастья. А следом встрепенётся старушка, спохватится: пенсии в последнее время ни на что не хватает, как бы промашка не вышла с белыми одеждами, заветный денежный платочек весь растаскала на самые насущные нужды.
И вот приснопамятно буйным да жарким летом нежданно-негаданно потеряла Дарьюшка свою квартирантку Полину Феофанову – прачку банно-прачечного комбината тридцати пяти лет от роду, в одиночестве замкнутую на рукоделии, которой сама незадолго перед тем, по собственному желанию, завещала в письменном виде состояние. Лето выдалось чересчур лихое – от того и случился полный разор в хозяйстве. Вдобавок к ураганам нагрянули грозы июльские с молыньями в полнеба, от чего многие огороды оказались выбиты под корень. Издревле знамо, что наказанье небесное полосой ходит: у одного ничего не тронет, у другого – живого места не оставит, так бывают и у дезинфектора огрехи в работе, чай не железный. Картошка на полях сильно пострадала, значит – жди: цены взыграют осенью. Власти на кукурузе помешались, из Москвы сибирские колхозы заставляют новую культуру выращивать под страхом военного коммунизма, хлеб из магазинов пропал, снова очереди люди затемно у дверей занимают, задолго до открытия, стоят, ждут, Никиту ругают, анекдоты про него сказывают. Много анекдотов, и все на одно лицо, словно бы под копирку сделаны. Карточек в мирное время ещё не ввели, но дело к тому движется семимильными шагами.
Памятное утро выдалось солнечным, спокойным, земля прежде не тряслась, и день обошелся без светопреставления, лишь ближе к вечеру заморочало на горизонте со всех сторон сразу. Быстро-быстро наползла с запада страшным дьяволом туча чёрная, американским атомным авианосцем затмила белый свет, поднялся ветер ниоткуда, резко стемнялось, дождище ливанул, морозным хладом с неба дохнуло. Быть граду! Сломя головы кинулись жители в огороды: кто половиками прикрывать посадки, кто старым хламом, да хоть пачкой газет «Правда», – побьёт ведь последнее, придётся зимой лапу сосать.
На двухэтажном казённом бревенчатом доме, что по Четвёртому Прудскому стоит уже лет пятьдесят, не меньше, ударно громыхнула крыша от налетевшего шквала: раз, и другой, и третий… Оторвались железные листы с одного ската от досок и давай на ветру трепыхаться, скрежеща большой железной птицей, что изо всех сил мечтает взлететь в поднебесье. Без крыши нынче остаться горше, чем без овощных запасов, лучше сразу окончательно и бесповоротно погореть, чем под непрерывными дождями гнить многие лета. Где железа листового достать? Или шифера да хоть рубероида какого, гвоздей? Ничего же нет в магазинах, всё как градом выбило в революцию раз и навсегда.
В доме том две семьи жили сверху, две снизу. Выскочили на улицу, кто в чём, не до огородов им стало, когда недвижимость последняя на небеса улетает: бегают бабы со старухами, кричат, переполох подняли, лестницу тащат ставить. Поставили. Бросился наверх фронтовик Скурихин, самый безрассудный, а потому против всех послевоенных правил одинокий в гражданской жизни человек, с полным ртом ржавых гвоздей и молотком наперевес. Только на крышу выскочил, гвоздь изо рта дёрнул, молотком нацелился лист под собой обратно к доске пришпилить, тут же очередной порыв рванул, вся крыша вмиг вздёрнулась, поднялась на воздух, лязгая Змеем Горынычем, да как наподдаст железным хвостом фронтовику, тот аж выше конька и подлетел. Лестницу от дома прочь отбросило. На дорогу падая, переломилась пополам. Кувыркнулся в воздухе фронтовик котом бывалым, с крыльца пнутым, хорошо хоть на край крыши грохнулся, а не вниз ушел. Плашмя, всем телом, руками, ногами, лицом об железину трахнулся. Распластался, лежит, хочет весом полотно на месте удержать. Куда там! Лёгок больно пьющий без закуси человек, худой, но боец прирождённый, пока жив – сражается молчком: с морды кровь хлещет, а гвоздей изо рта не обронил. Молотком колотит, нет, не успел наживить, опять хлобыстануло, подкинуло, ударило, и ещё, и еще… Издевается железный дракон над фронтовиком, ровно фашист, футболит, пинает его так и этак в воздухе, вниз пасть не даёт. Уж, кажется, вся крыша, все листы ржавые мокры стали от крови, а не дождя.
Видя такое дело, бегавшие внизу закричали в голос, что крыша улетит и фронтовик с ней, да разобьётся. Заохали бабки, завыли, схватили растрёпанные головы: «Что же это такое делается? А? Божье наказание, не иначе!» Дурачок Федя, как всегда под вечер, дождь ему не дождь, бредущий по дороге в баню с сумкой и березовым веником (в конце смены банщицы позволяли Феде помыться бесплатно, а мыться дурачок любил больше всего на свете), заплакал, замычал, указывая пальцем вверх.
– Что, Федя? – спросила одна женщина убогого. – Жалко тебе человека?
Федя завыл нечленораздельно, слезы брызнули из глаз. Говорить он не умел.
– Ишь ты, как переживает, сердешный. Иди Федя домой, какая нынче баня? Иди, а то вымокнешь весь.
Крышное железо реяло выше дома гремящим полотнищем, оторвавшись повсеместно до самого конька, подкидывая фронтовика вверх, ловя и снова подкидывая. Бывалый повар так орудует сковородой у себя на кухне, переворачивая блин на лету, с пылу с жару.
– Ох, убьётся!
Но фронтовик помирать не собирался: летал, бился и ждал минуты, когда шквал хоть немного стихнет, гвозди у него по-прежнему крепко сжаты стальными зубами, молоток держит наизготовку. Таких фронтовиков, яростных, по тому времени кругом (в смысле: субботним вечерком у винного ларька) пруд пруди, да каждый первым готов в атаку рвануть, все единым духом живут. За войну Скурихин Иван поднялся из рядовых в капитаны, ротой браво командовал не в силу успешного выбора диспозиции (карту еле читал), а за счёт особенной своей холодной ярости на поле боя, которую умел сдерживать внутри до нужного момента. Зато, когда следовало ударить, бил своей ротой так, что вонючий смрадный фарш из немецких батальонов делал. Пришел с фронта победителем, жена перед ним встала на пороге, опустив руки и голову, дрожа осиновым листом, винясь, что в военное лихолетье сходилась с непосредственным начальником по службе и жила с ним целый год, так тут же, тут же выгнал вон и жену, и дочь, минуты на сборы не дал. К чёртовой матери!
Предупреждали соседки: ты накорми сначала, приголубь, потом кайся. Нет, убоялась, что со стороны кто первый доложится, тогда вояка без разговоров прибить может, а бывали ведь случаи, скажете, нет? То-то и оно, что бывали. Срочным образом пришлось гражданочке к родителям эвакуироваться в другой город. А фронтовик остался жить фон-бароном в казённой комнате один-одинешенек и вечно в свободное от работы время в какие-нибудь передряги вляпывается: то мирит кого по пьяной лавочке или, напротив, встает на защиту, когда видит, что бьют втроём одного. А может, и за дело учат уму-разуму, за воровство, к примеру. Так нет, не спросясь летит заступаться по дурной привычке к справедливой честности, а морда всегда здорово в ссадинах по выходным бывает.
В понедельник с семи часов утра Скурихин – первоочередной посетитель банного отделения, затем парикмахер стрижёт ему чёткий полубокс, бреет опасной бритвой с роскошной белой пеной, одеколоном взбрызнет – и пожалуйте: чистый, аккуратный служащий, при галстуке, идёт в плановый отдел завода проектно-сметную документацию на счетах считать, хотя у самого четыре класса церковно-приходской школы. Но до утра понедельника дожить ещё надобно, пока субботы вечер, а уже вся морда расхристана в кровяку, летает над крышей Иван Евсеич, спасает мирную жизнь и справедливость от природного издевательства.
Пока летал, успел разглядеть на соседнем квартале в огороде женщину меж помидорных кустов, которая набрасывала на них домотканые «кружки», спасая будущее пропитание от крупного, с голубиное яйцо града, громко сёкшего ржавую крышу, что вознамерилась нынче, пользуясь подходящим моментом, сорваться куда подальше в далекую распрекрасную жизнь, где бы её красили хоть раз в три года суриком. А где его взять, тот сурик, в кукурузном государстве всеобщего и поголовного дефицита? Чай, не подсолнух, на огороде не растёт. «Ловкая какая! – успел восхититься фронтовик, распнутый в очередной раз хвостом железной птицы, приглядываясь к далёкой фигуре и белым оголённым выше колен босым ногам. – Надо будет наведаться как-нибудь в гости, познакомиться честь-честью, а то сплошной непорядок: ходим друг мимо друга, киваем иногда, а по имени не знаем. Нехорошо». Упал опять и, словив момент, принялся быстро-быстро-быстро колотить вокруг себя по кругу гвозди, вгоняя их с двух ударов.
Не успела гроза толком стихнуть, лёд ещё лежал на улице сплошным слоем длинными полосами, а мальчишки кидались им, норовя зафинтилить товарищу прямо в лоб, тогда шишка обеспечена, а синяка не будет, как направился фронтовик с ополоснутой, но не засохшей толком мордой, в новом шевиотовом костюме при галстуке к домику Дарьюшки, будто кто его желал изо всех сил обогнать, а он про то прекрасно знал и очень торопился успеть первым под раздачу.
И вот, буквально за несколько следующих дней так у них серьезно закрутилось, что в результате осталась Дарьюшка при своих интересах без доверенной квартирантки. Вышла прачка замуж в тридцать пять лет за фронтовика, гвардии капитана, ныне начальника планового отдела Скурихина и даже впоследствии умудрилась родить ему ребенка. Проводила Дарьюшка жиличку с квартиры по-доброму, приданое выделила немалое: две подушки, три стула с высокими спинками. Три – для перспективы, намечая наследника, а сменных комплектов спального белья дала два, зато оба почти новые, всего раза три стираные, вручила для счастливой семейной жизни, прекрасно сознавая, что простой женщине сегодня замужем лучше оказаться, чем с её недвижимым наследством неизвестно когда.
Повторила тихо, значительно, про то, что «выйти замуж – не напасть, как бы замужем не пропасть», намекая на неровный характер Скурихина, его воскресные подвиги в среде фронтового братства. Прежняя-то подруга убежала с одного взгляда, шмутки ей муженёк в окошко на улицу выкинул, минуты на сборы не дал. Ой, смотри, Полина, потом поздно будет… Нет, всё одно распрощалась прачка с Дарьюшкой. Ну, дай бог, дай бог. Осталась без наследницы, а завещание отменять не стала, пока другого человека подходящего не найдётся. Вечером того же дня пошла муки набрать в кладовку, – лепёшку испечь, хрясь!! – доска половая провалилась. Полетела Дарьюшка скрозь пол, чуть ногу не сломала. Хотела выбраться – крайние доски тоже ломаются кромкой льда у весенней полыньи.
Значит – всё напрасно. Как ни протирала керосином доски, ни скоблила ножом белый налёт, взял свое грибок, съел пол, сожрал, гад бессовестный! Хрустят плашки от легкого веса Дарьюшки. Доползла еле-еле до бачка, открыла, а муки-то и нет. Последнюю выскребла прошлый раз, и где брать – непонятно, не продают никакой мучицы, даже самой тёмной, солоделой – шаром покати. Вот и подняли целину, герои. Засадили земли широкие бескрайние кукурузой, долины речные и поля по приказу, а пшеницу, говорят, начали покупать в Канаде. Но куда тот пшеничный хлеб девают? У нас его давненько не видели. Зачем только пустили Никиту в Америку? Давно ведь известно, что пусти дурака богу молиться – он и лоб расшибёт. Колхозы под линеечку американскую культуру повсеместно выращивают квадратно-гнездовым способом, вызревать она, разумеется, не вызревает, зато хлеба самого обычного, плохонького, по тринадцать копеек, в магазинах днём с огнём не сыщешь, про белый и говорить нечего: на вкус забыли, какой он есть.
За кукурузным пайком, что рот дерёт хуже напильника, с утра очередь страшенная выстраивается. Самая тёмная мучица даже из-под прилавков исчезла продавцам на удивление. В школе ученикам талоны выдают, кило в месяц, якобы клейстер делать для бумажных поделок, а прочим – шиш без масла. На трибуне распевает Никита Сергеевич в телевизор: «И на Марсе будут яблони цвести!» – рукой машет от удовольствия. А вокруг лизоблюды светятся лучезарно космическим счастьем. Им что? У них, небось, кремлёвское обеспечение: каждому по потребностям, уже при коммунизме живут. Дурак ты, первый секретарь, пшеницу с рожью надо на полях выращивать, а не яблони на Марсе!
Где бы досок взять на пол? Мучицы где раздобыть, пусть хоть солоделой, да блинцы кислые мягонькие испечь, поесть, изодранным ртом не мучаясь? Оставила Дарьюшка неприятные думы без ответа, спать легла не емши, припоминая на голодный желудок дрожание почвы: явно академик сухопарый опять коньячку заздравного врезал, теперь жди неприятностей. И точно, в ночь ураган прилетел чёрный, без дождя, повалил забор со стороны Юрочкиных, целиком весь рухнул, и прямо на её огуречную гряду! Вот где тридцать три несчастья! Дарьюшка за голову схватилась.
С утра Юрочкин Семен перелез всем многочисленным семейством на её сторону забор поднимать, подпорки ставить. Столбы в земле сгнили, не держатся ни на чем. Забор с этой стороны считается Дарьюшкиным, ей и ремонтировать его по-настоящему, нанимать строителей, лес искать. Какие расходы, боже мой! На подпорках стоял забор до двенадцати часов дня и от небольшого дуновения полуденного ветра, покачавшись туда-сюда пьяным инвалидом, снова рухнул на огурцы. Делать нечего, бросилась Дарьюшка за стариками-строителями, те пришли, посмотрели:
– Столбики надо новые, – говорят, – эти держать ничего не могут, труха одна, израсходовались полностью.
А где доставать? Ещё трудней задача, чем досок найти. Сжалились старики, натаскали обугленных, но вполне крепких столбиков на плечах аж с Горы, из бора, где тюрьма меняла старый забор на новый: деревянные шестиметровые столбы убрали, поставили бетонные, а прежние в кучу свалили, подожгли. Не успели государственные столбы толком разгореться, как местные жители костер притушили и с риском для жизни растаскали брёвна под собственные нужды. Распилили старики те горелые столбы пополам, вкопали с присказкой «что сгорит, то не сгниёт», забор навесили и ушли. Расплатилась за работу Дарьюшка последними небольшими деньгами, совсем без копейки осталась. Вот умрёшь невзначай ночью – не то гроб купить, яму выкопать не на что будет. А если не умирать, жить дальше, куда как труднее обстоятельства складываются: пол в кладовке надо перестилать, к зиме заготовки делать, машину дров срочно покупать, уголь вывозить, муку для насущного пропитания где-то искать, а пенсию принесут не скоро, и на что, спрашивается, её хватит?
Собрала Дарьюшка с гряды огурцы все подряд, какие наросли: и помятые, и маленькие. Раз плети переломаны – урожая не будет. Отнесла на базар, простояла день, выручила три рубля. Разве это деньги? Нехорошее предчувствие вновь охватило душу – про белые одежды. Ехала Дарьюшка на трамвае с базара вместе с дальним соседом Павлом Петровичем, живущим на другой стороне квартала. Тот простоял день на барахолке, торгуя за дорого большую хорошую перину, но не взял никто. Теперь вёз её обратно – объёмистую, тяжеленную – и был очень сердит. Павла Петровича все звали меж собой Хромым, жену его – Хромой, а вместе – Хромыми, потому что по отдельности они на улице не появлялись, ходили всегда парочкой, и в магазин куда, и в город, и на работу вместе передвигались, в такт, хромая на одну и ту же левую ногу, каждый свою.
Сначала Дарьюшка удивилась, что Павел Петрович подошел к ней на остановке без жены с периной, а потом сделалось стыдно – забыла, что соседка три месяца как умерла от рака. Нынче многие от него мрут. Слоями народ уносят на кладбище. Раньше две-три траурные процессии проходили по улице за день, нынче общей демонстрацией – хмурой ноябрьской – движутся непрерывно, колонны почти не отделяются друг от друга. Спросишь: от чего скончался человече так рано? От рака желудка, ответят, или от злокачественной опухоли, белокровия ли, рака печени, поджелудочной железы. Говорят, что запретят скоро данные процессии проводить, будут быстренько в закрытых автобусах на кладбище покойников разными маршрутами свозить, чтобы не мешали автомобильному движению.
Хромой работал портным в инвалидной артели, основной доход имея с пошива шапок на дому. Ранее к тому же ещё и скорняжил помаленьку, а когда кролей запретили держать, начал шить простые матерчатые шапки, но и на них имелся большой спрос, ибо в магазинах нет ничего абсолютно. А с базара страшно брать: неизвестно, кто носил и чем болел, как-никак Хромой делает из нового материала, так что к нему многие шли поспособствовать незаконному промыслу. Участковый милиционер о том прекрасно знал, смотрел на подпольное дело сквозь пальцы, ибо если Хромой шить не станет, то кто? Раз на барахолку свои изделия продавать не носит, значит, не спекулирует, сидит себе дома, шьёт вечерами и ночами на заказ, а днём в инвалидной артели работает. Вот если бы кто нажаловался в милицию, дескать, плохо ему шапку сшили на дому, написал бы заявление, то имел бы Хромой крупные неприятности в виде тюремного срока. И не за то, конечно, что плохо пошил, а за то, что вообще шил, частным незаконным образом создавая ячейку капитализма. Никто, однако, не жаловался: хорошо Хромой работал, грех жаловаться.
Пока ехали соседи в битком набитом трамвае, стояли рядом. Хромой, прижав перину к стенке, думал о чём-то своём. Когда вышли на остановке, сказал: «Всё, хватит с меня, больше на барахолку не пойду. Раз ничего не берут, чего зря время терять?» Дарьюшка лишь пожала плечами, показывая, что хозяин – барин, а её дело – сторона. С трамвая шли вместе. Хромой тащил перину, надрывался, возле его дома молча кивнули друг другу головами для расставания, Хромой вдруг угрюмо спросил:
– А тебе, Дарьюшка, перина, случаем, не нужна? Хорошая перина, высокая, пуховая, настоящая семейная. Года нет, как пошил. А жаркая какая, с ней печку можно сильно не топить, в неё провалишься – и никакой мороз не страшен. Думал – на всю жизнь хватит, а жизнь-то семейная возьми и кончись. За сорок рублей отдам. Возьмёшь?
– Смеёшься, что ли? У меня за душой и в кармане одно и то же: три рубля мелочи, на базаре огурцы продала.
– А за три рубля возьмёшь?
«Видно, здорово умаялся человек таскаться со своей периной, – подумала Дарьюшка. – А спать без жены на мягком не хочет – тоска съедает».
– Коли решил продать, то возьму, да смогу ли унести, тяжёленная, небось?
– Я тебе её сам сейчас донесу, – обрадовался Хромой.
И правда в дом занёс, на кровать положил, показал, как взбивать надо по утрам, чтобы не слеживалась, стояла высоко и за день просыхала. После чего взял деньги, ушел задумчивый, хромая, как показалось Дарьюшке, ниже прежнего, не сказав «до свидания». Перина оказалась мягкой да жаркой, настоящая, точно, без одеяла спать можно даже пожилому человеку, так в ней вся и тонешь. Спустя неделю или дней десять от силы стучится Хромой в окно с улицы. Дарьюшка подошла, форточку открыла.
– Здрасьте-здрасте.
– Ну, как перина?
– Хорошо греет, спасибо.
А вид скучный у Хромого, как тот раз, когда уходил. Неужто, решил обратно забрать? Старушечьи кости быстро к мягкому привыкли, жаль расставаться будет. Зачем продавал тогда? Так дела не делаются. Дарьюшка слегка осерчала.
– А выходи, Дарьюшка, за меня замуж, – говорит вдруг Хромой.
– Зачем это?
– Будем вдвоем жить.
«Как человек по своей перине скучает, даже жениться готов, лишь бы на ней дальше спать», – сообразила Дарьюшка.
– По перине соскучился, что ли?
– Я же серьёзно говорю, ты мне калитку открой, я зайду, сядем рядком – поговорим ладком.
Тут вещая Дарьюшка проникла в суть дела: сама она виновата, больше винить некого. Размечталась на старости лет о белых одеждах, что будет как невеста, аж виделось ей это, вот до небес и достучалась. Ни о чём ведь прежде высшие силы ни разочка не попросила. Решили, видно, там к ней снизойти хоть в данном вопросе, но так как знают наверху, что денег на похороны у неё всё равно нет, решили венчание устроить для старой девы за счёт хромого вдовца Павла Петровича. Заставили беднягу с периной таскаться на барахолку, её упрашивать купить за три рубля, а теперь вот предложение делать. И всё ради того, чтобы могла она в белых одеждах оказаться. Глянула искоса в трюмо Дарьюшка: боже, стыд-то какой!
– Замуж идти планов у меня нет, тут и говорить не о чем. Раньше было рано, а теперь навсегда поздно стало. Извини Павел Петрович, зря ты по этому случаю пришёл.
Хромой покраснел, набычился. Не ждал человек отказа, рассерчал, а стоит, не уходит. Словно через силу её уговаривает, еле языком во рту ворочает:
– Чего так? Вдвоём, небось, сподручней старость коротать. Я шапки хорошо шью, меня знают, голодать не придётся.
– Не в этом дело. Иди домой с богом.
И закрыла форточку. Раскрасневшись лицом, Хромой вприскочку зашагал обратно. Страшно обиделся человек, жалко его Дарьюшке. Хорошо хоть не понимает, какую дурную работу заставили сверху делать по её вине и глупости.
– Что, – спросила Анна Фроловна при соседской встрече, – говорят, дала Хромому от ворот поворот?
– А к чему народ смешить? Он – ясное дело, по перине своей соскучился. А мне зачем? То-то и оно, что незачем.
Так чуть не вышла Дарьюшка сверхъестественным образом замуж за какие-то три рубля базарным серебром, хотя многие соседки искренне дивились тому, что не вышла. Сама же она прекрасно понимала: будь у неё в тот день рублей хоть с полсотни денег, умерла бы и похоронена была сердобольной Полиной по всем правилам: в белых одеждах с музыкой и слезами. А так – по бедности – жить осталась.