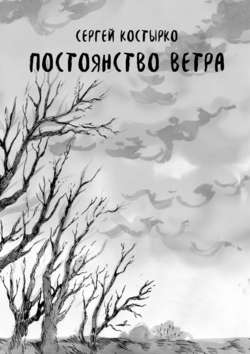Читать книгу Постоянство ветра - Сергей Костырко - Страница 5
1
Тоска по дому
(записи, сделанные в метро)
ОглавлениеПолучается, что спровоцировал просмотренный накануне фильм «Вий», точнее – несколько кадров из него: это когда старые чубатые казаки-поселяне пьют горилку и от того песни начинают петь, обниматься начинают и целоваться, и один даже зарыдал от растроганности. И вот сегодня – пару часов назад – на юбилее дружественного журнала, стоя в компании коллег у стола с закуской, нарушил правила. Принял. И раз, и два, и три. Нет, на песни не потянуло, и не зарыдал я в радостном изнеможении, но почувствовал себя немного поразговорчивее и подоброжелательнее. Даже разрешил себе подойти к А. А., чтобы сказать девушке, какая она сегодня красивая, она улыбнулась, типа, очень приятно, и тут меня понесло, можно сказать, на исповедь повело. Слава богу быстро опомнился, поблагодарил А. А. за терпение, и тихо-тихо, ни с кем не прощаясь выбрался на улицу – во двор театра «Эрмитаж», на Петровку и дальше, по Петровскому бульвару к метро на Трубной, по узкому карнизу тротуара навстречу фарам, низко летящим над землей. И всего-то половина одиннадцатого, но здесь – глухая ночь. 27 октября. Воздух влажный, оттаявший после неожиданных морозов.
…вагон метро разгоняется в пролете между «Трубной» и «Сретенским бульваром». Книгу открыл и закрыл – не сосредоточишься, прочитал только: «слова без звука шевелились на губах» – это про Хому Брута. Поэтому достал блокнотик.
Про алкоголь:
сливается под ботинками в поток темно-коричневая крошка светлого мрамора, – ощущение ног, шагающих отдельно от меня, но при этом ног моих.
Жду поезда. Провал тоннеля с высвеченными арочными креплениями, провода и кронштейны вдоль стены, – сколько лет рассматриваю этот иероглиф, а он по-прежнему нечитаемый для меня. Мгла, уплотняющаяся вглубь тоннеля. В эту мглу мне сейчас погружаться.
Клекот женского голоса рядом, я поворачиваю голову как бы для того, чтобы глянуть, идет ли поезд, а потом, переведя взгляд в стену напротив, рассматриваю только что увиденное: откинутую голову и приоткрытый в безмолвном крике рот парня; взгляд серых глаз девушки, взгляд исподлобья, в упор, и язычок, которым она как будто слизывает с губ только что произнесенное «Господи, как же ты мне остоебенил!» – все вместе: конспект ненаписанного рассказа.
Ну, вот ты и пьяный. И что? А ничего. Просто все объемнее, громче, отчетливее – цвет, жест, звук. Но при этом, все то же: ты и мир. Ты – и – мир. Каждый по отдельности.
О чем на самом деле ты говорил с А. А.?
Все о том же. Пару дней назад случился разговор с В., который вдруг выдал:
– Достали. Больше не могу. Хоть сваливай куда. Вот ты – куда бы ты свалил?
– Никуда. Старый я. Без профессии. Без языка.
– Не увиливай. Представь, что выбора нет. Куда?
– Ну, в Израиль меня не возьмут, кровь не та. Да если б и взяли – климат не для моего сердца.
– Тогда – Украина? Киев?
– Было б замечательно. Но это если бы – два-три года назад. Только вот два года назад и вопроса такого не могло быть. А сейчас, нет. Украинец из меня уже не получится. Я – русский. И хрен объяснишь сегодня, какой русский. Так что некуда. Хотя… Ты удивишься, но…
– Ага, ты сейчас скажешь, Минск.
– Как догадался?
– Ну как же, ты столько раз говорил, как там хорошо, какой душевный вдруг уют почувствовал. И – про библиотеку.
Да, действительно, Национальная библиотека в Минске. Хайтековское сооружение на поляне, ограненное стеклянными плоскостями, образующими поднявшийся над землей гигантский шар. Ромбокубоктаэдр. Внутри этого сооружения, на изгибающихся стенах – фрески с изображениями белорусских просветителей и писателей. И за окнами библиотеки, если смотреть с верхних этажей, новенький спальный район-парк и те же фрески, но, многократно увеличенные, – на фронтонах белых домов. Библиотека вбирает в себя город. Или нет, наоборот, пространство этого города собирается, концентрируется в Библиотеке.
Вот средоточие твоего мира. Потому как книги – это твой способ собирать себя, высвобождаясь от обстоятельств времени и пространства. Твой способ жить. Или это твой способ зажмуриваться? Но даже если и так, уже ничего не поменяешь.
К тому ж Библиотека эта – в городе Минске, в котором я оказался впервые и который вдруг вызвал приступ ностальгии по советским временам и той жизни – жизни под наркозом тогдашних представлений об устройстве мира и людей вокруг, наркозом нашей уверенности в том, что есть народ (и есть ты как часть народа) и есть советская власть, которая народ этот гнобит. Ну, а в Минске время бы чуть задержалось – здесь прочно устроенная поздне-советская жизнь с комфортными вкраплениями века наступившего – мобильниками, интернетом, доступностью поездки в Египет или в Испанию; с малотиражными изданиями оппозиции, так же, как когда-то и у нас, уверенной, что выражает «надежды и чаяния масс». И, соответственно, с анекдотами про «батьку», почти такими же, как в наши времена анекдоты про Брежнева и К°.
Ну и на окраине в новеньком спальном районе его – Библиотека.
Только теперь уже хрен укроешься в Библиотеке от знания, открывшегося тебе, дураку, на старости лет, – знания о том, где ты на самом деле.
Ну а почему – с А. А.? Вспомнилась услышанная от кого-то летом фраза: «Нет, Ани уже нет в Москве. Она у себя в Латвии, на хуторе»? То есть было с кем про Ригу поговорить? Ну а А. А. девушкой оказалась деликатной, слушала меня терпеливо, не мешая по ходу разговора уже мне самому разбираться в том, о чем я говорил.
Я рассказывал ей про Ригу. Про то, что в Латвию меня никогда не тянуло – нынешних литовцев и эстонцев я читал, а на месте Латвии у меня – белое пятно: «спидола» и «рафик»; «латышские стрелки» и смутные воспоминания о городском пейзаже на экране телевизора с пряничными башенками и тяжелыми угрюмыми комодами домов позапрошлого века. И вдруг я оказался в Риге, в командировке.
Поселили меня в «A/H» («Avalon hotel») на краю Старого Города, и я, разинув рот от изумления, рассматривал из окон отеля разноцветные средневековые кварталы, которые, разумеется, были исторической экзотикой, но, как выяснялось, отнюдь не кукольной. Я гулял в каменных щелях средневековых улиц, поднимался на шпили соборов, отогревался – а был конец морозного, солнечного марта – в теплых кофейнях, сидя у окна и щурясь на блеск брусчатки, которой устлана площадь перед Домским собором.
Нет-нет, рижский пейзаж не был идиллией. На второй же день – как обычно в незнакомом городе – я сел в первый же подошедший на остановку возле отеля трамвай, чтобы проехаться от начала до конца, посмотреть на то, что покажет случайный маршрут – потому как случайного, на самом деле, не бывает.
Трамвай прошелся вдоль границы Старого Города, свернул направо, пересек несколько кварталов позапрошлого века и выехал на широкую серую улицу. Слева была какое-то время Даугава за бетонным забором, покрыты граффити, справа тянулись корпуса рижских заводов и рижских фабрик, точнее, останки их. Закопченные стены, забитые наглухо окна, а иногда и не забитые, просто проломы окон с выбитыми стеклами, в которые я, чуть приподнятый над землей трамваем, мог увидеть голые стены внутри и замусоренный пол с остатками креплений для стоявших здесь станков. Ну а когда на противоположной стене этих пустующих помещений были такие же сквозные проемы окон, я видел сквозь них уходящее вдаль пустыри и крохотные башенки спальных районов на горизонте.
Людей на улице, по которой мы ехали, не было. Город был пуст. Все его население ехало вместе со мной в вагоне трамвая.
Мне показывали то, про что мне уже рассказывали рижане: Латвию, которая из процветающей республики СССР превратилась в провинциальную европейскую страну с депрессивной экономикой; дееспособные латыши массово отъезжают на заработки за границу, молодые ученые защищают свои диссертации на английском языке, чтобы обозначить хоть какую-то перспективу для своей работы, и так далее.
Изредка пейзаж за окном трамвая расцвечивался стенами новенького модуля автомойки или какого-то крохотного ремонтного заводика, но чистота его линий и цвета только подчеркивала серо-коричневые тона бесконечной, оставленной людьми промзоны.
И я почувствовал что-то вроде изнеможения, и когда в очередной раз трамвай начал тормозить и с сидений поднялись сразу трое мужчин, я встал вслед за ними. Сошедшие на остановке мужчины деловитой походкой уходили к каким-то воротам, на синей табличке у остановки, на которой я вышел, было написано «Троллейбусный парк». Я остался ждать обратного трамвая. Кроме меня на остановке стоял еще молодой парень в джинсах, в ярко-малиновой куртке и почему-то в ушанке. Висела афиша бит-группы «Секрет», четверо музыкантов с совсем молодыми, а вот здесь почему-то захотелось сказать «новенькими» лицами. Широкая эта улица просматривалась направо и налево как минимум на километр, и на ней – ни одной человеческой фигуры. Только присутствие молодого человека в ушанке рядом заставляло верить, что обратный рейс трамвая все-таки будет.
И в тот же день, под вечер, нагулявшись по людным районам Риге в ее центре, на гудящих от усталости ногах я свернул в средневековые кварталы, чтобы пройти к своему отелю, и через несколько минут увидел в темно-коричневой каменной стене как будто специально для меня открытые двери католического храма.
Я вошел. Синее предзакатное небо над головой сменило небо каменное, распахнулся после тесных улочек неожиданный простор. Нет, ничего такого, чтобы дух перехватывало, в этом храме не было. Ни росписей, ни изощренной лепки, ни огромных картин – белые сводчатые стены уходили вверх, мягкий свет ламп в белых стеклянных колпаках, закрепленных на колоннах, матовый блеск коричневых тяжелых скамеек с высокими спинками; в алтарной стене три узких высоких окна с витражами.
Я сел на скамью сзади у прохода, вытянув, наконец, ноги. Народу было немного. И ни одного туриста – не тот храм. Только местные. Тихий латышский говор. Ждут начала службы. Даже не ждут. Просто общаются – торопиться им некуда. В основном, женщины. В проходах бегают их маленькие дети. Им не надо друг с другом знакомиться. У них здесь своя компания. О чем говорят женщины? Да все о том же, о шарфике, которые разматывает одна и показывает подруге рисунок вязки, о муже, с которым вчера говорила по скайпу, он сейчас в Швеции, про стиральную машину и про учительницу в школе, и про то, что зима уже кончается, и надо думать про лето для дочки. Все это на русский язык легко переводят интонации, с которыми говорят. То есть вокруг – звучание будничной жизни. Которая всегда. Ну да, экономическая депрессия. Проблемы с работой, с заработками. Но, а когда жить было легко? Нормальная жизнь всегда требует усилий, и они эти усилия делают, и у них получается: добротная одежда, спокойствие в лицах, опять же новый шарфик. Маленькая девочка, остановленная мамой, послушно, но неохотно гасит включенный айфон и прячет в карман своей желтой курточки. Я искоса разглядываю появляющихся в дверях женщин, и не вижу на их лицах привычной у меня на родине торжественности прихожанок, наблюдающих в этот момент за Собой, Входящей В Храм. Эти кажутся абсолютно естественными. Как вот этот мужик по соседству, не торопясь протирающий и пристраивающий на носу большие роговые очки и опускающий голову к раскрытой на коленях книге. Все дело как раз в будничности происходящего вокруг меня. И легко, без какого-то напряга, без восторженного воспарения я вдруг осознаю, точнее, ощущаю, что да, это их Дом. Люди, на которых я сейчас смотрю, приходили в него и сто, и триста лет назад; и так же бегали дети по проходу, так же щупали женщины друг у друга шарфики и так же осматривались случившиеся в этом городе инородцы, зашедшие погреться в Храм. Сейчас на кафедру выйдет священник, и они все соединятся. То есть, жизнь вообще не может остановиться. Почему? – я не знаю, но мне и не надо сейчас знания, достаточно, остроты этого ощущения.
«Короче, Аня, – говорил я, – вот в этот момент я вдруг обнаружил себя в Доме. Нет, не в своём. Но это уже не важно. Важно, что в Доме. Дом есть. Вот у этих людей есть. А значит и для меня, оказавшегося здесь, он тоже есть. Пусть как для гостя».
А. А. слушала, А. А., похоже, понимала, хотя, возможно, удивлялась, чего это он? Нашел место и время.
Я спросил, ну а у тебя какое ощущение, когда ты приезжаешь к себе в Латвию?
И А. А. сказала:
– Мне становится спокойно.
Умница – интонация та же, что и у женщин в храме, который я вспоминал. Как будто вместе там побывали.
Ну, пусть так. Хотя бы так. Потому как тебе уже не найти Дом, в который войдешь своим. И дело уже не в храме или твоей невоцерковленности. Ну, вот что, например, ты делаешь сейчас, в вагоне метро, тормозящем на станции «Борисово» (следующая – твоя)? Что делаешь ты, выпивший водки, то есть заторчавший, наконец, чтобы слиться с миром? А вот это и делаешь: записываешь в блокнот себя – отслаиваешь себя от…