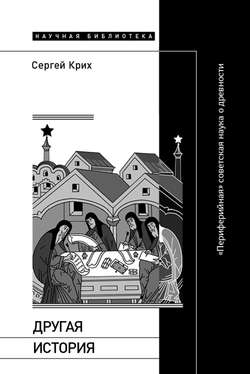Читать книгу Другая история. «Периферийная» советская наука о древности - Сергей Крих - Страница 3
Часть первая.
Периферия как катастрофа
ГЛАВА 1
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ ДОСТАЛИНСКОГО ПЕРИОДА
ОглавлениеИспользуя понятие «досталинский период», я подразумеваю под ним время до конца 1920‐х гг. – не только потому, что затем произошло окончательное и безальтернативное утверждение Сталина на вершине советской политической системы, но и потому, что только начиная с конца 1920‐х гг. в руководстве наукой все более последовательно станут проявляться черты новой унифицированной политики. Сложнее говорить о начальной точке периода: ясно, что в первые годы Гражданской войны победа советского правительства была совсем не очевидной, а общее состояние экономики и общества вскоре прервало издания по истории древности. С этой точки зрения более адекватным будет начинать период примерно с 1919 г. и завершать его 1929 г., когда «Академическое дело» завершило игру советского правительства в «кошки-мышки» с окончательно ослабевшей Академией наук и открыло широкий простор для переформатирования науки.
Для главной темы книги разговор об этом времени играет роль введения в проблему: я намереваюсь показать ниже, что это было время еще до формирования центра и периферии в советской науке о древности, а по сути дела и время, когда советской науки о древности как целостной традиции просто не существовало.
Уместно начать этот разговор с характеристики состояния науки в указанный период. По теме существует целый ряд общих и более частных исследований5, что позволяет сказать здесь кратко только об основных тенденциях. Они заключались в том, что, с одной стороны, научное сообщество было в заметной мере ослаблено и фрагментировано после периода Гражданской войны: многие историки погибли, уехали, потеряли возможность заниматься любимым делом – с особенной силой это сказалось на историках «ненужных» эпох, ведь классические образование и наука ассоциировались у большевиков прежде всего со старым режимом и его идеей (нужно признать, бездарной), что изучение латыни (и вообще «консервативных» предметов) вместо технических специальностей сможет затормозить рост революционных настроений в среде образованной молодежи. Более того, вся история человечества вплоть до современных революционных движений теперь выглядела как неактуальная, а те, кто ее изучал и преподавал, – как представители старого мировоззрения, несущие не только бесполезное, но иногда даже и вредное знание. Это были главные причины, по которым возможности для занятия древней историей сузились6, история как отдельный предмет в школах уступила место обществоведению, что означало для многих представителей науки необходимость уходить от узкой специализации (к которой они стремились до революции с целью достичь глубоких знаний в избранной теме) и искать способы для того, чтобы заработать на жизнь.
С другой стороны, новые условия еще не означали неограниченных возможностей для становления и развития марксистской версии исторического процесса. Для этого было мало кадров, которые бы могли представлять изучение древней истории на достойном уровне с точки зрения материализма, и не было ясного представления о том, каким образом это исследование должно было организовываться со стороны государства. В целом установка сводилась к частичному использованию «старых специалистов» и постепенному взращиванию новых кадров. Первое воплощалось в сложном сотрудничестве с Академией наук, второе – в учреждении Института красной профессуры (основан в 1921 г.; отдаленной схожестью обладала основанная в 1918 г. Социалистическая академия, с 1924 г. называемая Коммунистической), а нечто среднее – в образовании в 1919 г. Российской академии истории материальной культуры, с 1926 г. реорганизованной в Государственную академию истории материальной культуры (похожим учреждением был и Институт истории РАНИОН7). Особенной структурой был специально созданный в 1920 г. институт по изучению творчества основателей марксизма, тогда называемый Институтом Маркса и Энгельса, позже дополненный Институтом Ленина, но наиболее известный под аббревиатурой ИМЭЛ – Институт Маркса–Энгельса–Ленина (с 1931 г.). В любом случае названные здесь примеры – это не описание системы научных институций, а иллюстрация того, что системы как таковой не существовало. Специально историей древности никакое заведение первоначально заниматься не обязывалось, но общая ориентация на изучение разных эпох оставляла для этого определенные возможности8. Со временем появляются отделы и секции, в которых древняя история начинает фигурировать как ветвь специализации9.
Тем самым древностью можно было заниматься в том числе и там, где появлялась возможность связать ее с какой-либо иной темой. Например, когда академик Николай Яковлевич Марр в 1921 г. учредил Яфетический институт для развития своей языковой теории, он исходил из того, что для наработки знаний об истории языка требуется сформулированный им «палеонтологический метод» – по факту это означало, что филологи-классики или ориенталисты могли вписаться в это широкое движение10.
Симптоматично, что Яфетический институт, вскоре и в самом деле ставший частью Академии наук, первоначально обосновался в комнате на квартире самого Марра. И даже когда институт уже был официальным учреждением, в нем было много сотрудников, которые работали на долю ставки или вне штата.
Логика хотя бы частичной самоорганизации тоже была одной из черт того времени. Отсутствие официальной специализации подтолкнуло к возникновению более свободных форм работы по типу кружков, а также организации неофициальных научных докладов и даже научных защит (при отсутствии возможности давать ученые степени). Наиболее значимым примером может служить случай Египтологического кружка при Ленинградском университете (хотя фактическим его центром был Эрмитаж), основанного в 1927 г. Судя по протоколам, инициаторами создания кружка были М. Э. Матье и И. М. Лурье11.
Египтологический кружок обзавелся собственным сборником – с 1929 по 1931 г. было осуществлено девять тоненьких выпусков, причем первые из них писались от руки, а затем размножались на гектографе. Интересно, что значительная часть в основном небольших статей (почти все посвящены египтологии, хотя есть и работы ассириолога А. П. Рифтина) писалась на немецком, немного на французском и английском языках – конечно, это в некотором отношении тренировка по преимуществу начинающих ученых, но еще и желание видеть свои работы в контексте мировой науки. Желание, нужно признать (вслед за А. О. Большаковым), вполне наивное – кружок возник под самый конец периода относительной открытости и неформальности науки и был обречен на роспуск. В некотором роде он был последним проявлением науки ради науки – в его ранних выпусках и тематика, и исполнение работ – исключительно конкретно-исторические, тем более и объем не предполагал долгих вступлений и рассуждений. И только в выпуске от 1930 г. появляется упоминание теории Марра, поданное как обязательная программа исследований – марризм к тому времени уже был признан частью марксизма12.
Впрочем, до конца 1920‐х гг. должны были произойти некоторые изменения, которые подготовили подобный итог. До них ситуация была настолько неопределенной, что существовали даже попытки ввести в научный оборот теорию Н. А. Морозова (1854–1946). Последний, как известно, выступал за радикальный пересмотр древней истории и хронологии – точнее, фактически за отмену древности. В 1920‐х гг. он выпустил свои труды, в том числе семитомник «Христос. История человечества в естественнонаучном освещении» (1924–1932), что вызвало решительную отповедь13. Показательно, что отсылки к авторитету марксистских теоретиков в этом споре не использовались.
Впрочем, поэтическая астрономия Морозова – это скорее вторичное проявление духа времени, по сути лишь подтверждающее то, как много черт предыдущей эпохи еще могли воспроизводиться в 1920‐е гг. – ведь работы Морозова выходили и до революции и вызывали в целом те же самые возражения.
Гораздо более существенной чертой периода было то, как происходила эволюция исторического нарратива. Можно сказать, что сосуществовали два разных типа повествования, ни один из которых не преобладал и не был до конца оформлен: претендующий быть «новой» наукой конспект уже известных сведений об истории, преемственно развивающийся из дореволюционных марксистских трудов и сильно ориентированный на отслеживание социологических закономерностей14, и несколько откорректированный «старый» тип повествования, редуцировавший дореволюционные разнообразные рассуждения о смысле истории15 и сконцентрированный на живой и непосредственной передаче образа прошлых эпох16.
Тем интереснее попытки некоторого сближения обоих названных типов. В 1924 г. профессор Харьковского университета Е. Г. Кагаров (1882–1942) написал брошюру о Спартаке, вышедшую в серии библиотеки еженедельной всеукраинской газеты «Юный Спартак». Конечно, ни о какой научной стороне этого произведения речи идти не может, а неряшливое, хотя и легкое перо Кагарова подточило и популяризаторские его достоинства17. Неудивительно и то, что граждан республики он называет «жестокими римскими буржуа»18, поскольку в это время представление об аналогии между античным и современным империализмом еще не было определено как антимарксистское.
Более примечателен тот факт, что Кагаров, марксистом на тот момент не являвшийся, стремится построить свое повествование в духе, который понравится заказчику. Он делает акцент на жестокой эксплуатации рабов как основной причине восстания и на героизме восставших как основной характеристике его протекания. То и другое подано в утрированном изображении. Эксплуатация рабов описывается в смене нескольких тезисов: римляне презирали труд19, рабов было во много раз больше, чем «богачей», раб считался ниже животного, рабы были дешевы, их тело и сама жизнь подвергались постоянной опасности из‐за хозяев. Героизм подан прежде всего через образ Спартака, хотя Кагаров и не забывает сообщить, что тот был «только орудием недовольной массы угнетенных, он стал выразителем этой массы, и поэтому масса пошла за ним»20, тем не менее именно Спартак становится идеалом лидера, сочетающего совершенную физическую силу, полководческий дар и даже понимание исторического моменты: «он понимал, что Рим еще пока не изжил самого себя, что еще не наступило время для настоящей революции»21. Наконец, в Фуриях Спартак и вовсе заложил основы справедливого общественного устройства, при обрисовке которого Кагаров не стесняется использовать штамп из другой революционной эпохи: «объявил для всех невольников свободу, равенство и братство, изгнал из обращения золото и серебро, установил дешевые цены на продукты»22.
В этой книге пока нет обязательного для более поздних очерков о Спартаке указания на тупиковость развития рабского строя и попыток более сложно объяснить расколы в войске восставших, но она иллюстрирует то, как примерно Кагаров объяснял себе, что же произошло в его собственной стране в последние годы.
Конечно, не все историки с дореволюционным образованием были готовы писать по-новому23, но если они хотели оставаться в профессии, то им приходилось сталкиваться с повышенным вниманием со стороны учащейся молодежи (комсомольского актива) и со стороны администрации. Наиболее известным примером является история давления на Сергея Александровича Жебелёва (1867–1941) – одного из самых заметных филологов-классиков предреволюционной эпохи. Жебелёв не только писал труды по древнегреческой истории, но также переводил классических авторов, редактировал переводы современных зарубежных историков, долгое время был редактором отдела классической филологии в «Журнале Министерства народного просвещения». Из наиболее ярких петербургских историков древности своего поколения он был единственным, кто не умер (как Б. А. Тураев) или не уехал (как М. И. Ростовцев), так что его авторитет был высок, а потому и давление на него оказывалось совершенно сознательно.
Жебелёв был избран академиком только в 1927 г., но еще по старым правилам24. Позже, когда он опубликовал в эмигрантском сборнике некролог академику Я. И. Смирнову (1869–1918), это вызвало настоящую травлю в конце 1928 г., в том числе и в прессе: порицался и сам факт публикации, и то, что он был напечатан вместе с белоэмигрантами, и то, что назвал годы Гражданской войны «лихолетьем», а М. И. Ростовцева – своим другом25. Жебелёву пришлось отрекаться от друга и оправдываться за свои слова. Очевидно, что такие происшествия крайне затрудняли научную деятельность, морально надламывали человека.
При этом следует указать и на то, что в научном сообществе тех лет было ограничено действие механизмов научной репутации: работа об Эхнатоне солидного египтолога Ф. В. Баллода (1882–1947) была отвергнута Государственным издательством, зато напечатана на ту же тему книга раскритикованного учеными, в том числе Д. М. Петрушевским, В. И. Авдиева (1898–1978)26. Предисловие к ней написал И. Н. Бороздин (1883–1959) – востоковед, в свое время сотрудничавший с Тураевым, сам, однако, исследователь с очень широкими интересами и не египтолог27.
Сама книга, без обиняков посвященная памяти Тураева, довольно заурядна; хотя ее и отличает стремление писать красиво, но автора подводит чувство меры28. Типологически это напоминает то решение проблемы приспособления старого нарратива к новым условиям, которое нашел Кагаров: превознося силу личности Эхнатона, Авдиев при этом все же утверждает, что историей правит строгая закономерность29; также воздействие новой эпохи заметно в поверхностном, но частом внимании к экономической стороне дела – в книге сравнительно часто говорится о материальных ресурсах, которые приобретала в своих войнах египетская империя30, есть и рассуждение о социальной базе, в которой нуждалась проводимая реформа31. Сам интерес автора к рождению монотеизма, поданный без какой-либо критики религиозного сознания, указывает на дореволюционные корни его работы, когда вопрос о том, существовал ли настоящий монотеизм до иудейско-христианской традиции, был смелым и актуальным.
Все эти черты указывают на то, что характеризуемое десятилетие следует определять несколько иначе, чем делалось до этого. Иногда разговор о терминах имеет значение – если неудачно подобранное слово препятствует адекватному постижению предмета. К сожалению, характеристика 1920‐х гг. как раннего советского этапа историографии относится именно к такого рода решениям. Рождению этого восприятия способствовало перенесение политической периодизации на историю науки. Между тем с точки зрения отсутствия сложившейся системы научного знания, сосуществования старых нарративных форм и аморфности в складывании новых следует говорить о протосоветском этапе науки о древности. Раннесоветский этап – сталинский, который последует за протосоветским.
Наступлению этого этапа (которому посвящены последующие главы) способствовал ряд перемен. Прежде всего – частично осознанная, частично вынужденная необходимость сближения историков, которые пришли в науку от партийной деятельности, и тех, которые начали свою научную деятельность (или подготовку к ней) до революционных потрясений. Первым недоставало исторической квалификации, вторым – знания теории (впрочем, вскоре выяснится, что теорию толком не знал никто). Готовность части тех и других улучшить свои позиции и создала основу для дискуссий конца 1920‐х – начала 1930‐х гг. Диспуты 1920‐х гг. были спорами между «старым» и «новым», и они не предполагали механизма, который бы позволил участникам с разных сторон спора услышать друг друга. А вот дискуссии об азиатском способе производства, начавшись с достаточно абстрактных теоретических споров с политической окраской, постепенно перешли к более научному обсуждению, предполагавшему выработку механизмов согласования положений теории (которую также надо было прояснить) с наличествующей фактической базой. Примерно ту же задачу выполняли различные доклады об эпохах человеческой истории, поручавшиеся работникам научных институтов32. Все это формировало в итоге ту массу акторов, которые, споря друг с другом, начинали вырабатывать общий язык для изложения теории. В течение 1929–1932 гг. накопилась критическая масса для этих перемен, что подготовило рождение целостного нарратива – для него сложился тезаурус.
Более того, процесс складывания более или менее однородного поля исторического повествования проходил одновременно с процессом концентрации политической власти и сильно зависел от него. Политическая система, в которой Сталин поверг всех своих конкурентов, теперь выступала заказчиком производства одной четкой схемы мировой истории, не противоречащей марксизму, но при этом понятной людям без гимназического образования и особенно современной советской молодежи. Схема, как вскоре выяснилось, должна была быть насыщена конкретными историческими фактами, но не должна была утратить своей наглядности. Как именно этого следовало достичь, сформулировано не было.
Так, в условиях нарастающей несвободы историки (по крайней мере Древнего мира) неожиданно оказались в конкурентной ситуации: поскольку трактовка древней истории не была четко обозначена партийными органами, ее следовало дать самим и «продать» версию заказчику (ЦК партии или его представителям). Победа в этом соревновании означала попадание на вершину научной иерархии. Следовательно, сначала сформировалась база для научного сообщества, созданная в специфических советских условиях ориентации на единственную научную истину. Теперь же, с окончанием протосоветского этапа, добавилась еще и ориентация на единственно возможную трактовку этой известной истины. Так и возникла возможность появления внутри научного сообщества «ядра» победителей, авторов этой трактовки – их могло быть несколько, учитывая наличие разных исторических периодов и разных крупных проблем, но не слишком много.
Поскольку трактовки истории, созданные в 1920‐х гг. и восходящие еще к дореволюционному марксизму, оказались негодными (по разным причинам), а других не было, то их приходилось делать срочно, параллельно согласовывая теорию с фактами и теорию с самой собой (разноречивость утверждений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина была, в сущности, настоящим кошмаром для претендента на удачное толкование). Партия делала вид, что теория неизменна и прекрасно ей известна, тем самым как бы перекладывая ответственность за ее неудачное толкование на историков, многие из которых были либо недостаточно образованны, либо недостаточно подкованы в теории и в любом случае слишком обмануты пропагандой непогрешимости руководства (затем и напуганы), а потому часто искренне брали эту ответственность на себя. В действительности партийные структуры и их представители, включая Сталина, тоже не были способны определенно сформулировать свое понимание теории вплоть до второй половины 1930‐х гг. Можно было бы добавить, что партийцы, эгоистично борясь за власть, чаще всего так же искренне верили в то, что сама теория, при всех проблемах ее воплощения, научно безупречна, но фанатизм не оправдание.
Именно эта ситуация неопределенности, нервозности, на ходу вырабатываемых и постоянно нарушаемых «правил игры» спровоцировала жестокую борьбу между историками. Идущие параллельно в эти же годы проработки, чистки и общественная паранойя поиска заговорщиков и вредителей усилили и легитимировали жесткость методов борьбы за место в «центре» и ее крайнюю идеологизированность; иными словами, конкурируя друг с другом, историки не стыдились выдавать научную ошибку за ошибку политическую, которую легко было в те годы переквалифицировать в преступление.
Означает ли это, что так поступали все ученые 1930–1940‐х гг., то есть собственно сталинского периода? Поскольку источники далеко не полны и нельзя проверить все случаи, в настоящее время корректно ответить так: само нахождение в этой системе рано или поздно ставило историка перед выбором – либо действовать теми методами, которые выработались, либо терять свои позиции внутри системы. Опасность лишиться работы не за оппозиционность даже, а за недостаточное проявление лояльности была более чем реальна, как реальными вскоре стали промышленные масштабы доносов на тех, кто писал, говорил или действовал не так, как казалось приемлемым другим.
В этих условиях сфера занятия древней историей если и была «тихой гаванью» по сравнению с другими историческими эпохами (историки партии в 1930‐е гг. были практически расстрельной категорией), то и ее постоянно сотрясали бури. О том, как удалось сформироваться в этих условиях «ядру», я писал в другой книге33, здесь достаточно сказать лишь кратко: некоторым, как Жебелёву, понадобилось, по сути, написать лишь одно исследование, чтобы его признали «советским ученым»34. Но Жебелёв был фигурой знаковой, и как бы он ни был унижен этой сделкой с властью, большинству других историков такие условия вхождения в «ядро» и не снились. О тех, кому по той или иной причине не удалось в него попасть или надежно в нем закрепиться, рассказывают последующие главы этой части.
Поскольку в стадии складывания находилось «ядро», то не полностью оформилась и «периферия», следовательно, при описании динамичной ситуации «сотворения мира» невозможно было анализировать периферию как некую целостность; поэтому в следующих главах я стремлюсь показать отдельные стратегии тех или иных историков. В каждой главе есть главный герой, а в конце ее, если позволяет материал, я предлагаю читателям примеры похожих судеб.
5
Graham L. R. The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party, 1927–1932. Princeton, 1967; Алексеева Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука в России (1917–1923 гг.). М., 1968. С. 16–54; Иванова Л. В. У истоков советской исторической науки (подготовка кадров историков-марксистов в 1917–1929 гг.). М., 1968.
6
О реорганизации исторических отделений в университетах см.: Гришаев О. В. Историческое образование и историческая наука в СССР в конце 1920 – начале 1930‐х годов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2014. № 15 (186). Вып. 31. С. 144–145. Об опыте и вкладе новых коммунистических вузов: Метель О. В. Коммунистические университеты и становление советской исторической науки (1929‐е гг.) // VII Арсентьевские чтения. Т. 1. Чебоксары, 2017. С. 173–176; наиболее подробно: Груздинская В. С., Клюев А. И., Метель О. В. Очерки истории институциональной структуры советской исторической науки 1920–1930‐х гг. Омск, 2018.
7
Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук. Название это появилось в 1926 г., но фактически начало процесса организации относится к 1921 г. В 1920–1930‐е гг. переименования и реорганизации были явлением перманентным, поэтому именование сейчас какого-либо учреждения тех лет наиболее распространенным вариантом – условность. См. о РАНИОН: Калистратова Т. И. Институт истории ФОН МГУ – РАНИОН. Нижний Новгород, 1992.
8
См.: Метель О. В. О преподавании исторических дисциплин в коммунистических университетах Советской России в 1920‐х гг. // Социальные институты в истории: ретроспекция и реальность. Вып. 3. Омск, 2018. С. 140–154.
9
См.: Скворцов А. М. Секция древней истории Института истории РАНИОН как центр антиковедения 1920‐х годов // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 14. С. 159–165; Он же. Роль ГАИМК в становлении советского антиковедения // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 24. С. 197–201.
10
О марризме кратко см. Гл. 3, а также: Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М., 1991. Позицию В. М. Алпатова нередко критикуют как слишком ригористичную, и с этим можно было бы согласиться, если бы попытки критиков предложить иной взгляд на марризм были лучше обоснованы. См., например: Сухов С. В. Новое учение о языке Н. Я. Марра: миф или историко-лингвистическое явление // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия «Современные лингвистические и методико-дидактические исследования». 2009. Вып. № 2. (12). С. 5–14.
11
Большаков А. О. Ленинградский Египтологический Кружок: полгода предыстории // Aegyptiaca Rossica. Вып. 2. М., 2017. С. 54. Ранее А. О. Большаков предполагал, что основателем кружка был В. В. Струве, и только позже, желая оттеснить учителя, его выросшие ученики (к которым он, таким образом, относил Матье и Лурье) рассорились с ним. См.: Он же. Ленинградский Египтологический кружок: у истоков советской египтологии // Культурно-антропологические исследования. Вып. 2. Новосибирск, 2011. С. 7, 9. Судя по материалам, у основателей кружка отношения со Струве изначально были прохладными.
12
Piotrovskij B. Zur Revision der Verteilung des Wortschatzes in ägyptischen Wörterbuch // Сборник египтологического кружка при Ленинградском Государственном университете. Л., 1930. Вып. 6. C. 5, 9.
13
Никольский Н. М. Астрономический переворот в исторической науке. По поводу книги Н. А. Морозова «Христос», Ленинград, 1924 // Новый Мир. 1925. № 1. С. 156–175; Преображенский П. В защиту исторической науки от «реализма» // Правда. 1928. 13 мая; Ранович А. Методология Н. А. Морозова в истории античности // Антирелигиозник. 1933. № 1. С. 28–34.
14
Тюменев А. И. Очерки экономической и социальной истории древней Греции. Т. 1–3. Пг., 1920–1922; Он же. Введение в экономическую историю древней Греции. Пг.; М., 1923; Ковалев С. И. Курс всеобщей истории. Пг., 1923. Т. I–II; Он же. Всеобщая история в популярном изложении: Для самообразования. Ч. I. Древний мир. Л., 1925; Сергеев В. С. История древнего Рима. М.; Л., 1925; Причем эти закономерности совсем не обязательно были похожи на те, что потом будут признаны в качестве ортодоксальных. Так, Ковалев считал, что вместо единой всемирной истории необходимо рассматривать систему культурно-исторических циклов.
15
Сказанное совсем не значит, что так поступили все. Д. М. Петрушевский не только не отказался от теоретических рассуждений в своих работах, но и ясно манифестировал несогласие с марксизмом. В конце 1920‐х гг. диспут вокруг его взглядов превратится в шельмование историка. См.: Диспут о книге Д. М. Петрушевского (О некоторых предрассудках и суевериях в исторической науке) // Историк-марксист. 1928. № 8. С. 79–128.
16
Захаров А. А. Эгейский мир в свете новейших исследований. Пг., 1924. Переиздавался Тураев: Тураев Б. А. Классический Восток. Л., 1924. Вышла набранная еще в дореволюционной орфографии книга эмигранта: Ростовцев М. И. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Л., 1925. Выходили и работы зарубежных авторов, причем без отбора по степени «лояльности» к марксизму: Сальвиоли Г. Капитализм в античном мире. Этюд по истории хозяйственного быта Рима. Харьков, 1923; Мейер Э. Экономическое развитие древнего мира. Пг., 1923.
17
Например: «толпы праздных людей, жаждавших интересных зрелищ, собирались в цирках-колизеях»: Кагаров Е. Г. Спартак, его жизнь и борьба. Харьков, 1924. С. 8. (Курсив мой. – С. К.)
18
Там же.
19
В самом начале упоминается о плебеях как свободной бедноте, но потом, говоря о «римлянине», автор имеет в виду только очень богатых людей, которых сравнивает с русскими помещиками (Там же. С. 6). О том, что бедняки не могли презирать труд и почему они воевали в легионах, автор не сообщает, так что образ римлянина получается у него не только отвратительным, но и лживым.
20
Там же. С. 15.
21
Там же. С. 19.
22
Там же. С. 21. Сознательно ли Кагаров использовал просторечный оборот «дешевые цены» вместо элементарно грамотного «низкие цены», сказать трудно.
23
Например: Баллод Ф. В. Очерки истории древнеегипетского искусства. М.; Саратов, 1924. Автор в том же году эмигрирует в Латвию.
24
Собственно, он и новист Е. В. Тарле стали последними, кто был избран в Академию до ее реформы. Подробно сюжет описан И. В. Тункиной: Скифский роман / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 95–99.
25
См.: Там же. С. 102–109.
26
Письмо Д. М. Петрушевского С. Б. Веселовскому от 21 декабря 1924 г. // Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками. М., 2001. С. 415–416.
27
Может быть, роль в публикации книги Авдиева сыграла жена И. Н. Бороздина, ученица Тураева и хранительница египетской коллекции В. И. Голенищева в Музее изящных искусств, – Т. Н. Бороздина-Козьмина (1889–1959). См.: Томашевич О. В. Т. Н. Бороздина-Козьмина – ученица и наследница дела Б. А. Тураева в музее изящных искусств // Памятники и люди: сб. М., 2003. С. 122–140.
28
Реформу Эхнатона он называет «тончайшим и ароматнейшим цветком» египетской культуры, «трепетными и ароматными» называет он и египетские тексты, а переводы иероглифики на русский сравнивает с «тяжелым паровозом», который пытается нагнать «легкую древнеегипетскую колесницу». Кочевники у него «бурной водой» выливаются «внезапно из своих безбрежных пустынь»; именно так – водой из пустынь (Авдиев В. Древнеегипетская реформация. М., 1924. С. 11, 13, 17).
29
Там же. С. 15.
30
Там же. С. 22, 25–26, 45, 49, 50, 56, 63. Интересное сочетание на С. 74: «правитель, обладающий неиссякаемыми ресурсами материальной и духовной силы».
31
Там же. С. 125–127.
32
См.: Стенограмма прений по докладам Баженова Л. В. и Мишулина А. В. «Проблема античной общественной формации у Маркса и Энгельса» на заседании Секции докапиталистических формаций Института истории Комакадемии (2 июня 1931 г.) // АРАН. Ф. 359. Оп. 2. Д. 60; Стенограмма доклада и прений по докладу Соловьева «Классовая борьба и христианство в Древнем Риме» на заседании Института истории Комакадемии (2 ноября 1931 г.) // Там же. Д. 96.
33
Крих С. Б. Образ древности в советской историографии. Гл. 2.
34
См.: Жебелёв С. А. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре // ВДИ. 1938. № 3. С. 43–71. Ученый напечатал несколько статей на одну и ту же тему, но все они являются по сути лишь изводами одного и того же текста. После 1932 г., когда вышла первая публикация, его позиции в советском антиковедении становятся непоколебимыми, при этом он не марксизовал своих статей, хотя и не создал более никаких крупных трудов. Об истории вопроса см.: Гаврилов А. К. Скифы Савмака – восстание или вторжение? (IPE I2 352-Syll.3 709) // Этюды по античной истории и культуре Северного Причерноморья. СПб., 1992. С. 54–73.